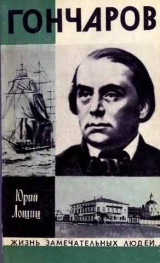
Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Но ничего нельзя уже изменить.
У него и натура такая: даже к маленькой перемене в своем быту долго будет примеряться, приглядываться, привередничать, прежде чем согласится на нее. Но если уж что-то сдвинул сгоряча, сразу, то так и пойдет дальше, ни за что теперь не отступится.
В его жизни давным-давно не хватает какого-то резкого, до основания встряхивающего события. Пусть даже писание романов отложится. Нет худа без добра: зато он, глядишь, наберет матерьялу для книги о плавании, запасется впечатлениями на весь остаток дней своих. И потом, не такой уж он ленивец, каким его все изображают. «Кто меня знает, – пишет он той же Языковой, – тот не удивится моей решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, и я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь».
Наконец все необходимые бумаги справлены, вещи и книги собраны, друзья и приятели на прощанье расцелованы. Кронштадтскую гавань корабль покинул 7 октября.
Этот первый, в общем-то крошечный, отрезок пути едва не стал для Гончарова и последним. Трудно было придумать худшее морское крещение для новичка. За двадцать три дня плавания фрегат трижды попадал в сильные штормы, несколько раз проходил мимо разбитых и оставленных командой судов, один раз сел на мель, десять суток лавировал в Немецком море, неудачно пытаясь войти в канал. То и дело припускал дождь со снегом, часто корабль погружался в туман. Вскоре на борту вспыхнула холерная эпидемия, от которой три матроса умерли. Еще один несчастный сорвался с мачты в воду и утонул.
Более всего Гончаров, естественно, опасался морской болезни. При первом же шторме он, глядя на страдающих матросов и офицеров, так взволновался, что закурил сигару. На что знакомый офицер заметил ему не без зависти:
– Вы курите сигару в качку и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!
Час за часом, а его действительно все никак не укачивало. Кто-то объяснил: это потому, что у него, значит, очень низко расположена грудобрюшная перегородка.
Но все же штормовая погода и на него действовала удручающе. Нервы настолько возбуждались, что даже в сравнительно удобном помещении (до Портсмута он путешествовал в адмиральской каюте) невозможно было ни писать, ни читать, ни даже думать о чем-либо постороннем, не связанном с качкой. В довершение ко всему от холода и сырости у него разболелись зубы.
А тут еще постоянный топот бегущих матросов прямо над головой: убирают какой-нибудь парус или, наоборот, ставят. Команда, оказывается, собрана наспех, перед самым отплытием, с разных кораблей, поэтому с первых же дней плавания проводятся учебные маневры, стрельбы из пушек, не хватало еще и бессонницу заработать.
Правда, насчет сна он, как оказалось, папрасно беспокоится. Спалось ему на корабле преотлично, и об этом свидетельствовало следующее происшествие. Как-то после полуденного короткого почивания он сидел в кают-компании и в который уже раз жаловался на нервы.
За столом кто-то из офицеров спросил, зачем это в пять часов палили из пушки.
– Позвольте, из пушки? – полюбопытствовал он. – Почему же я ничего не слышал?
Вся кают-компания грохнула от смеха.
– А пушка-то рядом с вашей каютой!..
Однако что за странные у него нервы! То, бывало, не мог всю ночь глаз сомкнуть оттого, что в его городской квартире жужжит одна-единственная муха, а тут – надо же! – непробудно спит в штормы, под грохот тяжелого орудия. И аппетит от морского воздуха развился у него какой-то чудовищный. И как-то совсем уж стал забывать, что под полом его каюты – во время погрузки в Кронштадте выяснилось – загружено в трюм около восьмисот пудов пороху.
Но все-таки еще до прибытия в Портсмут он переговорил с капитаном о своем намерении вернуться домой. Капитан не возражал, но, естественно, решающее слово будет за адмиралом.
В Лондоне, когда Гончаров прибыл сюда поездом из Портсмута, Путятин выслушал его просьбу не только без гнева или хотя бы раздражения, но даже с участием: «Лучше, конечно, воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться». Более того, адмирал был настолько любезен, что переговорил с русским посланником о возможности отправить его через Берлин и Варшаву за казенный счет. Иван Александрович отбыл в Портсмут за вещами. Но тут, при виде своего багажа, впал он в новое смятение. Да как же будет он тащиться через всю Европу, со станции на станцию, со всеми этими чемоданами, связками книг и ворохом бумаг?! Нет уж, легче плыть дальше вокруг света.
А тут адмирал как раз приехал и, узнав, что его литературный секретарь опять передумал, вновь не выказал ни гнева, ни даже раздражения; что касается зубной боли, то тропический климат для нее лучшее лекарство, и для нервов тоже; а покинь вы сейчас корабль, будете потом всю жизнь казниться, что отказались от такой великолепной экспедиции… И Иван Александрович с треском захлопнул разворошенные чемоданы и решительным таким маневром враз управился со своей рефлексией.
Да, пора уже ему было и за дело браться: темная от угольной копоти Англия, гигантский Лондон, веселое чудище железной дороги, военный корабль, в который втискивают паровую машину, магазины, музеи, памятники, толпы торопливых англичан – сколько материала для писателя! Надо немедленно приниматься за него, пока «Паллада» находится в сухом доке, где на нее устанавливают опреснительное устройство и добавочные пушки.
Русский фрегат простоял в доке почти два месяца. Спущенный на воду двадцать лет тому назад, теперь, в 1852 году, он, как выяснилось, был почти уже непригоден для дальнего и опасного плавания. В Портсмуте пришлось затеять самый настоящий капитальный ремонт: были заменены прогнившие балки и крепления, пришлось заделывать течи, укреплять мачты в гнездах, заново конопатить корпус.
Учитывая неблагоприятные сезонные ветра, адмирал решил изменить маршрут: не идти через Атлантику в направлении к Бразилии и мысу Горн, а спускаться вниз вдоль африканского побережья – курсом на мыс Доброй Надежды, с остановкой в Капштате, и далее, через Индийский океан, к Зондскому проливу. Всеми этими серьезными обстоятельствами, похоже, и объяснялась сдержанная реакция Путятина на «капризы» его литературного секретаря.
Тем временем взбодрившийся писатель самым активным образом занялся группировкой английских впечатлений. Перво-наперво отправил письма Майковым и Языковым. (Отныне на все время плавания установит он для себя правило: при первой возможности подробнейше отписывать своим петербургским друзьям о ходе экспедиции, о своем самочувствии, о всем, что запомнилось, привлекло внимание, поразило; чаще всего письма будет адресовать именно в эти два семейства – майковское и языковское, иногда – Юниньке Ефремовой, иногда – Ивану Льховскому, другу и сотруднику по службе в Министерстве финансов, одному из членов майковского литературно-художественного кружка; Майковых Гончаров сразу же просит: писем не давать никому, «а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может понадобится».)
Нечего и говорить, что самым сильным из первоначальных впечатлений плавания стало впечатление о паре, пришедшем на смену парусу. Установка паровой машины на военный английский парусник, которую Гончаров вместе со своими новыми товарищами наблюдал в портсмутском доке, на одних произвела впечатление неприятное, угнетающее, других, наоборот, воодушевила. Капитан «Паллады» – верный рыцарь парусного водоплавания, – тот по поводу хитроумной затеи англичан выражался без обиняков: «Черт бы драл эти пароходы!» Но были на фрегате люди, которые смотрели на дело с практической, а не с романтической стороны и потому появление пароходов приветствовали. Конечно, парусник красив, а при хорошем попутном ветре развивает скорость даже большую, чем пароход. Но зато последний идет по курсу при любом ветре, парусник же при неблагоприятных условиях становится фактически неуправляем. А как громоздка его привлекательная на вид, по страшно неудобная в употреблении оснастка!
Гончарову все эти доводы, особенно после десятидневного метания «Паллады» по Немецкому морю, казались вполне убедительными. Он – тоже за пароходы. «До паров еще, пожалуй, можно было не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли до того, что плаваем себе да и только, но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно – точно старая кокетка, которая нарумянится, набелится, подденет десяток юбок, затянется в корсет, чтоб подействовать на любовника, и на миг иногда успеет, но только явится молодость и свежесть – и все ее хлопоты пойдут к черту».
Словом, как бы кто из его товарищей по кораблю ни отнесся к этому решительному столкновению парусаи пара, каждому было ясно: событие это – не мелочь, тут не отделаешься злословием или криком «браво!», тут назревает нечто прямо-таки символическое, неминуемое, чреватое самыми решительными последствиями не только для одного мореплавания.
Недаром Иван Гончаров об этом столкновении сообщает на первых же страницах «Фрегата «Паллада». Тем самым он готовит читателя к восприятию основной смысловой антиномии всей книги. Ибо за частным противостоянием паруса и пара откроется более общее противостояние – двух грандиозных мироукладов, двух возрастовчеловеческой истории. Один из них – возраст наивного детства, восторженно-беспомощной молодости человечества, возраст поэзии, веры в чудеса, надежд и грез. Сейчас, в середине XIX столетия, все сроки этого возраста явно истекают.
На первый план истории все увереннее выступает «зрелость» человечества. Она заявляет о себе деловитостью, умным практицизмом, хозяйственным отношением ко всему подручному веществу земли, воды и воздуха. Любая материальная данность существует для того, чтобы извлечь из нее максимальную пользу. Нужно не подчиняться этим данностям, не любоваться ими, а приспосабливать их к собственным нуждам. А поэтому необходимо смело вторгаться во все несообразности имеющегося в наличии природного материала – изменять, подправлять, корректировать, усовершенствовать, ломать и перестраивать, разбирать на составные части и преобразовывать… Прокладывать дороги и мосты в неприступных горах. Разбивать сады в пустынях. Одевать обнаженных дикарей в европейские одежды. Увеличивать скорость сообщения между отдаленными материками. Налаживать постоянный обмен товарами в масштабах всего мира. Строить мануфактуры и заводы. Производить все больше и больше железа, механизмов, тканей, украшений, газет. Подтачивать веруво все чудесно-таинственное и взамен ее повсеместно вводить прочное и нерушимое знаниео полезном, приятном и необходимом.
Можно восторгаться этими и другими проявлениями «зрелости», можно слегка иронизировать по их поводу (как, кстати, почти постоянно и поступает Гончаров), по нельзя не видеть, что дело приобретает оборот весьма серьезный. И потому: «Скорей же, скорей в путь!» – восклицает он. «Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью».
Право же, и ему, и его товарищам просто повезло, что они попали в этот узкий промежуток между историческими сменами! «Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства… Части света быстро сближаются между собой: из Европы в Америку – рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов – пуф, шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания». Словом, этот «пуф» на глазах перерастает в новый мифчеловечества.
Повезло ему как свидетелюи потому, что путешествие их фактически началось с Англии – с абсолютного полюса всемирной «зрелости». Именно такой открылась Англия Гончарову эа два месяца пребывания на острове. Практицизм рядового англичанина – эталон для деловых людей всего света. Ни в быту англичапина, ни тем более в его деятельности нет, кажется, ни одной бесполезно проведенной, не учтенной в общем балансе полезности минутки. Даже во всяком малом движении он распоряжается собой по принципу наибольшей пользы, выгоды и экономии. Всякий отрезок времени оценивает с точки зрения заполненности наибольшим количеством деловых отправлений. Выжимая все возможности из собственной натуры, англичанин в том же направлении действует и на природу окружающую.
«Какая там природа! – восклицает Гончаров, – ее пет, опа возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее зольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины».
Иногда кажется, что в подобных характеристиках гончаровская ирония сильно сгущена и граничит уже с тоном пасквиля. Но, впрочем, свои обобщения путешественник на всяком шагу подтверждает фактами. Взять хотя бы заботу англичанина об удобстве. Она достигает иногда смехотворных размеров: придумано паровое устройство, резко сократившее скорость приготовления котлет. И для ускоренного выведения цыплят также используется всемогущий пар. И для обогревания ног во время приема пищи изготовлено механическое устройство… В магазинах бесчисленное разнообразие всевозможных – не безделушек, нет! – деловых, полезных мелочей, способствующих комфорту, наращивающих количество и качество удовольствий в жизни каждого покупателя.
Вообще английские магазины, английская торговля – вне всяких сравнений. Кажется, что здешняя торговля подавляет собою все другие виды деятельности передовой промышленной нации. «Здесь торговля есть жизнь», – обобщает Гончаров. Торговля в Англии – дело и удовольствие, серьезное занятие и одновременно увлекательнейшая игра, она успешно заменяет войну и любовь, она выше политики и философии, она – род новой – или очень-очень древней? – религии. Все имеет цену: начиная от вещи на витрине и кончая простым жестом. «Нет ни напрасного крика, пи лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин».
Даже непроизвольный сердечный порыв – жалости, великодушия, симпатии – англичанин старается регулировать и контролировать. «Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п.».
Так Гончарову суждено было стать первым из русских писателей XIX века, которые трезво и нераболепно посмотрели на «зрелую» действительность европейской буржуазной цивилизации.
Но Англия – увидит он дальше – не кончается в Англии.
ОТ ЗАПАДА К ВОСТОКУ
Путь до мыса Доброй Надежды оказался едва ли не самым благополучным сравнительно с остальными отрезками плавания. Только вначале в открытом океане выдалась многодневная качка, да и то – по ощущениям новичка – вряд ли более сильная, чем в Немецком море. Впрочем, она выводила из строя очень многих – и офицеров, и матросов, и кока, а однажды – даже самого адмирала. Кажется, пока что на целом корабле морская болезнь щадила лишь двоих – писателя и священника, отца Аввакума.
Качка качкой, но надо было обживать новую каюту, рассовать по надежным местам вещи, книги. Тут здорово помогал Гончарову его молодой денщик по фамилии Фаддеев – расторопный, толковый и смешливый матрос из костромских мужиков. Похоже, что забота о «его высокоблагородии» составляла для Фаддеева род развлечения среди однообразных матросских обязанностей. Когда на корабле всем дают для умывания морскую воду, он изловчится и достанет Гончарову пресной. Когда в сильную качку тот, не умея еще ходить «по-морскому», отсиживается в каюте без обеда, денщик принесет ему миски с горячим. По многу раз на дню забежит узнать, не грустит ли, не надобно ли чего, а то расскажет потешную историю, случившуюся только что в матросском кубрике или на палубе. Звал он Гончарова на «ты» и вообще, похоже, относился к нему чуть снисходительно, как к младшему брату. Иван Александрович отвечал ему примерно тем же, но часто испытывал и чувство восхищения, глядя на Фаддеева: как невозмутим, ловок, самостоятелен; сколько достоинства в каждом жесте костромича, когда вступает в общение с иноземцами, будь то высокомерные англичане или простодушные обитатели острова Мадера.
Штормовые холодные ветра при подходе к этому острову сменились мягким затишьем. В середине зимы здесь цвели олеандры, ясный сухой воздух благоухал под стать ароматам различных сортов мадеры, которой гостей потчевали за столом у губернатора.
Послеполуденной сонливостью пустынных улиц, дремотой здешней сиесты Мадера живо напомнила Гончарову какой-нибудь русский провинциальный городишко или степную деревню. Одна лишь фигура то и дело с педантичным упорством возникала среди этого идиллического пейзажа: некто «в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках». Ба, и тут он, английский торговец! Ошибиться было невозможно: тот же холодный цепкий взгляд, те же рыжие бакенбарды – таких, Иван Александрович то и дело встречал на улицах Лондона. Но что он делает здесь? Дегустирует местные вина? Наслаждается запахом цветов? Нет. Человек в черном фраке наблюдает, как местные жители, обливаясь потом, катят бочки с вином на пристань. Это еговино, егосудно, егогрузчики. Ничего, что Мадера принадлежит португальцам. Теперь здесь даже португальские блюда называются по-английски.
…Но вот остров остался за кормой, «Паллада», преодолев северный тропик, вошла в зону действия «вечного ветра» – пассата. Тут-то и наступил долгожданный отдых для всех, начиная от начальника экспедиции и кончая тринадцатилетним юнгой Мишей Лазаревым. Мальчик был сыном покойного адмирала Лазарева, у которого в свое время учились и Путятин, и капитан корабля Унковский, и некоторые другие офицеры «Паллады». Юнга стал общим любимцем команды. Специально для него еще в Кронштадте на фрегат был погружен рояль. Теперь, когда стихии наконец угомонились, Миша сможет возобновить свои уроки музыки. В другие свободные часы Гончаров занимается с ним – а заодно и с гардемаринами – русским языком.
В эти же дни он пишет первый законченный фрагмент будущей книги о кругосветном плавании. Очерк назван «Атлантический океан и остров Мадера». Впрочем, несмотря на прекрасную погоду, или, точнее, из-за прекрасной погоды, работать совсем не хочется. Какие дивные зрелища открываются с палубы, особенно по вечерам и по ночам! Однако пусть скажет об этом сам писатель, поднявшийся из каюты, чтобы подышать перед сном свежим воздухом: «…небо было свободно от туч и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят ониі Кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине млечного пути, все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих, таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять».
Глава «Фрегата «Паллада», из которой взято это возвышенное описание ночи в тропиках, носит подзаголовок «(Письмо к В. П. Бенедиктову)». Прозаик в своих пейзажных картинах как бы соревнуется с поэтом: Бенедиктов, как известно, был в первую очередь популярен как автор романтически приподнятых, «роскошных» описаний природы.
Что ж, природа тропического моря такова, что вовсе не нуждается в том, чтобы ее «приподымать». Она сама действует на зрителя магически, помогая отвлечься от ежедневных забот и как бы подняться в иную, таинственную сферу, где перед ним, кажется, вот-вот распахнется заветная книга мироздания.
Но подолгу пребывать в таких восхищенных состояниях невозможно – слабое сознание человеческое не выдерживает. Да и потом – тут Гончаров вступает в полемику с поэтом-романтиком – обязательно ли гнаться куда-то на край света за «грандиозной» красотой? Природа везде прекрасна, и берег Финского залива где-нибудь в районе Петергофа в солнечное утро нисколько не уступит рассвету в Атлантике.
Больше же всего ему, Гончарову, по душе здесь дневные часы, когда палубу завесят от солнца тентом и корабль со всем его населением начинает смахивать на… Впрочем, лучше снова предоставить слово самому путешественнику: «В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат припимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите иод защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка но наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов… Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы…»
Где-то в бескрайнем мире, над ласково сияющими безднами затерялась малая горстка русских людей; забылось, кто кому подчинен и кто над кем начальствует, отложены попечения и заботы, все сошлись в семейный круг для какого-то тихого, бессловесного собеседования… Может быть, через час или через сутки налетит ветер, размечет этот круг, кого-то навсегда вырвет из него, а кого-то столкнет друг с другом в приступе отчаянья и смуты… Как же надо дорожить русскому человеку этими часами соборной тишины! Скоро ли еще все так сойдутся? И сойдутся ли все?
Вот, кажется, одно из тех состояний природы и души человеческой, которые наиболее близки Гончарову как наблюдателю и одновременно участнику.
В таких состояниях нет ничего чрезмерного, преизбыточного. И человек и природа видят друг друга как в ясном, незамутненном зеркале. Чрезмерного, в чем бы оно ни проявлялось, Гончаров не любит и не принимает. В этом смысле показательно его поведение во время бури, застигшей фрегат уже и Индийском океане. Эпизод с «классическим штормом» – одно из наиболее цитируемых мест в биографической литературе, посвященной Гончарову. Его сухая и категорическая реплика на приглашение капитана полюбоваться картиной шторма: «Безобразие, беспорядок!» – обычно трактуется как выпад против литературного романтизма или как свидетельство своего рода «черствости» писателя. Но так ли?! «Ведь бури, бешеные страсти, – утверждает Гончаров, – не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастия в лаборатории природы…»
Красота, по Гончарову, прежде всего в мере. Не в судорогах и изломах водной или любой иной стихии, не в смятении и неистовстве, а в глубоком ровном дыхании, исполненном чистоты и покоя. Здесь мы можем уже говорить не просто о человеческих вкусах и пристрастиях писателя, но о его эстетических представлениях о прекрасном и безобразном. И более того – о его взглядах на смысл миротворения. Пусть картинами насилия и хаоса восхищаются нетрезвые души, пусть одержимо вопят, захлебываясь собственным энтузиазмом. Его на этой пене не проведешь! Вот когда природа перебесится, когда все в ней отстоится, отцедится, тогда-то он и выйдет полюбоваться образом истинной красоты.
В Саймонсбее (24 мили от Кейптауна) «Паллада» снова долго чинилась: заменяли гнилые части обшивки, проконопачивали весь корпус снаружи и внутри. Ремонтные работы растянулись на месяц. Группа офицеров, к которой присоединился и Гончаров, получила возможность проникнуть в глубь Африканского континента. Из Кейптауна ехали в экипаже дорогой, недавно построенной в горах черными невольниками. Один из спутников Гончарова фотографировал представителей местных племен для этнографического альбома, другие собирали редкие минералы, образцы фауны и флоры. Иван Александрович посетил три тюрьмы, где содержали пленных кафров, готтентотов, бушменов, встречался с пленным кафрским вождем Сейоло. Несмотря на аккуратную европейскую наружность маленьких попутных городков и селений с их отелями, магазинами и аптеками, чувствовалось: за этим благополучием таится трагедия. Колонизаторы – среди них и здесь активнее всех вели себя англичане – успеха пока что добиваются лишь с помощью оружия.
За месяц пребывания в Африке Гончаров изучил целую библиотечку книг, посвященных прошлому края. Эти сведения он потом использует в историческом очерке Капской колонии. Говоря о многовековой войне между белыми и местными племенами, путешественник приходит к выводу достаточно скептическому: «Этому долго не будет конца. Силой с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом». История показала, что «они» все же не подчинились.
Уже третья остановка «Паллады» за пределами Европы (после Мадеры заходили на острова Зеленого Мыса), а настоящей первозданной жизни путешественники, в общем-то, еще не видели. Да и увидят ли впереди, если везде, где бы ни высаживались, хозяйничает все тот же, будто прессом отштампованный европеец в черном фраке? «Путешествия утратили чудесный характер, – записывает Гончаров. – Все подходит под какой-то прозаический уровень».
В письмах, которые он шлет в Петербург, иногда сквозят разочарование, усталость. Однообразие морских пейзажей как-то подтачивает представление о реальности преодолеваемого пространства. Казалось бы, совсем недавно покинуты скалистые берега Африки, а вот уже впереди острова Индонезийского архипелага. Вообще все путешествие до странности похоже на сон: «не верится мне что-то в эти океаны, в эту Яву, Суматру, не верится потому, что переходы морские как-то незаметны».
Стихия сна из субъективного авторского ощущения разрастается на страницах «Фрегата «Паллада» в многосложный, чрезвычайно емкий образ. Ходовую для тех времен метафору «дремлющий Восток» Гончаров обыгрывает на десятки ладов. Небо сонное, море спящее, земля дремлющая: и люди, конечно же, спят, дремлют, пребывают в каком-то забытьи; «индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок»; «малаец лежит на циновке»; даже часовые с ружьями ползают, «как сонные мухи».
Азия – словно некая на тысячи миль распростершаяся Обломовка. Но если присмотреться, это у него вовсе не сатирический образ. «Сонное царство» Востока постепенно проявляется в книге как своеобразная форма самосохранения, пассивного противостояния инородному напору.
…После основательного шторма в Индийском океане старая «Паллада» оказалась в аварийном состоянии. С первой же большой стоянки Путятин шлет в Петербург офицера с просьбой снарядить новый фрегат, на котором можно было бы завершить экспедицию. Скрывая от своих друзей истинное положение дел, Гончаров в одном из писем все же вынужден полушутя признаться, что корабль «течет как решето». «Между тем мы идем в самые сомнительные, малоизвестные и ураганистые моря».
Теперь стоянки по необходимости становятся чаще: Анжер, Сингапур, Гонконг… Душную тропическую весну сменяет еще более душное лето. Малайцы, индусы, китайцы, армянские купцы… На стоянках фрегат с утра до ночи облеплен лодками мелких торговцев, его каюты завалены грудами ананасов и кокосовых орехов, бананов и плодов манго, похожих на крупную желтую сливу.
В Сингапуре Гончаров впервые увидел, как в отеле англичане и американцы, садясь в кресло, кладут ноги на стол.
Здесь же, в порту, русские осматривали устройство китайской джонки. В городе на вопрос, имеются ли тут слоны, кули ответил, что есть всего один, но посмотреть его нельзя, потому что он работает на сахарном заводе.
В китайском квартале заходили в грязные лавочки, над которыми торчала надпись по-английски, свидетельствующая о дозволенной продаже опиума.
Посетили буддийскую кумирню и капище индусов. Проезжали мимо европейских дач и вилл, с архитектурой почти такой же, как в Лондоне или Кейптауне.
Вот, оказывается, какова современная экзотика: она не в дикой нетронутости природной жизни отдаленных народов, а в насильственном и чаще всего безвкусном смешении местного и привозного стилей. И чем дальше от Запада к Востоку, тем это смешение резче бросается в глаза. Европеец все агрессивнее навязывает аборигену свою «просветительскую» программу. Податливый абориген в чем-то как будто подчиняется. Но по улице мимо высокомерного европейца он проплывает все той же лениво-величественной, поистине царственной походкой, какою ходят здесь люди от сотворения света. А те, что сюда, по замечанию Гончарова, «стеклись с разных концов мира «для стяжаний», надолго пе задерживаются: быстро утомляет их заданный самим себе темп, жадность к восточной роскоши. Но на смену летят другие. Переборет ли Запад, устоит ли Восток?
Волны цивилизации одна за одной катят от своего европейского полюса и, рано или поздно, должны докатить до самых отдаленных земель и народов. Вот ведь и «Паллада» не просто так, не ради прогулки столько уже месяцев скрипит через моря и океаны в надежде добраться до Японии. «До тридесятого царства», – как в шутку называет Гончаров цель миссии.








