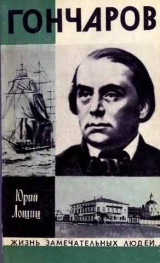
Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Этот легкомысленно-свободомысленный тон придавала «Подснежнику» резвая молодежь. Особенно бурно сочинительствовали Аполлон с Валерианой. Впрочем, почти не отставала от них в продуктивности и радикализме Евгения Петровна. Солик пописывал в основном басни.
Из номера в номер редакция задавала своим читателям острые вопросы, иногда с привкусом ребячливого афеизма, как, например, такой: «О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?» А однажды опубликовали вопрос, в котором даже проглядывала тенденция к эмансипации женщин. «Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой обычай, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?»
Но, впрочем, этот вопрос был пределом допустимой в журнале прогрессивности. В основном здесь преобладали темы возвышенные, сюжеты нравоисцеляющие. Евгения Петровна, к примеру, в своих «Деревенских дневниках» с восторгом живописала красоты девственной природы, которую не омрачает угарное дыхание городских улиц. В ее панегириках сельскому раздолью угадывалась вдумчивая ученица Руссо. Она же выступала в журнале как поэтесса и композитор. «Забудь, пришлец земли, святую душу девы…» – так начинался «Романс» Евгении Петровны. Кто таков этот таинственный «пришлец земли» и чью именно «святую душу» рекомендуется ему забыть, об этом вряд ли кто из читателей мог составить ясное понятие. Наиболее трезвые из них догадывались, что автор вовсе никого и не подразумевает и что вся изложенная тут сердечная драма – не более как поэтический туман. Но произнесть догадку вслух значило бы грубо поранить деликатную натуру сочинительницы.
Чаще, чем романсы, звучали со страниц журнала бравурные музыкальные пиесы: то «Мазурка», то «Мазурка Варварская», а то даже «Мазурка Дьявольская». Впрочем, под угрожающими названиями могли скрываться безобидные шутки, розыгрыши. Так, стихотворение, мрачно озаглавленное «За день до скончания мира», заключало в себе, если прочесть начальные буквы строк, чье-то невинное признание: «Я люблю Машу».
Энергия молодежи направлялась опытным водительством обоих домашних педагогов – Солоницына и Гончарова. Они выступали иногда в журнале и как авторы. И хотя участие это окутывалось тайной, она была весьма прозрачной. Неужели трудно было догадаться, кто, к примеру, скрывается под инициалом «Г», которым помечены в пятом номере «Подснежника» за 1836 год несколько лирических стихотворений? В одном из них, названном «Отрывок из письма к другу», автор горько сетовал на любовное невезение:
Не утешай меня, мой друг!
Не унимай моей печали!
Ты сам изведал свой недуг
В тот час, когда ее венчали.
Вздохом сожаления об утрате начинался и «Романс», подписанный тем же инициалом «Г».
Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви —
Конечно, рядом с рифмованной болтовней мальчишек, рядом с туманными воздыханиями Евгении Петровны этп строки Гончарова выглядели вполне благополучно. Но он-то сам прекрасно ведь понимал, что все это слабо, пусто, подражательно. И куда только делось томление духа, которое еще не так давно побуждало его выдумывать подобную чушь! А подумать только, как воспламеняли его тогда собственные стихи! Не он ли грезил в темном жару вдохновения, что его строки и сам Пушкин похвалил бы, попадись они ему чудом на глаза? А теперь? Разве посмел бы отнести их в пушкинский «Современник»? Нет, только для «Подснежника» и годятся они, да и то под литерой «Г».
Это было еще в Москве. Однажды он зашел к обедне в собор Никитского монастыря. Еще с детских лет он был научен, что во время службы нельзя давать воли своим мыслям. Пусть они будут целиком заняты молитвой и тем, что произносится с амвона, из алтаря или звучит с клиросов. Нужно, чтобы умишко не шалил, чтобы внимание не рассеивалось, не соскальзывало на постороннее, внешнее. А иначе и стоять тут незачем. Лучше тогда пойди побегай, побей баклуши, и то греха будет меньше.
Но сегодня грешил он вовсю. Глазами то и дело косит в сторону, и шею-то вытягивает, и на цыпочки-то привстает, ай-ай-ай… Все пространство храма как в тумане, и лишь один силуэт виден ему до того отчетливо, будто тушью прорисован. Иван Гончаров буквально впивается глазами в этот небольшой мужской затылок с загривком кудрявых волос, уже чуть редеющих на темени, в этот изредка открывающийся острый профиль с не по-русски хрящеватым вскрылием маленькой ноздри.
Вот как распрыгался у студентика по-над самым сердцем бесенок любопытства. Почти два часа не отрывал глаз от этого некрупного затылка с невнятным просветом на темени, и лишь под конец, после отпуста, замешкался и увидел на миг совсем близко от себя все его лицо – усталое, почти хмурое: оливково-бледная кожа, сжатые губы, чуть выпуклые глаза под набрякшими веками. Пушкин.
С того времени он начал читать Пушкина всего подряд. Что смог, купил, а что достал у дружков. Ни о ком, кроме Пушкина, он не думал. Пушкин заслонил все, всех. Пока существует Пушкин, заповедь «не сотвори себе кумира» – пустой звук. Пушкин открывал ему, что такое грусть, восторг, сострадание, гнев, полнота счастья, корчи ревности, вдохновенный пыл. Пушкин учил понимать искусство как священнодействие. Пушкин восславил женскую красоту, но ему же доступно и молитвенное озарение. Пушкинские строки проливают в душу невыразимую сладость, но они же жгут сердце раскаленным глаголом…
Однажды во время лекции по истории русской литературы – ее в своей утомительно-красноречивой манере читал им профессор Давыдов – дверь аудитории распахнулась, и легкое «ах!» прошелестело по рядам: у входа стоял министр просвещения Уваров, а рядом с ним… «Точно солнце озарило всю аудиторию…», – будет он потом рассказывать майковским мальчишкам, будет вспоминать до преклонных лет.
Рядом с министром молоденький филолог увидел своего– и теперь уже навсегда своего– Пушкина! «Точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий…»
Между тем Уваров представил студентам гостя.
– Вот вам теория искусства, – эффектно указал он на примолкшего Давыдова. И – после паузы – обернувшись к Пушкину: – А вот и самое искусство!
Давыдов торопливо скомкал конец лекции – он читал разбор «Слова о полку Игореве» – и стал сгребать с кафедры свои пособия. Впрочем, уйти ему не удалось. По направлению к кафедре стремительно двигался еще один представитель «теории искусства». Это был профессор Каченовский, который, дожидаясь своей лекции, сидел в аудитории. Студенты замерли: яростный спорщик Каченовский настолько возбужден, что не замечает ни министра, ни поэта.
Не успел Давыдов прибрать с кафедры бумаги, как его враг ринулся в атаку. Не рано ли восхищаться красотами «Слова», когда еще не доказана подлинность этого памятника?..
Пушкин как будто нарочно пришел именно сейчас. Не ослышался ли он? Неужели господин Каченовский всерьез считает поэму всего-навсего хитроумной подделкой?..
– Подойдите ближе, господа, – обратился Уваров к студентам, – это для вас интересно.
Молодые люди сгрудились вокруг гостей и профессоров. Гончаров оказался буквально в пяти метрах от Пушкина. Ближе протиснуться было невозможно. Слушали затаив дыхание. Каченовский выступал раздраженно, как будто в факте древности «Слова» была для него личная обида. Круглые очки на его воспаленном лице холодно поблескивали. Пушкин держался аристократически-учтиво, говорил сдержанным, чуть глуховатым голосом, но чувствовалось, что эта сдержанность дается ему усилием воли.
О как любил его в эти минуты юный Гончаров! Как желал, чтобы поэт победил, переспорил спесивого Каченовского! И еще желал: пусть Пушкин глянет на него, хоть мельком. Ну и что ж, что он, Ванечка Гончаров, но вышел ростом, что нет на лице его ничего мужественного, что пи одна крепкая морщина не бороздит лба. Пушкин даже и по такому расплывчатому, кругловато-неопределенному лицу все прочитает и поймет…
Это было как в сновидении: и рядом, и ускользающе-недостижимо, несвязуемо.
И еще раз он увидел Пушкина. Совсем недавно. Уже здесь, в Петербурге.
По дороге из департамента домой он в первый год своей столичной жизни чуть не каждый день заглядывал в книжные лавки. Это был зуд негасимый – прицениться, полистать, подержать в руках подольше, но в итоге так ничего и не купить из того, что особенно хочется. Л починка сапог? А плата за комнату?.. Обычное запойное увлечение литературного юноши, на которого один лишь вид коричневых корешков с тиснением и позолотой действует как вино. Магазин он покидает с тоскливым вздохом чужака, обделенного на пиру. Но назавтра все равно придет сюда снова.
И вот на Невском, в лавке Смирдина, когда молодой чиновник разглядывал знакомые обложки, рядом с ним раздался волнующе знакомый голос, негромкий, глуховато-сдавленный. Гончаров оглянулся и вспыхнул. Он стоял в двух шагах и разговаривал с хозяином лавки.
У поэта было усталое, матово-бледное лицо. Петербургское небо кладет свой болезненный отсвет даже на чело гения. Разговор шел о чем-то серьезном, деловом, и Пушкин говорил сдержанно, почти бесстрастно, но не надменно.
Если бы знать все наперед. Тогда бы он, конечно, дождался конца их разговора, потом сделал два-три шага и произнес всего несколько слов. Нет, он не стал бы надоедать Пушкину со своими стихами. Он сказал бы самое главное – всего в нескольких словах. Если бы ему побольше смелости. И если бы он знал все наперед.
Всему свое время. Вон уже и Володечка Майков допущен в «Подснежник» в качестве поэта. Нет, нет, хватит с нас ямбов и хореев. Ямбом этим, как верно замечает Александр Сергеевич, «пишет всякой, мальчикам в угоду пора б его оставить…». И, как замечает он же, «лета к суровой прозе клонят…». А то как бы не вышло такого конфуза, как недавно с Бенедиктовым. Уж до чего, казалось бы, мастеровит, едва ли не классик, и вдруг на всю читающую Россию распушил и осмеял его в московском «Телескопе» какой-то Белинский. Маленький, робкий Бенедиктов теперь еще больше будет тушеваться и робеть в обществе. Но если говорить, напрямую, то – ей-ей! – поделом ему досталось…
«Лета к суровой прозе клонят…» Для двенадцатого номера «Подснежника» написал Гончаров маленькую повесть «домашнего», как сам он потом говорил, свойства. Ничего сурового, однако, в этой прозе не было. Совсем наоборот, когда собрались в гостиной на ее прослушивание, когда зачитал он несколько первых предложений, поднялось оживление, смех, галдеж, и не обрывался этот ободряющий шум уже до самого конца чтения. Речь в повести шла о некоем семействе Зуровых, в котором Майковы тут же угадали самих себя.
Перво-наперво был опознан, конечно, «большой круглый стол, перед которым на турецком диване сиживала Мария Александровна (то есть Евгения Петровна), добрая хозяйка дома, и разливала чай». Моментально был узнан и Алексей Петрович (читай – Николай Аполлонович), который «ходил обыкновенно с сигарой и чашкой холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил». Фигурировали тут и проказливые детки. Присутствовал и старинный друг семейства Вареницын (разумеется, Солоницын).
«Помню, наконец, – сообщал автор, – свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной задумчивой Феклы (да это же Юничка!), с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например, о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья, или сколько аршин холста потребовалось мне на рубашки и пр., на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы».
Уже из этих добродушных характеристик явствовало, что повесть должна быть насыщена самыми неожиданными и веселыми событиями. Чего стоил хотя бы портрет еще одного действующего лица – обжоры, добряка и лежебоки Никодима Тяжеленко: «У него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо: вообще все тело падало складками, как у носорога, и образовывало род какой-то натуральной одежды». Похоже, от такого сравнения не отказался бы и сам Николай Васильевич Гоголь.
Замечателен был и натюрморт обеда, вкушаемого Тяжеленной: «Часть ростбифа едва умещалась на тарелке, края подноса были унизаны яйцами, далее чашка, или, по-моему, чаша шоколада дымилась как пароход».
В шутливо-патетических тонах описывал автор приход весны. «В природе поднялся обычный шум: те, который умирали или спали, воскресали и просыпались, все засуетилось, запело, запрыгало, заворчало, заквакало – на небеси горе и на земли низу – и в водах, и под землею».
Весна производит дикий переворот в семействе Зуровых. Все они– и взрослые и дети – начинают судорожно позевывать, прихихикивать, в глазах появляется странный блеск, сумасшедшинка. Тяжеленко называет это их состояние «лихой болестью», которая состоит в чудовищно развитой страсти ко всевозможным загородным прогулкам и путешествиям. Едва дотерпев до апреля, Зуровы «пускаются вброд по ручьям, вязнут в болотах, пробираются между колючими кустарниками, карабкаются на высочайшие деревья, сколько раз тонули, свергались в пропасти, вязли в тине, коченели от холода». Исступленные любители рыбалки, отец и сыновья готовы ради трех ершиков целый день мокнуть под дождем и ни одной лужи не обойдут, чтобы не забросить в нее удочку. А хрупкая и болезненная мать доводит себя прогулками и экзальтированным обожанием природных красот до такого измождения, что потом подолгу лежит в постели в полуобморочном состоянии. Путешественники сплошь да рядом попадают впросак, принимая обычные овраги за величественные пропасти, а свалки городского мусора – за горные кряжи. Воспитанные в романтическом духе, они без устали фантазируют и то и дело больно ушибаются о невзрачную действительность.
Но, несмотря ни на что, Зуровы изобретают все новые и новые маршруты прогулок. «Лихая болесть» наконец разыгрывается у них до такой степени, что однажды семейство навсегда исчезает из Петербурга. Его следы обнаруживаются в… Америке, но и там, всего несколько лет проживя оседло, Зуровы однажды «пустились в горы, откуда более не возвращались».
Незлобивую эту сатиру на самих себя Майковы приняли с восторгом. Автор «Лихой болести» не просто потешил слушателей. Первый прозаический опыт его – лучшее из беллетристических сочинений «Подснежника». Ему нужно писать еще и еще. Это его стезя, его планида. Он не просто самая яркая литературная звезда салона. Он, без преувеличения можно сказать, надежда отечественной письменности. Да, да, нечего отмахиваться! Пусть только попробует он теперь не писать прозу, Тяжеленно этакий!..
Сколько таких вот блаженных вечеров пронеслось незаметно в доме на Садовой улице! Сколько туч провлачилось тем временем над крышами города, дождевых и снежных, однообразно угрюмых. Да и иных всяческих туч… Спасибо славным Майковым! В их уютном жилище, где гостю никогда не было зябко и голодно, где никто его ни к чему не принуждал: хочешь – сиди с дамами за чайным столом, хочешь – пойди в мастерскую или в любую иную из просторных, с высокими потолками комнат, где молодежь поет куплеты либо степенные гости обсуждают внутри– и внешнеполитические события, хочешь – влюбляйся, а хочешь – уединись и дремли, полулежа на диване в каком-нибудь из темных закутков, – словом, как хочешь, так и поступай, только не хмурься, не грусти, не хандри, – в этом их доме он переждет непогоду первых своих самостоятельных лет вдали от материнского крова. В этом доме будут бескорыстно радоваться его будущим писательским успехам, его продвижению по службе. Здесь будут искренне переживать по поводу его сердечных невезений. С волнением ожидать его писем, помеченных штемпелями почтовых агентств южного полушарии.
Суматошные, шумные, разнообразно и взахлеб даровитые, нежные и трогательные, открытые и неизменно постоянные в своем чувстве к нему Майковы, до свидания, до встречи, до завтра, до послезавтра, до новой радости!…
Если бы знать все наперед…
«И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это неверно – о смерти матери. Да! Матери!»
Так и не подошел он к живому Пушкину. Хватало ему и того, что знал всем своим существом: он где-то рядом, вблизи. И делалось легче. Незримым присутствием Пушкина был напитан воздух в доме Майковых. Весь этот город был как бы навеян его стихами: и мощные набережные, и гранитный столп посредине Дворцовой площади, и шумы лип в Летнем саду, и – в разрыве туч – холодный закатный свет над серой пустыней залива.
И вот теперь, когда егоне стало, все это, навеянное его стихами, тоже должно бы исчезнуть. А оно не исчезает, стоит в какой-то нерешительности: существовать дальше или нет?.. Столп. Здания. Колонны. Мосты. Шпили… Странно.
От заснеженной Дворцовой площади виден каменный изгиб Мойки. Там, в тесном пространстве между решеткою набережной и стенами домов, безмолвная, шевелится темная толпа. Медленно движутся к егодому. Тщедушный свет январских сумерек на глазах отлетает, как будто закрывают дверь, и осталась только узкая щель, и в нее дует.
СОМНЕНИЯ
Чем дольше находился Иван Гончаров в Петербурге, тем отчетливей видел: жизнь складывается совсем не так, как ему в свое время мечталось. Служба была ему скучна, как и всякая служба, которая не занимает всех помыслов, чувств и вожделений. Есть артисты службы, для них она подобие творческой игры. Им и карты в руки. Есть гении-чиновники, и слава богу, что они есть, потому что без них, пожалуй, моментально бы замерла деятельность всех отсеков государственного корабля. Есть поэты бюрократии, их имена обычно неизвестны широкой публике, она даже привыкла их поругивать, хотя и живет изо дня в день по сюжетам, разработанным ими.
Словом, он не был из тех, кто всякое государственное учреждение считал фабрикой ненужных циркуляров. Если страна, тем более такая большая страна, не хочет назавтра превратиться в неуправляемое и беспомощное пространство, ей нужны чиновники, маленькие и большие, но обязательно толковые, любящие свое дело.
Но сам себя он толковым чиновником считать не мог – именно потому, что дела этого не любил. Переводить на русский язык прозу немцев или французов было ему куда приятней, чем статьи немецких, французских и английских экономистов, пусть даже и чрезвычайно умные статьи.
Как прикажете совмещать службу и страсть к писательству? Мрачный мэтр немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, почти всю жизнь тянувший ненавистную лямку чиновника, нашел выход в крайнем литературном отщепенстве, в богемно-мистическом разгуле. Пример заразительный! Сколько потом юнцов полетело по следам Гофмана: если ты гений, будь вызывающе одинок, противопоставь себя безликой толпе, целому обществу, всему своему веку, смело преступай общепринятые нормы, пей до белой горячки, подружись с темными ангелами безумства, сделайся сам себе богом!…
Гончарова такой путь не прельстил. Ни в молодые годы, ни позже он не впал в грех художнического высокомерия. Похоже, у него были врожденный талант гармонической уравновешенности, чувство меры и такта по отношению к прозаически-заурядным людским занятиям, какими бы «низкими» ни казались они сравнительно со «священнодействием» художника.
И все же службу свою он не любил. Она не могла насытить его полностью и мешала полностью насытиться писательством. Не насыщала она и в материальном смысле. Жизнь в столице оказалась куда дороже, чем он мог предполагать. При поступлении в Департамент внешней торговли ему назначили годовое жалованье всего-навсего в 514 рублей 60 копеек, итого в месяц выходило менее пятидесяти рублей. На регулярную помощь из дому рассчитывать не приходилось – большой симбирский дом существовал теперь в основном на доходы от двух трегубовских деревень. Кое-какой приработок давали Гончарову уроки. На частые гонорары надежд не было. Мы не знаем даже, предлагал ли он в эти годы что-нибудь из написанного петербургским журналам. Скорее всего на такой вопрос следует ответить отрицательно. Судя по тому, что первый большой очерк Гончарова «Иван Савич Поджабрин», написанный в 1842 году, отдан автором в печать лишь спустя шесть лет, начинающий прозаик еще очень нерешителен и работает преимущественно «в стол». А многое, видно, и «в стол» не попадает: «Кипами исписанной бумаги я топил потом печки».
Бумагой, однако, много ли натопишь? Заботы о дровах на долгие месяцы питерских непогод также обременяли его бюджет. Но более всего денег у молодого человека уходило на одежду. Быть вхожим в приличные дома, служить в министерстве – это требовало первоочередного внимания к собственному туалету. Лучше недоедать каждый день, чем появиться хоть раз в департаменте или в чьей-либо гостиной с лоснящимися локтями и в насквозь сырых, расквашенных сапогах. Но даже экономия в еде не помогала, когда заходила речь о приобретении новой теплой шинели. Тут уж надо искать портного посговорчивей, чтобы принял заказ в долг.
В сентябре 1840 года, то есть пять лет спустя после поступления в Министерство финансов, Гончаров был «за отличную усердную службу» пожалован в титулярные советники. С такой скоростью продвижения по лестнице чинов ни на какую «карьеру» рассчитывать не приходилось. Ведь одно из главных значений слова «карьера», как он знал, именно и есть скорость.
Разговоры о карьере были излюбленной темой в кругу его сослуживцев. Французское это словцо, взятое из лексикона скаковых состязаний, произносилось тут с самыми различным интонациями – от шутливо-небрежных до откровенно завистливых или восторженных. В иных устах оно звучало на совсем уж циничный лад: вырваться вперед, обскакать соперников на всем ходу, посмеяться над тем, кто отстал и исчез в тучах взбитой пыли… Более умные произносили это слово иронически и всегда о ком-то третьем: «онделает карьеру». Но нетрудно было догадаться, что и их гложет та же забота. А где же понятия о бескорыстном служении добру? Или все эти высокие слова – пища для одиноких, нелепых в своей обманутости донкихотов?.. Как горько, однако, осознавать беззащитность юношеских надежд… Еще и поэтому не любил он свою службу.
Но куда, спрашивается, деться от нее? Майковы считают, что он безусловный талант. Каждое новое его выступление в рукописных альманахах встречается неизменными похвалами. Но долго ли может утешить молодого человека эта комнатная слава? Да, кстати, и в «молодых людях» он уже изрядно пересидел. В тот самый год, как ему исполнилось тридцать лет, Майковы справили торжество: у Аполлона вышел из печати первый сборник стихотворений. Книжка получила вскоре благосклонный отзыв самого Белинского. Почти тут же похвалили молодого поэта Сенковский в своей «Библиотеке для чтения» и Плетнев (друг покойного Пушкина) в «Современнике». Отозвался и «Сын Отечества»: «Не все его пиесы равного достоинства, но многие из них… напомнили нам Батюшкова».
Нет, Гончаров не завидовал своему способному ученику и от души порадовался его успеху. Но все же книжка Аполлона была ему как бы укором: что ж ты-то медлишь?..
Ленив, от природы ленив, – иногда оправдывался он сам перед собой или перед друзьями. Именно в эти годы и закрепилось за ним в салоне шуточное прозвище «принц де Лень» или просто «де Лень». Приняв его без возражения, он и сам с этих пор подписывал иные свои письма: «Гончаров, иначе принц де Лень».
Но, конечно, и лень не могла быть достаточной причиной для самооправданий. Тем более что уж кто-кто, а он-то умеет быть работоспособным, усидчивым, деятельным.
Нет, ни занятость по службе, ни ограниченность средств, ни какое иное из житейских обстоятельств не томили его в такой степени, как неуверенность в своих литературных возможностях. Что-то слишком затянулся его художнический дебют. Шутка ли, десять лет минуло, как его писательская проба появилась в «Телескопе», а он по-прежнему состоит в начинающих! И по-прежнему упражняется в переводах из западных знаменитостей.
Честно говоря, на переводы отчасти смахивали и его собственные опыты в прозе. Перечитывая их, он то и дело ловил себя на подражании уже известным, законодательным образцам. Тяжеленно из «Лихой болести» был словно списан с какого-нибудь гоголевского персонажа. Да и Иван Савич Поджабрин из одноименного очерка, как приглядишься к нему поближе, был – вместе со своим слугой Авдеем – слабым оттиском с гоголевских Хлестакова и Осипа: та же легкомысленность, хвастливость, слабость к женскому полу у одного и дремучая лакейская лень у другого.
Вообще Гоголь с его манерой письма, с характером его юмора, с его рельефнейшими типажами, был для молодого Гончарова каким-то наваждением, под чары которого он то и дело невольно подпадал. Ладно, если бы речь шла только о подражательстве. От последнего, в конце концов, не так уж сложно избавиться. Дело было в куда более существенном обстоятельстве: Гончаров и сам, по собственной природе, был склонен к тому, чтобы на многое в человеке смотреть так, как смотрит иногда Гоголь, – с мягкой необидной улыбкой. Он никогда не смог бы подражать Гоголю – автору фантастических повестей. Этот ошеломляющий, по-колдовски щедрый на выдумки Гоголь восхищал его, но вовсе не был близок. Зато благодушного, необидного в своем смехе Гоголя «Старосветских помещиков» он обожал. Проявленная писателем в этой вещи мера отношения к человеку казалась ему почти идеальной: любовь, отмеченная улыбкой снисхождения к людским слабостям.
В 1843 году Гончаров решил испробовать свои силы в жанре романа. Попытка окончилась неудачей. Но неудачей такого рода, которая уже свидетельствовала о недюжинных возможностях претерпевшего.
Видимо, немалая часть этого несохранившегося романа уже была написана. Было и название – «Старики». Отдельные главы автор читал у Майковых в присутствии старшего Солоницына, который вскоре отбыл ее границу. Солоницын проявлял самое активное участие в судьбе романа. В письме из Парижа (ноябрь 1843 года) он тормошит Гончарова: «Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед Богом и родом человеческим, что Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант… Мы найдем доброе место всему, что Вы ни сделаете».
В начале 1844 года Гончаров получает из Парижа еще одно письмо от Владимира Андреевича Солоницына; тот вновь интересуется «Стариками»: «Прибавьте известие о своем новом романе: кончен ли он?»
Два ответных письма не сохранились. Впрочем, нх содержание частично восстанавливается из полемических реплик гончаровского корреспондента. «Неужели надо быть стариком, чтоб быть литератором?» – вопрошает он в очередном своем письме.
Итак, делаем мы вывод, Гончаров медлит с написанием «Стариков», оправдываясь, видимо, отсутствием необходимого житейского опыта. «Неужели надо одеревенеть, сделаться нечувствительным, чтоб изображать чувства? Потерять способность любить, чтобы приобрести способность изображать любовь?» – продолжает возмущаться Владимир Андреевич.
Но, оказывается, у Гончарова есть и другой, более веский довод, который Солоницыным темпераментно опровергается в том же письме: «Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого русского быта («Старосветские помещики». – Ю. Л.), то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гоголя, и это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь».
Значат, снова магическая власть Гоголя повлекла нерешительного прозаика на путь подражания?
Или прав Солоницын и гончаровская «картина простого русского быта» вполне самостоятельна? По крайней мере, конспективно намеченная в солоницынском письме сюжетная линия «Стариков» – «два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше» – весьма разнится от сюжета «Старосветских помещиков».
В самом деле: «уединясь в деревне…» – значит, до этого обитали в городе, значит, резко порвали с прошлой жизнью, цивилизованному способу существования предпочли спокойствие «простого русского быта». «Совершенно переменились… сделались лучше…» – значит, в основание романа положен нравственный конфликт, события подчинены динамике духовного перерождения. Эта тема действительно вполне самостоятельна, во всяком случае, ее нет в «Старосветских помещиках», где отсутствует даже возможность какого-либо конфликта. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна искони погружены в атмосферу деревенского идиллического уклада. Они родились, выросли и умрут, не зная перемен, треволнений, пагубных страстей.
Выходит, Гончарову и вправду незачем было горевать из-за мнимой неоригинальности своих «Стариков»? Но что-то его все же сильно беспокоило. Конечно, тема побега из города и обретения счастья на лоне природы совсем не нова. Это, можно сказать, вечная тема, она существует в европейской литературе с тех пор, как существует городская цивилизация. Эта тема была уже у римлян – у Катона, у Горация, у Вергилия. Обильную дань отдали ей Руссо и Шиллер, а в России – молодой Пушкин. Но вечные темы потому и хороши, что за них может браться каждый и на свой страх и риск решать их по-своему.
И еще одно письмо из Парижа, в середине апреля: «Известие, что Вы отложили писать «Стариков», огорчило меня до крайности…» Снова смысл гончаровских самооправданий мы вынуждены отыскивать в письме его корреспондента. «Бесспорно, – горячится Владимир Андреевич, – что «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», Шиллеровы «Разбойники» и другие ранние произведения разных авторов слабее тех, которые эти же самые авторы написали впоследствии. Но из этого не следует ничего, что бы хоть мало-мальски оправдывало Ваш бесчеловечный поступок с бедными «Стариками»…»
Попробуем и тут, хотя бы пунктирно, восстановить ход рассуждений Гончарова: не стоит печататься рано, ранние опыты всегда слабы, и потом будет стыдно за них.
Но рядом с этим доводом вполне мог соседствовать еще один, гораздо более важный для тридцатидвухлетнего литератора. Приглядимся: все перечисленные им и повторенные его корреспондентом названия произведений (далее в письме Солоницына будет упомянута еще «Новая Элоиза» Руссо) посвящены теме разрыва с цивилизацией. Что-то в этой вечной и, скажем так, вечно юной теме Гончарова не удовлетворяет. Может быть, романтизм протеста, бегства и опрощения на лоне природы представляется ему уже чем-то не вполне серьезным в усложнившихся условиях современной жизни? Идиллия возможна для одиночек и сейчас, но что они могут противопоставить действительности «железного» XIX века? Да, герои «Стариков», схоронившись в своем блаженном закуте, становятся лучше, чем были до сих пор. Но изменится ли от этого жизнь большинства?








