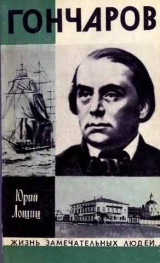
Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
О не кладите меня
В землю сырую:
Скройте, заройте меня
В траву густую!..
Эти нежно-грустные строки какого-то Ф. Тютчева Гончаров прочитал в своемномере. Что ж, в юности иногда так сладко думать о собственной смерти, но обязательно славной, сулящей бессмертие.
Но еще слаще думать о жизни, той, которая ждет их завтра, за стенами экзаменационного зала. Как далеко разлетятся они из своего священного гнезда? Какие поприща изберут?
После выпускных экзаменов, сданных летом 1834 года, Иван Гончаров отбывает в Симбирск (Николай по болезни остался в университете еще на год).
Планы у младшего были следующие: остаток лета провести в родительском доме, а потом, как только из Москвы пришлют аттестат об окончании университета, выехать в Петербург. О том, где и кем он в Петербурге станет служить, у юноши еще не было четкого представления. Об одном лишь знал твердо: ни с детства милое губернское приволье, ни даже мечтательная заштатная Москва с ее надеждами на идейное первенство в жизни страны уже не могут быть для него достойным полем деятельности. Рано или поздно почти все университетские молодые люди, ищущие применение своим умственным силам и задаткам, устремляли взгляд в сторону сурового, завораживающе ненастного северо-запада – в сторону призрачной и все-таки настоящейстолицы.
А пока, в ожидании аттестата, он в который уже раз безвольно погрузился в атмосферу неизменного и неистощимого баловства. Опять, как и в прежние его приезды, родные и слуги жили исключительно заботами о приготовлении для Вани всевозможных закусок и питий, о выборе лучших кусков мяса для жаркого и самой свежей рыбы для заливного, о качестве солений и маринадов, пирогов и пирожных, настоек и прохладительных квасов. После ознакомления с умеренной московской кулинарией эти старания умиляли его простодушием и забавляли чрезмерностью.
Опять, как и прежде, Трегубов возил его по улицам, где было все так же раздольно, пустынно и безгласно, удто город досматривает какое-то сладостное сновидение, доставшееся ему от предыдущего века. Правда, крестник обратил внимание на внушительные размеры нового собора, построенного в ампирном стиле, да на свежую массивную вывеску «Питейная контора».
«Откупщиквыстроил», – пояснил Трегубов.
Слово и фигура, им обозначенная, были юноше внове.
Он посетил памятные с детства городские окраины. Спускался с удочками к маленькой, шуршащей камышами Свияге – она, кажется, пообмелела, еще теснее заросла осокой и кувшинками. Ходил на охоту и на рыбалку мимо Венца, к берегу Волги. Как-то домашние устроили в честь его приезда пикник на одном из волжских островков, с самоваром и белоснежной скатертью между стогами уже зазеленевшего отавой луга.
После недавних экзаменационных волнений на душе у него была какая-то блаженная пустота, время почти застыло, и после бесед с матерью и крестным, с сестрицами и няней, после ужения рыбы и сидения за книгами у себя на «вышке», как он именовал комнату на верхнем этаже, у него оставалась еще уйма ничем не занятых часов. К тому же книги вскоре он все просмотрел, а публичной библиотеки в городе – это все же не Москва! – не было.
Трегубов советовал ему нанести необходимые визиты – не только в знакомые дома, но и наиболее известным лицам губернского центра, в том числе, конечно, и представителям власти. Ведь как-никак он и сам теперь лицо достаточно авторитетное.
Хотя и без особого рвения, «действительный студент» несколько визитов нанес, в том числе и губернатору Загряжскому. Встреча с последним вдруг на несколько месяцев изменила его планы.
События этих месяцев подробно изложены Гончаровым в очерке «На родине», который, так же как и воспоминания об университете, был написан им уже в пожилом возрасте. Здесь нет необходимости обильно цитировать очерк или подробно его пересказывать. Тем более что, по признанию автора, точное воспроизведение фактов не являлось в данном случае его основной целью и описанное в набросках «не столько было,сколько бывало».
Двадцатидвухлетний выпускник Московского университета с первой же встречи произвел на губернатора благоприятное впечатление. Загряжский (в очерке «На родине» он носит фамилию Углицкий) был по-своему незауряден: участник похода на Париж, сумевший затем выгодно показать себя перед Николаем I на Сенатской площади, изобретательный рассказчик, красавец и авантюрист, ловелас и вместе с тем блюститель хорошего тона, он, казалось, относится к тем людям, которые любую службу ощущают как изящную игру, приятную не только для себя, но и для всех подчиненных и подопечных.
Сейчас перед ним был юноша привлекательной внешности, безупречно одетый, свободно изъясняющийся на французском. Даже из краткого разговора Загряжскому было ясно, что он имеет дело с душой чистой, неиспорченной, словом, с представителем передовоймолодежи. Загряжский моментально разыграл в уме всю партию: своего нынешнего секретаря, чиновника умного и преданного, но у которого рыльце в пушку, он официально отстраняет от должности (и вместе с тем делает его чиновником особых поручений). А этому студенту предлагает место секретаря, точнее, исполнителя приходящих бумаг; более серьезных поручений доверять ему, конечно, нельзя. Выгоды подобного нововведения налицо. Во-первых, здешнее общество получит пищу для размышлений о возможных поворотах губернской политики. Во-вторых, в доме появится представительный молодой человек, которого нужно сдружить с супругой и дочерью, чтобы он почаще развлекал их приобретениями своего ума, а первую еще и отвлекал от унылых переживаний по поводу его, Загряжского, бесчисленных измен.
Вслух же было высказано следующее: в губернии, к сожалению, развелось порядочное число взяточников и казнокрадов, надо открыть против них решительную кампанию. Ему, губернатору, необходимы честные, высоконравственные соратники. Нужно внести в косную среду провинциального чиновничества свет истинного просвещения. Не согласится ли благородный юноша помочь ему в этом начинании? Зачем ему ехать куда-то в неизвестный Петербург, когда и здесь, на его родине… Словом, и раздумывать нечего!
Молодой человек колебался недолго. Дома, когда он сообщил о предложении губернатора, все пришли в радостное возбуждение: Трегубову польстило, что перед его крестником сразу, без труда, открывается отличная служебная перспектива; мать втайне надеялась, что теперь-то она сможет подыскать для сына подходящую невесту из местных девиц; сестры тоже воспрянули духом – как скучно было бы им одним по отъезде веселого забавника-братца; няня Аннушка – та тешилась одной лишь бескорыстной любовью: не где-то за тридевять земель, а тут, рядом, будет жить-поживать ее Иванушка – ненаглядное румянощекое нагляденье.
И вот он явился в губернскую канцелярию. Правда, кампания против мздоимцев в этот первый день начата еще не была. Отставной секретарь сдал дела секретарю вновь назначенному, познакомил его с чиновниками и архивом. В очерке «На родине» Гончаров мельком вспоминает: первой его просительницей в тот день была пожилая женщина, жаловавшаяся, что ее сыну не дают освобождения из «некрутчины», хотя он признан негодным к службе. По случайности жалоба этой женщины среди немногих других документов канцелярии за 30-е годы не погибла в пожаре, который бушевал в Симбирске летом 1864 года. Это дает возможность подробнее рассмотреть здесь, с какого рода сложностями должен был сразу же столкнуться молодой чиновник. Документ назывался: «Дело о симбирской мещанке Сергеевой, об отыскиваемой свободе из владения помещика Рушко сыном ее Давыдовым, неправильно отданным в рекруты».
Из бумаг и устных пояснений женщины выяснялась типичная картина помещичьего произвола. Этот самый Рушко несколько лет назад отправил ее сына в рабочий дом, где и держал два года, а затем отдал в рекруты, хотя, по словам матери, юноша «во всем корпусе своем всегда чувствует расслабление». Видимо, кто-то из грамотных горожан надоумил женщину, потому что в доказательство своей правоты она ссылалась на царский указ от 1828 года «О даче свободы тем дворовым людям и крестьянам, которые находились в противозаконном владении или распоряжении разночинцев».
Но войти во все обстоятельства этого дела Гончаров в тот день не успел. Вскоре его позвали наверх – к губернатору, который за завтраком имел обыкновение обмениваться новостями всякого рода, по большей части внеслужебными.
Такой распорядок и завелся у них отныне: в канцелярии секретарь проводил лишь малую долю своего времени. Основную же – у Загряжского, у его супруги, которую ему отныне поручалось сопровождать на выездах и балах, наконец, у их дочери, которой он доставал свежие журналы и книги по своему вкусу.
Выступление против чиновников-стяжателей все никак не начиналось. А между тем новичок узнавал от своих коллег и подчиненных поразительные подробности о размерах местных злоупотреблений: оказывается, буквально всякий здешний чиновник жил взятками, или, как говорилось, получал «доход». Но общественное мнение не находило в этом ничего зазорного: чиновнику-де на жалованье существовать невозможно, никак не обойтись без «дохода».
Еще поразительнее было то, что сам Загряжский – инициатор предполагаемой инквизиции, – как вылепилось из последующих разговоров с ним, поглядывает на эти «доходы» не только без гнева, но даже с улыбкой снисхождения. Правда, сам он, как все вокруг единодушно свидетельствовали, брезговал пользоваться «доходами». Да и зачем, если у него была своя, давно отработанная система: постоянное брание больших сумм в долг. Со временем секретарь услышал еще об одном невинном способе, которым пользовался Загряжский для затыкания брешей в своем бюджете. Рассказывали ему, что откупщик – первый денежный туз Симбирска – с недавних пор стал завсегдатаем на вечерах в губернаторском доме. Странная дружба объяснялась просто: Загряжский пакануне не обратил внимания на крупную финансовую проделку откупщика, и вот теперь тот, как сядет играть с губернатором в карты, так все проигрывает и проигрывает…
К зиме в город понаехало много народу: это из деревенских гнезд возвращалась в свои симбирские особняки родовитая здешняя знать. Участились взаимные визиты, балы, прочие увеселительные предприятия. А значит, и Ивану Гончарову приходилось теперь все чаще и чаще сопровождать губернаторшу и ее дочку во время выездов. Он и сам наперебой был приглашаем то в одном, то в другом доме. Молодость брала свое. Столько милых девичьих лиц замелькало на улицах и в гостиных Симбирска! Стоило ему немного дольше обычного потанцевать или поговорить с какой-нибудь из девушек, как на несколько дней только и разговору было у него дома и на женской половине губернаторского особняка: он теперь влюблен в такую-то. Дни и недели отлетали стремительно: не успеешь вкусить рождественской сладкой кутьи, а уже несут на столы новогоднего гуся и поросенка с хреном; отдымили, затянулись льдом крещенские проруби на Волге, и тут в вывороченном тулупе, на скриплых санях вваливается в город пышущая блинным румянцем масленая.
Но вот наступила в губернаторском доме тишина. Правда, не обычная великопостная тишина, а другая совсем, кажется, в любую минуту могла она прерваться истерическим плачем.
В городе стало известно, что пришла грозная депеша из Петербурга: Загряжского смещают.
Губернатор в тот день выглядел жалким, потрясенным. Долго совещался с какими-то лицами. Гончарову, не вдаваясь в подробности, пояснил, что это «съел» его здешний жандармский полковник – завистник и интриган. Подробности, впрочем, были неплохо известны канцеляристам, да, кажется, и всему городу. В последние времена Загряжский очень уж стал злоупотреблять «по женской части». В одном из здешних домов, говорят, его сильно побил некий разгневанный супруг. Петербург был не намерен мириться с подобным принижением авторитета власти, потому так срочно и отзывают Загряжского.
«Подставной секретарь» – так сам себя в шутку именовал Гончаров – уже давно видел всю зыбкость и двусмысленность своего пребывания в канцелярии. Уже давно он понял, что никакой борьбы со взяточничеством не начнется. Более того, при нем здесь не сдвигались в лучшую сторону даже такие, казалось бы, несложные дела, как то первое, с которым он столкнулся в утро своего оформления на службу, – о вдове и ее сыне-рекруте. Да и кого в первую очередь нужно было вразумлять и просвещать: самодура-помещика? мелких чиновников, которые берут мелкие же взятки? или губернатора с откупщиком, играющих «по крупной»?
Прекрасные порывы к бескорыстному гражданскому служению, которые вдохновляли его в университете, отплывали куда-то мимо этой грешной чиновничьей юдоли, как. светлые, но бесплодные облака, не способные оросить ее очистительным ливнем.
Но, может быть, там, в Петербурге, где он окажется совсем близок к мощным рычагам администрации, к смелому слову журналистики, может быть, там удастся разом, вдруг сделать то, на что тут, в провинции, потребуются десятилетия?
В конце апреля 1835 года он надолго простился с родиной и родней.
Начальные месяцы жизни в Петербурге – одно из наиболее расплывчатых мест в биографии Гончарова. Не сохранилась его переписка этого времени. Писатель никогда не собрался (или не захотел?) изложить свои первоначальные впечатления от Петербурга в очерке, наподобие университетских или симбирских воспоминаний. От этих месяцев уцелело всего несколько официальных документов, связанных с его именем. Один из них – прошение об определении на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов.
Не ирония ли судьбы?! Почему вдруг студент-словесник ступает на порог такогоучреждения? Ведь невозможно предположить, чтобы в нем вдруг пробудились заглохшие дарования «кандидата коммерции»? Или он пришел сюда поневоле, временно, пока не подыскалось «гуманитарной» должности?
Впрочем, имеется и как будто более подходящее объяснение: в Министерство финансов молодой Гончаров поступает если и не по собственному сознательному выбору, то, по крайней мере, с пониманием необходимости такого шага. Его новая должность – переводчик, и она даст возможность применить к делу знание языков: из-за рубежа поступает большое количество статей по экономическим вопросам, и министерство заинтересовано в том, чтобы вовремя знакомить своих сотрудников с содержанием наиболее значительных из них.
Итак, в известной степени он оказался все же при своемделе? Но теперь на очереди другая серия вопро сов. Кто помог ему устроиться? Влиятельный, хотя и опальный, Загряжский, вместе с семьей которого Гончаров приехал в Петербург? Или крестный снабдил его письмами к каким-нибудь своим старинным столичным приятелям? Или замолвили за него словцо неизвестные нам московские покровители?
Есть еще документ этой поры. Он вводит нас в обетановку первых служебных промахов и недочетов чиновника-новичка. Правящий должность казначея экзекутор с символической фамилией Грознов (фамилия, как увидим, вполне соответствует его действиям) подал в Департамент внешней торговли бумагу, подтверждающую, что с «действительного студента Гончарова за употребленную в Департаменте по сему делу вместо гербовой простую бумагу» взыскано шесть рублей.
Здесь не провинция, здесь нельзя зевать, оправдываться незнанием, надеяться на снисходительность начальствующих особ.
Зевать нельзя не только здесь, в учреждении, где каждый чиновник должен действовать как бодрая деталька одной громадной машины. Нельзя зевать и на улице, где ему в любую минуту могут раскрошить ногу колеса дико мчащегося экипажа. Ни в рыночном ряду, где карманник того и гляди «взыщет» с него рубли, оставшиеся после служебного штрафа.
Первые разочарования. И первые ошеломления. Этот город ни на что не похож. Симбирск и даже Москва рядом с ним – две расползшиеся, как тесто, деревни. Даже вода здесь течет не так. Москва-река стоит наподобие пруда, Волга словно убаюкивает саму себя. Стесненная темными стенами набережных Нева почти несется. Можно подумать, что где-то за пределами города находится гигантский механизм, беспрерывно толкающий воду к заливу.
А улицы? Народ валом валит по ним, как. мутные потоки в сырых и темных горных ущельях. Шелестящая пена звуков похлестывает до окон верхних этажей, над которыми наискось – рваные клочья туч.
…И еще документ этих же месяцев – клятва, обязательная для всех поступавших на государственную службу: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, что я не принадлежу ни к каким ложам масонским, или иным тайным обществам, внутри Империи или вне ея существовать могущим, и что я и впредь принадлежать отныне не буду. Губернский секретарь Гончаров».
Предположительно эта бумага подписана им около 6 июня 1835 года, то есть через месяц по прибытии в столицу. Чин «губернский секретарь» не должен нас смущать: именно в этом чине утвержден Иван Гончаров в качестве переводчика Министерства финансов. Не должна смущать и несколько мрачная торжественность клятвы, даваемой молодым чиновником. Всего девять лет миновало с тех пор, как в полуверсте от здания Генерального штаба, в котором находится его департамент, стояли колонны мятежных полков. И всего четыре года назад бушевала революция во Франции и полыхал мятеж в Польше.
…Он не высыпается толком в эти первые месяцы жизни в Петербурге. Нужно привыкнуть к светлым ночам. Нужно особенно много работать сейчас, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, – работать и после службы, на квартире. Нужно научиться засыпать и просыпаться под крики дворников и извозчиков, мастеровых и торговок.
Никогда он еще не жил так быстро.
Он быстро и помногу ходит. Быстро заполняет страницы фразами переводов. Быстро озирается, переходя улицу. И все в этом городе совершается быстрее, чем за его пределами. Здесь и часы, и целые дни летят быстрее. Даже литургия в здешних храмах кажется короче.
Единственное, что он может здесь делать медленно, – это нить горьковатый напиток одиночества. Одиночества и свободы от еще не заведенных знакомств.
Впрочем, и эта пора быстро прервется.
У МАЙКОВЫХ
Существует предположение, что с Майковыми Гончарова познакомила Юнинька Гусятникова. Та самая Юния, Юнечка, Юнинька, в которую он как будто еще в Москве был слегка влюблен в студенческие свои времена. Юнинька приходилась племянницей Евгении Петровне Майковой, в девичестве тоже Гусятниковой.
Николай Аполлонович Майков, жених, а затем и счастливый супруг семнадцатилетней Евгении Петровны, как ни был родовит [1]1
Дворянство Майковых было весьма древним. Еще в XV веке на всю Русь возвеличил эту фамилию преподобный Нил Сорский, в миру Майков.
[Закрыть], а все же щедрое невестино приданое (от отца-золотопромышленника) очень и очень его поддержало. Сам он был сыном директора императорских театров, поэта и комедиографа, и вырос в среде художественно-артистической. Юношей Николай Майков сражался на Бородинском поле, потом с победоносной армией союзников дошел до Парижа.
Будучи уже в майорском звании, Майков подал в отставку – ему захотелось посвятить себя живописи. С годами в облике Николая Аполлоновича стали преобладать черты, которые непременно налагает на всякого человека принадлежность к цеху художников. Густая грива до плеч, вольного покроя рубашка, небрежно повязанный галстук, особая цепкая острота во взгляде. Если и осталось в нем еще что-то воинское, офицерское, то лишь в твердом подбородке, в глубокой морщине над переносьем. Впрочем, внешность обманчива. Николай Аполлонович в душе был мягок, доверчив, с неизмеримо большим даром голубиной кротости, нежели змеиной мудрости. Да и картины писал – не какие-нибудь батальные сцены, а все портреты – ближних своих и знакомых, а то и вообще вымышленных лиц. Работал акварелью и маслом, карандашом и пастелью. В качестве образца почитал вещи старых венецианцев. Но неожиданно успех и известность ему принесли не портреты, а выполненные на заказ иконы – сначала запрестольный образ для Троицкого Измайловского собора (за этот образ вдруг удостоили его звания академика живописи), а потом один из иконостасов Исаакиевского собора. Знатоки говорили, что в иконах майковских многовато чувствительности, едва ли не сентиментальности, но, впрочем, это и модно было тогда – так представлять себе святость. А в остальном – по-своему искреннее, не лишенное внутренней теплоты искусство.
У Майковых подрастало трое сыновей. Первенцу, Аполлону, было теперь уже четырнадцать. Всего на два года младше его Валериан, материн любимец, так похожий на Евгению Петровну утонченными чертами лица. Подрастал и самый юный из братцев – Володя. А через четыре года прибавится и еще один – Лёнюшка.
Таким вот увидел и узнал это семейство Иван Гончаров в первое свое петербургское лето 1835 года. Всего год как Майковы оставили Москву и переселились в столицу. Всего год как и юноша Гончаров разлучился с университетскими комнатами на Моховой, напротив Кремля. И они и он еще жили памятью о старой, приветливой первопрестольной. Тем легче, непринужденней было им здесь, на Севере, познакомиться, а затем и сдружиться.
Детки с гораздо большим вниманием слушают уроки, когда обучает их уму-разуму человек сторонний, непримелькавшийся, свежий.
Учителем и попал в дом на Садовой молодой Гончаров. Кроме Юниньки, наверняка замолвил за него слово перед Майковыми и Владимир Андреевич Солоницын, под руководительством коего Гончаров начал в Петербурге свое служебное поприще в Департаменте внешней торговли. Завсегдатай майковского дома, Солоницын стал первым наставником мальчишек. Он вел занятия по точным дисциплинам и набрасывал перед учениками картину их будущей образцовой деятельности в том же самом Департаменте внешней торговли. Государству нужны люди практической хватки, чтоб не провел их никакой заезжий финансист либо негоциант.
Гончарову досталось преподавать отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Ребята новому педагогу понравились. Живые, говорливые, с пастельным румянцем на милых личиках, будто вывозили щеки в отцовой мастерской, с такими держи ухо востро! Дай только волю – засыплют ворохом вопросов, лишь бы только сбить строгую последовательность очередного занятия. И вот вместо утомительного урока – летучая беседа с прихотливыми отвлечениями то в дебри истории, то в сокровищницы искусств…
В Аполлоне больше чувствуется жар непосредственности, отцовское тяготение к пластическим образам: грезит стихами, образами далеких стран и эпох, в ученическом столике его – клочки каких-то прозаических зачинаний, вороха акварельных набросков.
Валериан более собран, сосредоточен, предпочтение отдает естественным наукам, хотя и литература его по-своему волнует, трогает глубоко. Так ли уж подойдут эти ребята для солоницынского департамента?
Прошло всего несколько недель занятий, и Гончаров стал в этом доме как свой. Его начали приглашать и во внеурочное время. Когда может.
Несмотря на постоянные, ежеденные труды Николая Аполлоновича в мастерской, несмотря на немалую занятость Евгении Петровны хозяйственными и родительскими хлопотами, Майковы почти сразу зажили в Петербурге широко, с гостеприимством московского пошиба. Более того, они всерьез решили завести у себя художественный салон.
Но это лишь сказать легко: заведем-ка у себя салон. Для такого предприятия нужны не только деньги немалые, не только просторная квартира. Перво-наперво нужна какая-то идея, то, что называется щепотка соли. Петербург был известен и чисто аристократическими, великосветскими собраниями, которые посещали лишь люди с громкими именами и отменных репутаций. С другой стороны, немало насчитывалось в городе компаний и разудалых, где главный упор ставился не столько на литературный или художественный интерес, сколько на разгул весьма скандального пошиба.
Майковы постарались избежать крайностей: не засушить свое собрание высокомерием и сословной брезгливостью, но и тут же уследить, чтобы дом их не превратился в вертеп для всяких бонвиванов и болтунишек. Наконец, поскольку новый салон даже в таком громадном городе сразу же оказывался на виду у лиц, покровительствующих внутреннему спокойствию, надо было и тут не сделать оплошности – не подвести ни себя, ни своих гостей.
Что же, Майковы со всеми этими условиями справились непринужденно, без всякой внешней натуги. Естественно, «солью» салона, его, так сказать, алтарем суждено было стать мастерской Николая Аполлоновича. Уже сама эта зала, просторная, залитая мягким светом, была своего рода произведением искусства, и ею можно было любоваться как картиной. Холстинные шторы, собранные в мощные складки. Античные торсы, слепки ладоней и ступней, гипсовые головы древних мыслителей: вот Сократ, вот Архимед, а это, кажется, Сенека. Старинные пустые рамы. Прислоненные к стенам и шкафам рулоны александрийской бумаги. Копии со знаменитых полотен. Работы самого хозяина, небрежно приваленные одна к другой. Свежий подмалевок на мольберте. Картина еще слезится не успевшими загустеть мазками. От холста и палитры источается сильный и острый, волнующий запах. А в центре этой прихотливо, почти хаотически разметанной груды вещей, предметов, незавершенных шедевров (которые, возможно, так никогда и не поддадутся завершению), в самом центре этого рукотворного, продуманного до деталей живописного мира стоит он, художник, творец изящного, собеседник муз, пожизненный пленник красоты.
Впрочем, за пределами мастерской начиналось иное царство – Евгении Петровны. Нет, не одни хозяйственные заботы занимали ее в дни собраний. Не одни кухонные художества требовали ее вдохновения. Мало того, что хозяйка дома постоянно была в курсе главных литературных и художественных событий столицы. Она и сама писала, отдавая временное предпочтение то стихам, то прозе.
Первый призыв салона составили родственники и друзья семьи. Среди них – младший брат Николая Аполлоновича Константин, их свояк, журналист и основатель «Отечественных записок» П. П. Свиньин, поэт Иван Бороздна, молодой литератор Андрей Заболоцкий-Десятовский, супруги Михаил и Екатерина Языковы. Они, в свою очередь, ввели в салон своих приятелей и знакомых. Так появился у Майковых племянник Солоницына, тоже Владимир, и его, чтобы не путать с дядюшкой, быстро прозвали Соликом. Вскоре завсегдатаем салона сделался модный, особенно среди столичных ценительниц поэзии, стихотворец Владимир Бенедиктов. За ним – юный провинциал, потешавший всех сначала своими угловатыми манерами, Семен Дудышкин… Пройдут годы, и майковский салон станет одним из самых заметных и представительных в литературном мире северной столицы. Сюда будут наведываться молодые Федор Достоевский и Николай Некрасов, Иван Тургенев и Яков Полонский, Иван Панаев и Дмитрий Григорович…
Но сейчас было только самое начало. Одним из главных законодателей литературного вкуса суждено было стать в салопе Ивану Гончарову. Его начитанность, талант рассказчика делали домашнего педагога лицом здесь незаменимым.
Он приходил на Садовую едва ли не чаще других, во всякое время года, при любой погоде: из своей унылой холостяцкой берлоги выбредал на Невский, затем, перейдя мост через Фонтанку, сворачивал на набережную и шел по ней до самого Юсупова сада и потом еще садом, пока из-за деревьев не выступал перед ним массивный утюгообразный угловой дом, и над третьим от угла подъездом уже светил ему приветливо ряд окон на втором этаже. Светил и скрашивал светом своим насупленные петербургские сумерки.
К Майковым! К Майковым!..
Но чтобы салон зажил полнокровной жизнью, мало, оказывается, мастерской хозяина дома, мало традиционных полуночных застолий, чтения литературных новинок. Что может быть недолговечнее чтения вслух? Нет, салопу необходима еще и собственная письменность.
Проще всего, конечно, было бы завести альбом. Но альбомы для стихотворных экспромтов и карикатур объявились теперь едва ли не в любом доме. Альбом стал прямо-таки символом пошлости, почти каждая девица носит его под мышкой. Словом, ну его, альбом! Тут нужно что-то основательное, солидное. Да-да, необходим журнал! Пусть не ежемесячный. Пусть он выходит шесть раз, четыре раза в год. Но это должен быть настоящий толстый журнал: с повестями и рассказами, со стихами и очерками, с переводами и отделом смеси, наконец, с иллюстрациями.
И название уже готово – «Подснежник». Не какая-нибудь надменная «Утренняя звезда», не какая-то расфуфыренная «Мнемозина», не высокомерный «Телескоп». «Подснежник» – это что-то чистое, наивно-доверчивое, только что пробивающееся к солнцу, первая проба сил.
Львиная доля трудов в новом предприятии досталась Николаю Аполлоновичу. Взяв на себя обязанности художника-оформителя, он теперь вынужден был на целые дни отрываться от живописи. Легко литературной братии – завалили его ворохами всевозможных сочинений и уже для второго тома пишут. А ему корпеть над сброшюрованными листами, заполняя их chef d'oeuvre-ами плодовитых доморощенных журналистов и версификаторов.
Зато и дивно же выглядел первый нумер. Заглавия выполнены книжными шрифтами, да и тексты будто набраны в настоящей типографии. И даже сноски – крохотный, микроскопический курсив просто чудо каллиграфии! Прозаические вещи проиллюстрированы чернильными рисунками. Кроме того, в журнал вшиты большие, в размер страницы, рисунки с головами античных или библейских старцев, а также с девичьими головками. Впрочем, титульный лист с названием журнала доверено было исполнить Аполлону.
Пока счастливчики, сгрудившись на диване, то ахают, то взвизгивают, листая свое изделие, то шепчут, то погружаются в глубокомысленное молчание, то вдруг все разражаются хохотом, остальные в нетерпении прохаживаются по зале, завистливо поглядывают на читающих: ну, скоро вы? дайте же и другим посмотреть, этак, право, нечестно!..
Подобного журнала в Петербурге еще не было. Да что в Петербурге! В целой России, а то, пожалуй, так и в Европе.
Поистине тут объято необъятное: беллетристика и политика, история и моды, философия и этимология, прогнозы на будущее и стародавние анекдоты, сочинения отечественные и переводные.
И пошли «Подснежники» проклевываться один за другим. Чего лишь не было в них! «Несколько мыслей об изящном искусстве» соседствовали тут с фантастическим рассказом «Дамы крысиного рода», «Письма и дневник мнимого преступника» – с «Мнениями буддистов о том, как кончится мир», сказка «Каменный суп» – с «Рассказом Евы», драматические «Сцены бальной атмосферы» – со статьей о климате Европы, и т. д. и т. п. Под рубрикой «Смесь» объяснялось значение слова «абракадабра», подсчитывалась сила всех до единой, паровых машин Англии, вычерчивалось родословное древо Наполеона, множество занятной абракадабры и веселой чепухи было и на иных страницах.








