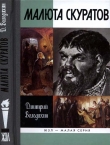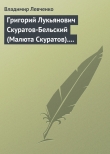Текст книги "Малюта Скуратов. Вельможный кат"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
I
В прямом смысле слова смертная казнь понятие судебное, юридическое, а малой степени свойственное российскому правосознанию издревле. Смертная казнь в нашем отечестве чаще всего напоминала банальное убийство, которое осуществлялась палачами по прихоти властей предержащих. О пытках, которые обычно предшествовали смертной казни, вообще предпочитали умалчивать или писали и говорили о них вскользь даже те, кому самим Богом предназначалось писать и говорить. Почитайте выдающихся историков – нигде вы не найдете точного и связного рассказа о том, что происходило в застенках, наличие которых долгое время не признавали, или, во всяком случае, признания старались не афишировать. Между тем застенки и места свершения смертной казни, в отличие от кладбищ и моргов, всегда располагались в видимых пределах великих князей, царей, а затем и руководителей страны после крушения многовековой монархии. Еще живых далеко от себя не отпускали! Мало ли что! Опыт показал: лучше врага держать при себе, пока не зарежешь.
Первое упоминание о пытках как таковых и массовых убийствах относится ко времени правления жены князя Игоря – Ольги, действия которой в отместку древлянам вызывали пламенный восторг у многих поколений подданных государства Российского. Она закапывала своих недругов в землю, сжигала их в огне и коварным образом умерщвляла виновных и невиновных, разрушая жилища и продавая избежавших ее праведного гнева в рабство. В конце концов насытившись или, скорее, устав от содеянного, она отправилась в Грецию, где при константинопольском кесаре Иоанне приняла христианство, получив при крещении имя Елена. Со старыми грехами – жить оказалось утомительно. Ни слова осуждения по адресу этой бессердечной правительницы мы не слышали и наверняка не услышим.
Пытаться приподнять завесу над тем, что происходило в дорюриковские времена, не имеет большого, на мой взгляд, смысла. Нам предложат немногочисленные отрывки из легенд, изъятые из летописей, которые давали описания прошлого в весьма общем виде.
Да на что сетовать, если даты рождения и кончины родоначальника господствующей династии до первого десятилетия XVII века включительно называются иногда с большой долей приблизительности, а отцовство храброго варяга может быть – подвергнуто обоснованному сомнению. Но так или иначе пытки, смертная казнь и убийства в качестве политического аргумента на территории государства Российского выдвигались практически на авансцену постоянно, но с большей или меньшей откровенностью. И только в XIX веке русское самодержавие в известной мере сдерживало варварскую ярость тех, кто обрел случайное право карать. Статистика, которая была невыгодна как большевистским историкам, так и историкам прогрессивного направления, поддерживавшим экстремистское освободительное движение, убедительно свидетельствует в пользу этого утверждения.
Но пытки, смертные казни и убийства выступали в общественной жизни не только как политический аргумент. Они служили и для сведения счетов в быту, захвата имущества, наказания за преступления, использовались как способ давления при различных обстоятельствах и в массе иных случаев, в том числе и клинических. Очень часто клиника утяжеляла и искажала даже нашу призрачную и хилую юриспруденцию, особенно в XVI, XVII, XVIII и XX веках. Славный XIX век, когда русское самодержавие откристаллизовалось в сравнительно демократическую и гуманную форму правления, если соотнести ее с прошлой и будущей – социалистической – фазами, показал самое меньшее количество клинических проявлений при отправлении власти, и в первую очередь в процессе функционирования карательной и пенитенциарной системы.
Скользящее упоминание в летописях обо всех этих подвигах удивляет и огорчает прежде всего. Объясняется такая фигура неполного умолчания и неискренностью и ложной патриотичностью самих авторов, подпитываемой официальными запретами, и политически ориентированной редактурой. Достаточно обратить внимание, что Иоанн IV вмешивался в составление летописей, делая замечания, поправки и дополнения. Разумеется, он влиял и на характер текста. Зная его полемические способности, идеологические пристрастия и стремление выдать черное за белое и желаемое за действительное, можно себе легко представить, в какую сторону трансформировали реальность запуганные и беззащитные Пимены. Их потомки шли проторенной и удобной дорогой.
В конце концов развитие русского общества достигло такой ступени, что пыткам и смертным казням надо было дать какую-то мотивировку, и постепенно в официальных документах и иных свидетельствах начинает из застеночной тьмы проступать кровавая правда. Но и она выглядит неполной и покрыта полупрозрачной вуалью. Пресловутые Сигизмунд Герберштейн и Адам Олеарий, чьи превосходные в этнографическом, географическом и прочих отношениях труды используются у нас с некритичностью, более присущей варварам, чем цивилизованным людям, достаточно тактично упоминают о том, о чем надо было кричать на весь свет. Политическая подоплека подобного рода сочинений совершенно неоспорима, но других источников нет, с чем надо считаться, хотели бы мы этого или не хотели. Именно пытки, смертные казни и убийства являются фасадом – причем подлинным, а не алебастровым – страны и государства. Я намеренно разделяю понятия, ибо государство строят люди, населяющие страну.
Эпоха диких пыток, казней самого различного рода и убийств, носящих ничем не мотивированный характер, которая не угасла отнюдь с уходом Иоанна IV в небытие, подготовила Смутное время с его Борисом и Федором Годуновыми, бесчисленными Лжедмитриями и Василием IV Шуйским – несчастным и неглупым царем, опора которого – его славная фамилия – была обескровленной младшей ветвью дома святого Александра Невского. Эта эпоха с помощью официальных летописей в конечном итоге попыталась сама себе придать черты легитимности и законности. Если прислушаться к голосу царя Иоанна, впрочем едва различимому, то он действовал исключительно в интересах общества и Богом ему врученной власти.
Правление первых Романовых отличалось сравнительной травоядностью. Естественное отвращение к крови в больших размерах очистило атмосферу в государстве Российском и позволило и верхнему и нижнему слою накопить духовные и физические силы, не всегда разумно потраченные Петром I, получившим прозвище Великий во времена, когда жизнь человеческая стоила еще меньше, чем при Иване IV, которого он так почитал и ливонские войны которого ему так нравились.
II
Конечно, с расширением книгопечатания информационный поток приобретал большую глубину и обширность. Взгляд на Россию из-за рубежа стал пристальней и не чуждался деталировки, которая в застеночной практике и кремлевских решениях играла самую существенную роль, обнажая огнедышащие недра режима. Петр I, совершенно лишенный каких-либо гуманитарных тенденций, жестокий прагматик и не во всем удачный копировальщик европейских достижений, попытался совместить несовместимое, как, впрочем, многие после него в нашем отечестве. Это привело к официальному узаконению разного рода документов, относящихся к карательной системе и вобравших в себя страшный опыт минувших поколений. И раньше появлялись подобные опусы, но никогда с такой гнусной и поразительной ясностью не проступала суть российской власти, никогда она не была так грамотно и искусно обрисована, и аналогов эта петровская отрыжка не имеет. Его царственные предки и его властолюбивые, в том числе и нетитулованные, потомки хоть и пользовались предложенным арсеналом, но все-таки стеснялись перечисленного реестра мучительств и гнусностей, предпочитая мимолетные упоминания без излишних подробностей.
Обряд [2]2
Обряд – здесь: правила.
[Закрыть]како обвиненный пытается… И я не стану подробно на нем сейчас останавливаться. Он вобрал в себя то, о чем будет не раз идти речь в романе. Обряд зафиксировал, безусловно, не все кошмарные черты ежедневного застеночного быта. Текст, как и замечания в летописях и других исторических изысканиях, лишен вонючего аромата и застоявшейся атмосферы, пропахшей испражнениями, потом и кровью. Но сквозь него – речь идет о тексте – просвечиваются страдания многих жертв, по нынешним понятиям совершенно ни в чем не повинных, а, наоборот, правильно оценивающих окружающую действительность. Между тем еще лет шестьдесят тому назад за приблизительно подобные преступления в нашей стране – Советском Союзе – людей подвергали, как выясняется, мучениям иного вида и рода, но представлявших не меньшую опасность для жизни.
Русское средневековье, конечно, уступает по зверству недавно прожитым годам. Но это все не означает, что по изощренности пыток, смертной казни и убийств государство Российское чем-то отличается от европейских держав, которые с таким неизбывным и – извините за резкое слово – туповатым высокомерием взирают на восточного соседа. За рубежом были изобретены самые изысканные мучительства, самые позорные надругательства и самые бессмысленные издевательства, какие только можно себе вообразить. Но есть какая-то трудноуловимая разница между тем, что творилось на Западе и на Востоке. Августовская ночь перед днем святого Варфоломея вошла в исторические анналы как пример дикой расправы, однако мало кто задумывается над тем, что число французов, падших от рук католиков, почти в десять раз превышает число всех жертв опричного террора. Фамилии Екатерины Медичи и Гизов не стерлись из памяти, но они не приобрели нарицательного значения. Темп уничтожения человеческих особей во Франции намного превосходил аналогичный показатель в государстве Российском, причем резня происходила при жизни Малюты – Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Сцены насилия во времена инквизиции ни в чем не уступали по своей мерзости тому, что современники видели на Поганой луже близ волшебных святынь Православия. И временная параллель здесь тоже имеется. Более того, инквизиция продолжала пытать и жечь, когда на Востоке на какие-то мгновения воцарялась тишь.
Напрасно папа Пий V и надменные сенаторы Венецианской республики воспретили поездку папскому нунцию Портико в Московию на основании известного доклада Альберта Шлихтинга, бежавшего туда, откуда явился с оружием в руках.
За два года до Варфоломеевской ночи Пий V писал собственному нунцию: «Мы ознакомились с тем, что вы сообщили нам о московском государе; не хлопочите более и прекратите сборы. Если бы сам король польский стал теперь одобрять вашу поездку [3]3
Речь идет о создании антиосманской лиги и обращении православных в католичество.
[Закрыть]в Москву и содействовать ей, даже и в этом случае мы не хотим вступать в общение с такими варварами и дикарями».
Одновременно с этим письмом католическая верхушка Франции готовила истребление гугенотов. Не каждое слово у Шлихтинга правдиво и искренне. Но прежде, чем швырять камешки в чужой огород, не лучше ли на себя оборотиться? Впрочем, каждый поступает как ему заблагорассудится, и коварное зверство одних не может и не должно помогать обелению других. И упреки Пия V и остальных западных властителей и путешественников вполне справедливы, и от них не отмахнешься: все, мол, такие! Все хороши!
III
Все, да не все! Неофициальные русские летописи, разумеется, оставили свидетельства пыток, казней и убийств. Безвестным авторам вполне можно доверять: «И быша у него мучительные орудия, сковрады, пещи, бичевания жестокая, ногти острыя, клещи ражженныя, терзания ради телес человеских, игол за ногти вонзения, резания по составам, претрения верьми на полы, не только мужей, но и жен благородных…»
Не очень складно, но понять и представить легко.
«Повелел государь телеса их некоею составною мудростью огненною поджигати, иже именуется поджар, и повелевает государь своим детям боярским тех мученных и поджаренных людей за руки и за ноги и за головы опока вязати различно, тонкими ужшищи, и привязывати повеле по человеку к саням». Тоже не очень складно и эстетично, но вполне вообразимо. При живости фантазии и недолгом размышлении просто оторопь берет, чем государь пресветлый занимался и что вытворял, борясь за выживание и власть. Эта откровенность и безыскусность наивных летописцев позволила Западу свысока взирать на Восток и с помощью местных безотчетно действовавших интеллигентов из группировок прогрессивных экстремистов превратить эпоху Иоанна IV Мучителя в нечто небывалое. С одной стороны – истина, подмогой ей поговорка: «На деле прав, на дыбе виноват», или: «В одном кулаке сожму, так плевка мокрого не останется», а с другой стороны – культурная репутация западных откованных из железа и закаленных в человеческой крови, тоталитарных режимов создали для государства Российского некий шлейф исключительности, что не соответствует реальным обстоятельствам. Однако во многом мы сами являемся авторами собственного реноме. Запоздали мы с признаниями, и намного. Для того чтобы выяснить или, вернее, раскрыть строчку у Николая Михайловича Карамзина, Сергея Михайловича Соловьева и Николая Ивановича Костомарова, надобно обращаться к иноземным источникам, каковые с плохо прикрытым сладострастным чувством насквозь ложного нравственного превосходства описывают, как в государстве Российском на кол сажали. Обреченного привозили на торговую площадь в санях, запряженных шестью лошадьми, бросали на стол и в задний проход втыкали железный кол, который через затылок выходил наружу. Когда человека таким образом насаживали на стержень, восемь подручных палача относили страдальца на возвышение и водружали там ту корчащуюся и издыхающую скульптуру, чтобы народ мог лицезреть мучения. Кол имел поперечную перекладину для того, чтобы умертвляемый сидел на ней. Палач, продлевая адскую казнь, иногда накидывал приговоренному на плечи шубу, если время случалось зимнее. Посаженный на кол в третьем часу пополудни испускал дух только на другой день в восемь часов пополудни. У нас появлялись работы, касающиеся этих ужасающих подробностей. Однако характерные черты, о которых я упоминал, по обыкновению извлекались из зарубежных источников. Достаточно заметить, что все отрицательные детали – именно детали! – эпохи пыток, казней и убийств в основном приведены в сообщениях таких людей, как Альберт Шлихтинг – пленник, бывший в услужении у популярного при дворе лекаря, опричники Генрих Штаден, Иоганн Таубе и Элерт Крузе, которые сами были замешаны в преступлениях кромешников и пользовались доверием Иоанна IV, который использовал их в качестве дипломатических агентов. Многое из утверждений не очень чистоплотных искателей приключений, которыми была набита Россия в большем количестве, чем мы предполагаем и признаем, впрочем иногда вынужденно пошедших на службу к новым хозяевам, вызывает законное подозрение. Но если соотнести их впечатления с летописями, озлобленными, по мнению Александра Сергеевича Пушкина, текстами князя Андрея Курбского и самого царя, то сквозь различные ухищрения, в основе которых лежит защита собственных интересов и исторической репутации, преувеличения, наговоры и прямую клевету просвечивает все-таки неутешительная правда. Вероятно, разница между экзекуциями на Западе и на Востоке состоит не только в том, что в последнем случае они проводились без малейшей серьезной попытки придать им видимость законности, но в известной неопрятности действий подручных царя, а также в очевидном самодурстве, с каким выносились неадекватные проступку приговоры. Индивидуальная, а не соборная воля решала вопрос жизни и смерти.
Однако, с другой стороны, какая видимость законности была придана Варфоломеевской ночи? И все же, сталкиваясь с разного рода фактами, явственно ощущаешь некую специфичность того, что происходило в окрестностях Кремля, в самом Кремле да и на необъятных просторах Руси – в Новгороде, Пскове, Казани, Астрахани и в иных местах. События на мосту через реку Волхов показали, как русский властелин может обращаться с русскими людьми, его собственными подданными, которые чем-то ему не пришлись по душе.
Так или иначе пытки, казни и убийства происходили и до воцарения Иоанна IV, но в тот день, когда тринадцатилетний мальчик отдал приказ псарям затравить пусть грубо и дурно обращавшегося с ним князя Андрея Шуйского, открылась новая страница в отечественной истории. Ничего подобного прежде, как кажется, не происходило.
Мнение народноеI
«История злопамятнее народа!» – воскликнул, завершая повествование о временах Иоанна IV, Николай Михайлович Карамзин, чей верный взгляд на исторические события и окружающую его жизнь просто поражает и, безусловно, вдохновляет искренностью, человечностью и простотой. Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти, заключает историк. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими, мудро объясняет он развитие нашего самосознания и самопознания. Народ чтит в царе знаменитого виновника государственной силы. Он забыл или отвергнул название Мучителя, данное современниками, и по темным слухам о жестокости его именует только Грозным, отобрав это определение у недооцененного потомками деда. Не во всем можно согласиться с Карамзиным. В перемене названия первую скрипку играли династические интересы. Именно они сформировали мнение народное и навязали интерпретацию многих сюжетов. Многовековой опыт жизни, и особенно в XX веке, показал, что первоначальный отзыв современников был более верен и адекватен, невзирая на все международные заслуги Иоанна и невзирая на то, что он создал мощную государственную машину и, в сущности, создал державу, какой мы ее знали до краха коммунистического режима. XX век убедительно продемонстрировал ничтожность цены человеческой жизни на территории от Бреста до Владивостока, надежды подданных государства Российского постепенно испарились, и прогрессивный экстремизм потерял огромное число сторонников. Вот почему темные слухи о жестокости Иоанновой вновь зазвучали с прежней силой и вот почему, вопреки воле властей предержащих, прежнее название Мучителя чаще и чаще всплывает в памяти жертв самого разнообразного политико-экономического террора.
В основе снисходительности мнения народного лежит терпение, иногда переходящее в равнодушие и безразличие, которые нередко являются результатом жестокости и угнетения, а также грубости и примитивности внутрисемейных и внутринародных взаимоотношений. Поэтизируя прошлое, народ вступает как бы в противоречие с историей, идет, сам того не желая, на поводу у власти или, вернее, у ее неразумных представителей, что отражается прежде остального в национальной литературе, избегающей натуралистических описаний и создающей настроения, удобные для восприятия смягченной версии и чарующей легенды. Грешила этим в значительной мере литература сталинского периода, оскопленная и обескровленная даже в хороших и неконъюнктурных образцах. А о фольклоре, независимом, казалось бы, по собственному происхождению, и упоминать нечего. Отражая серьезнее и ярче прочего состояние народной, то есть коллективной, души, он искажает, несомненно, подлинное бытие, переиначивая случившееся и освещая его театральным светом, вырывая из кошмарного контекста эпохи пыток, казней и убийств самое лучшее, отъединенное от власти насильников, облагораживая вместе с тем эту эпоху и позволяя, к сожалению, угнетателям продолжать черное дело под прикрытием мнения народного, всегда доброго и романтичного в связи со многими обстоятельствами формирования характера. Фольклор облегчает историю, как облегчает и жизнь, превращает историю в логическую цепь, создавая иллюзию закономерности, в то время как она – история – прихотлива, причудлива и непоследовательна в развитии и зависит целиком от личности и способов выживания этой личности, а не от чего-либо иного. Власть личности формирует историю, а личность подчиняется лишь врожденным мотивациям и собственным интересам, зачастую совершенно алогичным и идущим нередко вразрез с подлинными интересами общности. Здесь и заключена настоящая трагедия истории, ибо качества человека универсальны и не зависят от национальности. Качества и поведенческие реакции зависят от обстоятельств.
Покоритель Казани и Астрахани, правитель, уничтоживший боярскую аристократию, обладавшую высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом, и тем самым, к нашему ужасу, положивший начало многим революционным бедам, хотя эта аристократия и питалась от слез и крови народной, как утверждают различные сказания, Иоанн IV снискал непреходящую славу защитника земли русской, несмотря на дикое отношение к истерзанным подданным. Народ в былинах нарисовал привлекательный портрет мудрого правителя, защитника слабых против сильных и сочувствующего всему отечественному. В замечательной былине, скорее напоминающей балладу, первый русский царь предстает перед нами именно в таком виде. Это произведение в разных вариантах дошло почти до наших дней, и если бы не большевистский террор, мы бы извлекли из них более полную картину отношения людей к личности царя. Былины о Никите Романовиче – воеводе Захарьине-Юрьеве, брате царицы Анастасии – широко распространились на Севере в окрестностях Кирилло-Белозерского монастыря, да и вообще во всем Белозерском крае. Вот несколько отрывков из сохранившегося варианта:
Посвязали Миките Романовичу
Белы руки тетивками шолковыми,
Заковали ему ноги в железа немецкие,
Закрыли ему очи ясные
Комоцькой камцятною.
Повели Микиту Романовича
На то поле чистое,
На ту плаху на липовую
Отсекать да буйну голову
По те плечи могучии.
Сговорил тут Микита Романович:
«Создай-ко, Боже Господи,
Буйных ветров,
Чтобы скинуло с моих ясных очей
Комоцьку камчатную».
Постряхнул тут Микита Романович
Со своих резвых ноженек
Железа немецкие,
Посорвал ён с белых рук
Тетивки шелковые.
Этот же популярный герой, овладевший крепостью Пернау и милостиво поступивший с ее защитниками и обитателями, встречается и в былине «Никите Романовичу дано село Преображенское». Суть трогательного повествования состоит в том, что сын Иоаннов Федор на пиру перечит отцу и упрекает его в том, что он не вывел измену на Руси, в то время как отец хвалится лихими победами над боярской ересью. Иоанн требует, чтобы сын указал прямо на изменников, и Федор при всех обвиняет Годуновых. Иоанн рассердился и приказал казнить сына на плахе. Но никто не отважился выполнить приказ обезумевшего царя, кроме верного слуги.
II
Мы с трепетом ожидаем появления верного слуги и не ошибаемся, назвав заранее его имя. Это Малюта Скуратов – двойник, в известном смысле, царя. Иоаннов портрет всегда двойной. Без первого нет второго, и наоборот.
Чарующая своей лексикой былина продолжает:
А все палачи испужалися,
Что и все по Москве разбежалися;
Един палач не пужается,
Един злодей выступается —
Малюта-палач, сын Скуратович;
Хватил он царевича за белы ручки,
Повел царевича за Москву-реку.
Обратим внимание на точность народной памяти: за Москвой-рекой находился особняк Малюты, в котором он устроил застенок с тайным ходом, по которому в воду сбрасывали тела.
Старый боярин Никита Романович на неоседланном коне несется вслед за Малютой. Боярина сопровождает любимый конюх. Настигнув Малюту, Никита Романович обращается к нему громким голосом:
Малюта-палач, сын Скуратович,
Не за свойский кус ты хватаешься,
А этим кусом ты подавишься…
Не переводи ты роды царские…
«Немилостивый палач» Малюта отвечает Никите Романовичу, что его дело подначальное и что, ослушавшись царя, он сам должен будет сложить голову на плахе, а это, между прочим, полностью соответствует реальному положению вещей:
И чем окровенить саблю острую?
И чем окровенить руки белыя?
С чем прийти перед царские очи?
Никита Романович предлагает Малюте совершить подмену и «сказнить» его преданного конюха. Тот соглашается, и невезучий конюх отправляется к праотцам. Иоанн, в ужасе от своего приказа, торжественно отпевает и хоронит невинную жертву. Однако все кончается к общей радости и удовольствию, когда царь узнает, что Федор жив.
В былине помянуты и добрые деяния Иоанна, а Малюта-палач, сын Скуратович, выглядит вовсе не злобным убийцей, а подневольным рабом, ослепленным величием и вседозволенностью власти, который в конце концов отступается от принципа беспрекословного подчинения бесчестному и неправедному повелителю во имя благой и человеколюбивой цели – спасения царевича. Судьба жертвы, уничтоженной согласно плану благородного и смелого боярина, на удивление никого не волнует и не печалит. Главное, что представитель правящей династии остался жив и здоров. Остальное не принимается во внимание. А у конюха, между прочим выходца из народа, который и сочинил эту фольклорную напевную жемчужину, естественно, была жена или возлюбленная, были, возможно, дети, родители, братья и сестры.
Такова народная память и народная – тысячу раз – воспетая нами мораль. Ну как власти, заботящейся прежде остального о собственной безопасности, не поддерживать подобную интерпретацию событий? Как ей, власти, преследовать сказителей подобных былин? И зачем? Малюта-палач, сын Скуратович, изображается нечувствительным к судьбе своего брата поэтом со снисходительностью труднообъяснимой. Когда сегодня в некоторых источниках эпоха пыток, казней и убийств выдается за благостное время строительства державы, когда доносчик и агент НКВД, писатель – не кто-нибудь! – Петр Павленко вкупе с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном, поступающим в кинематографе ничуть не лучше, чем Малюта-палач, сын Скуратович, в реальной жизни, оправдывая по заказу вождя-кровопийцы личность и деяния тирана, а окружающие и потомки снисходительно разводят руками и повторяют вслед былинному герою: что, мол, ослушавшись вождя, Эйзенштейн сам сложил бы голову на липовой плахе, хочется воскликнуть: поделом кату мука! Поделом нам всем! Поделом!
Ужасно, что талантливый кинорежиссер перешел на сторону тирана и революционных убийц.
Да, если бы Эйзенштейн ослушался вождя, его бы ждала участь Всеволода Эмильевича Мейерхольда, а он хотел жить и работать.
Право выбора есть у каждого, но у каждого есть и обязанности, о которых люди склонны забывать. Нет мужества – не иди в кинорежиссеры, не воспевай убийство одних и не восхваляй убийство других как аргумент в политическом противостоянии. Называй бунт бунтом, даже если он основан на справедливых в данный момент требованиях. Скажи своим зрителям, к чему этот бунт ведет. Не становись на сторону убийц и не позволяй политике пожрать свое любимое искусство. В фильме Эйзенштейна об Иване Грозном ни Малюта-палач, сын Скуратович, ни князь Владимир Андреевич Старицкий, ни его мать Ефросиния, ни кто-либо другой, включая главное действующее лицо, ни в малой степени не соответствуют – даже приблизительно – исторической и – что самое обидное – художественной истине.
Политика, а следовательно, и аппарат насилия всегда посягали на культуру в государстве Российском. Все зависело от степени этих посягательств. Даже при наиболее суровом самодержце в XIX веке – императоре Николае Павловиче Пушкин и Лермонтов создали то, что хотели создать, а Толстому, Достоевскому, Гоголю, Тютчеву, Фету и сотням русских литераторов, композиторов и художников вообще никто не препятствовал при реализации замыслов. Именно в XIX веке была высказана правда об эпохе правления Иоанна IV, именно в XIX веке был вынесен приговор тирании и именно в XIX веке был дан всеобъемлющий анализ эпохи пыток, казней и убийств, которую открыл поступок тринадцатилетнего мальчишки, волею случая оказавшегося на великокняжеском троне.
Личность царя Иоанна, его соратников и фаворитов, а также характер правления последних Рюриковичей, которое предшествовало Смуте, получили в XIX столетии более эмоционально оправданную, гуманистическую и справедливую оценку, чем в XX столетии, особенно в трудах таких корифеев исторической мысли, как Карамзин, Соловьев, Ключевский, Костомаров. Эта оценка была менее политизированной и конъюнктурной и более сбалансированной и устойчивой. Золотой век русской литературы и истории – искренний и честный – во многих отношениях опередил Железный – XX – век: кровавый, подлый и лицемерный, несмотря на все высокое, чем мы ему обязаны. Век-волкодав, как называл его Осип Мандельштам, оказался ближе к Иоаннову средневековью со всеми вытекающими из этого последствиями. XX столетие – мало кто отважится с таким утверждением спорить – являет собой пример историко-гуманитарного регресса и поражает жестокостью, обилием жертв и равнодушием к судьбам людей – обыкновенных и необыкновенных, из которых и состоят народы.
Специфика русской жизни того времени, ее беззаконная сущность, несмотря на вышедший Судебник, после крушения коммунистического режима стала очевидна для всех. Законы в государстве Российском, сколь они ни были бы хороши, никогда не исполнялись в полном объеме. Видимо, это и послужило причиной того, что имя Малюты Скуратова, дипломата, воина, родственника московских царей и одновременно заплечных дел мастера, стало нарицательным, а имена Сансона или какого-нибудь Фуке-Тенвиля, так же как Екатерины Медичи и Гизов – нет. Между тем по числу жертв и изощренности пыток Малютинская эпоха не идет ни в какое сравнение с чужеземными примерами. Закон – что дышло… Это дышло никогда не выпадало из рук героев известного поприща.