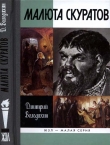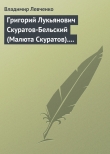Текст книги "Малюта Скуратов. Вельможный кат"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 47 страниц)
I
Скорые расправы шли и на рыночной площади, и у княжеского дома на Городище, и в монастырях, и на папертях храмов. Окрестности стонали, снег чернел и плавился от крови. Завидев конных опричников, жители прятались, иногда и в сугробы зарывались и лежали там, коченея, дотемна.
– Пора с Пименом рассчитаться, – сказал Иоанн Малюте. – Пошли гонца к изменнику предупредить, что буду к обедне в святой Софии. Пусть встречает, да не в Кремле, а с клиром и вассалами своими при всем честном народе!
Архиепископ поступил как велел государь. На Волховском мосту готовился торжественно встретить Иоанна с сыном и вместе с ними намеревался идти к святой Софии. Сколько осталось у Пимена чудотворных икон – все вынес пред грозные очи царя. Икону православный обидеть не осмелится и жестокость, быть может, показную усмирит. Еще совсем недавно Иоанн искал благословения у враждебно настроенного к Пимену бывшего митрополита Филиппа, о чем слух достиг пастырских ушей. Но разве посмеет государь в самом Новгороде отвергнуть его благословение? Будет ли сему оправдание? Есть ли сему причина? Дурные предчувствия тревожили старца. Он ли не служил Иоанну? Он ли не помогал мудрым начинаниям? Не поверит государь недоброхотам архиепископа. Подойдет под благословение и сменит гнев на милость.
Сошлись на Великом Волховском мосту, как и велело предание. Кто на колени опустился, кто иконы над головой поднимал, кто истово крестился, кто молитву горячо шептал. Архиепископ в торжественном облачении ждал появления государя. Он неплохо изучил его мятежный нрав, но, не помня за собой вины, надеялся на Бога и меру простой человеческой справедливости. Он знал, какая недобрая судьба постигла князя Андрея Владимировича Старицкого, был загодя предупрежден князем Вяземским о походе опричнины, но надеялся, что государь, увидев большое стечение народа, одумается. Иоанн, однако, не спешившись перед чудотворными иконами и не позволив свите и сыну сойти с коней, хрипло крикнул Пимену:
– Прочь, злочестивец! Не принимаю твоего святительского благословения! Не нуждаюсь в нем от изменника!
Крест в руке архиепископа дрогнул. Старец, долгие годы первым бывший в новгородской церкви, отшатнулся, не проронив ни звука. Князь Вяземский, выглядывавший из-за царского плеча, побелел как полотно. Почуял, что Иоанн проведал о посланных к Пимену гонцах. Малюта глядел на Пимена исподлобья, помахивая плетью, Васюк Грязной скалил зубы в ожидании, когда придет час действовать. Он догадался, что задумал государь, и подготовился к будущему жестокому представлению. Уж он расстарается и угодит повелителю.
Когда Иоанн пренебрег благословением архиепископа, толпа, собравшаяся на Волховском мосту, замерла в напряженном ожидании. Новгородцы воочию убедятся, что происходит со смертными, на которых изливается державный гнев. Из дома в дом, из избы в избу ползли слухи, что монахов на Городище жгут в пламени некою составной мукою огненною, именуемой поджаром.
Малюта резко толкнул коня и выскочил в пространство, образовавшееся между новгородцами и опричниками с государем и царевичем Иваном в первом ряду. Мало ли что может случиться. Когда он крымчаков в Торжке побивал, один юркий татарин, долго притворявшийся мертвым, после того как пришла подмога и спустя немного времени появился сам царь, едва не убил его, ловко бросив тяжелый и острый нож. Еле успел Малюта щитом отбить коварный удар. Не ровен час и на мосту найдется молодец, отважившийся отомстить за пролитую кровь. Монахи – народ не робкий. Среди них воинов в прошлом немало.
– На колени! – приказал Малюта, шагом подъезжая к стывшей на ледяном ветру людской массе. – На колени!
Часть народа не посмела ослушаться, однако сам архиепископ не унизил высокого сана, а, почудилось, выпрямился и стал будто бы еще крупнее в тканных золотом ризах.
– Ты, злочестивый, держишь в руке не крест животворящий, а оружие и этим оружием хочешь уязвить наше сердце: со своими единомышленниками, здешними горожанами, хочешь нашу отчину, этот великий богоспасаемый Новгород, предать иноплеменникам, польскому королю Жигмонту-Августу! – Произнося эти обвинения, Иоанн отделился от охраны и приблизился к архиепископу.
Вороной конь разляпывал желтоватую пену, фыркал и гордо вышагивал, красуясь. Но архиепископ не отшатнулся от надвигающейся, свернутой набок морды и стоял как вкопанный, не совершая попытки заслониться крестом. Он понимал, что Иоанна ничем не удержишь, и не хотел паству вводить в соблазн сомнением в чудодейственной силе креста. А как вышибет безумец его из костенеющей руки – что тогда?
– С этих пор ты не пастырь и не учитель! – яростно прогромыхал Иоанн, свирепо сверкнув очами. – Но волк, хищник, губитель, изменник нашей царской багрянице и венцу досадитель!
Архиепископ не проронил ни слова. Он не сделал попытки возразить и оправдаться. Лицо выражало недоумение и обиду.
– Иди немедля в собор и служи обедню. Я сам там буду!
Получалось, что палка, выкинутая Перуном, не привела к столкновению. У новгородцев возникла надежда. Архиепископ кротостью ласковой будто бы подавил злобу, кипевшую в душе государя. Толпа, прежде онемевшая, медленно двинулась за духовенством к святой Софии. Между тем ни Малюта, ни Грязной, ни Болотов, ни Зюзин, ни опричная охрана не сомневались в ужасном для Пимена исходе.
Малюта знал желание царя продемонстрировать новгородцам не только благочестие верховной власти, но и ее жестокую силу. В конце обедни Иоанн велел Малюте:
– Быть людям твоим наготове. Как крикну: гойда! гойда! – хватайте изменников, вяжите крепко и, когда стемнеет, отправляйте в Москву. Оттуда везем в слободу судить. А ты, Грязной, никуда не отлучайся, будь при мне – твой час пробил. Пусть узнают, что ждет изменников, какой бы высокий пост они ни занимали. Что заслужили – получат!
Ободренный присутствием государя в храме, Пимен в сопровождении бояр по выходе на паперть приблизился к нему и пригласил в Столовую комнату отведать яств, над приготовлением которых колдовали ночь напролет и утро самые искусные повара. Ничто не предвещало несчастья. Архиепископская обслуга приняла Иоанна и опричную верхушку с должным гостеприимством. Бояре, посадская знать и игумены монастырей чинно собрались поодаль того места, которое предназначалось гостям, занявшим лавки, но не освободившимся перед тем от оружия. Архиепископ сотворил молитву, и едва гости взялись за трапезу, как раздался протяжный гортанный возглас царя:
– Гойда! Гойда!
Васюк Грязной тут же накинулся на архиепископа и потащил прочь из Столовой комнаты. Белый клобук волочился за ними. Опричники стоптали его безжалостно. Настоятелей монастырей и бояр хватали за плечи и через окна и в двери метали, как снопы, во двор, где, сидя в выброшенном архиепископском кресле, распоряжался Малюта. В мгновение ока чистый и ухоженный дом дотла разграбили. Даже золотоордынцы не относились так к жилищам священнослужителей. Чаще случалось обратное – церковные строения отдавались под покровительство Чингисхана и его наследников. Умные и хитрые золотоордынцы не трогали монастырей.
Пророчество Перуна распространилось не только на новгородцев. Прибывшие с Иоанном русские изничтожали русских, православные издевались над православными с неистовостью и изощренностью чужеземцев неродной веры. Впрочем, чужеземцы у себя на родине нередко поступали с соплеменниками и злее. Испанцы сжигали на кострах испанцев, англичане вешали англичан, французы тысячами вырезали французов, немцы стреляли из пушек по немцам, а шведы – по шведам. Что следует заключить в таком случае о человеческой природе европейцев? И какова, вообще, роль национальности в сих прискорбных деяниях?
II
Самое рьяное участие в безобразной вакханалии принимали иностранные опричники, и особенно Генрих Штаден. За несколько дней он успел навербовать пятерых городских подонков и после погрома в монастырях, мародерствуя, грузил на телеги все, что имело ценность. Он брал серебро и иконы, дорогие ткани и церковные украшения.
– Через неделю уйдем отсюда, – обещал он своему маленькому отряду разбойников. – В окрестностях Новгорода есть чем поживиться. Нам нужны лошади и повозки. Монастырями мы не ограничимся. В Новгороде самые жирные бояре. Вассалы архиепископа всегда хорошо жрали.
Люди Штадена готовы были на любое преступление из-за денег. Украсть имущество у состоятельных не преступление – надо только отважиться. Государь не преследует таких, как они, и не клеймит ворами. Опричнина подает им пример. А там, вдали от Городища, легко разбогатеть и уйти подальше на север или восток, чтобы начать новую жизнь. Немчин не дурак. Он знает толк в вещах.
Опричный голова Эрих Вебер тоже набрал небольшой отряд и намеревался поспешить за Штаденом. Их исчезновение из Новгорода вряд ли кто-либо обнаружит. Вдобавок Штаден слышал, как Иоанн сказал Малюте:
– Пусть твои люди, не страшась, дойдут до моря, и что встретят на пути, то будет принадлежать им. Изменники в моей державе не могут владеть ни землей, ни имуществом.
А чужеземцам ничего иного и не требовалось. В этой стране закон зависел от власти, а власть сосредоточивалась в руках государя.
III
Малюта разбросал игуменов и монахов по тюрьмам, наскоро приспособив подходящие помещения. Князю Афанасию Вяземскому он отрубил резко:
– Слышь, князь, по две деньги на чернеца выдашь. Воды вдоволь, а хлеба в обрез. Самим нужен. Голод вокруг! А мои псы должны сытно есть.
Никогда Малюта столь непочтительно с князем Вяземским не разговаривал.
– Дружку своему Пимену – ладно уж: не обедняем! – луковку добавь. Ты мне когда-то добро сделал, а я добра не забываю.
Вяземского пробрала дрожь – Малюта от приятелей старинных сейчас лихо избавлялся. Одного Васюка Грязного не отдалил от себя. Припомнились последние слова Малюты, обращенные к Басманову:
– Ты, Алексей Данилович, из слободы никуда, кроме Москвы, не выезжай. Государь путешествий твоих не одобрит. Понял, боярин? И Федьке накажи, чтоб не глупил. Когда надо, государь призовет.
Надвигались другие времена, и в них, в этих временах, Басмановым да Вяземским будто бы не отводилось уголка. В присутствии Вяземского, возможно нарочно, Малюта велел Болотову с Грязным:
– Родичей государева недоброхота Алешки Басманова – Плещеевых с женками и детьми – под замок. Холопов ихних – в железа. Упустите – прибью! Там разберемся – кого на Городище пред светлые государевы очи, а кого в Москву! Или в слободу потащим. Смотря как здесь розыск пойдет.
IV
А розыск бурлил хоть и скорый, но не тщательный. Некогда было вины записывать – имя спрашивали да в грамотку заносили. Часто не интересовались: для счета зарубку ставили. Дети уходили в небытие, как правило не оставляя и следа по себе.
Я не раз писал, что исторические параллели и ассоциации почти всегда поверхностны и ущербны с точки зрения содержательности истины. Ежов и Берия ни в коей мере не соприкасаются со Скуратовым-Бельским ни судьбой собственной, ни ролью, ни характером, ни обстоятельствами. Называя кого-либо из них Малютой, мы просто прибегаем к знаковой системе, одновременно используя художественные преимущества. Метафоры и фигуральные выражения украшают контекст. Однако историчность упомянутых сопоставлений страдает. Я глубоко убежден в порочности, гибельности и небезупречности этого популярного метода. Единственный раз, однако, и я согрешу и прибегну к исторической параллели для того, чтобы оттенить лишней краской то, что случилось в Новгороде.
V
Лет двадцать назад во время семейной вечеринки, теперь не вспомнить уже, на чьей кухне, я познакомился с пожилой особой, любезное лицо которой сохранило следы былой красоты. Имя она носила нерусское – не то Генриетта, не то Фреда, то есть Фредерика. Интеллигентная и образованная, она сразу располагала к честной и бесхитростной беседе. Зашел разговор о днях недавних. Приятная во всех отношениях дама, благоухая шикарными парижскими духами – а дело было, напомню, задолго до горбачевской перестройки, – поведала мне, что ее отец служил важным финансовым экспертом в системе НКВД, очень близко знал и Менжинского, и Ягоду, и Ежова, и Берию. Беседа завертелась вокруг негодной попытки Брежнева реанимировать сталинские штучки – внешнее соблюдение законности, фальсифицированные процессы, «железный занавес» и прочее.
– Это оказалось возможным лишь потому, что реабилитация проводилась Хрущевым с большой долей лицемерия и в полруки, – сказала моя новая знакомая. – Правда, и провести ее по-настоящему никому не удалось бы, сколько бы ни старались. И не только потому, что палачей потихоньку растворили в толпе пенсионеров.
Я в те годы был относительно молод и неопытен, ненавидел и презирал Хрущева, хорошо помня, чем он занимался до войны и после на Украине, и называл общественные реформы достаточно иронично – эпохой раннего реабилитанса. Многие мои родственники, в том числе и отец, сидели в ГУЛАГовских лагерях, сам я долгие годы числился ЧСИРом [8]8
Член семьи изменника Родины.
[Закрыть]и лишенцем, а братья отца погибли в сталинских расстрельных подвалах. Словом, Хрущева я не уважал и просить прокуратуру о какой-то реабилитации отца не желал, а тем более получать от советской власти мизерные льготы и подачки в обмен на признание режима не собирался. Просьба о реабилитации есть не что иное, как внутреннее признание законности и справедливости режима.
– Отчего же нельзя провести реабилитацию по-настоящему? – поинтересовался я у собеседницы, готовясь к спору.
– Дело в том, что чекисты при Дзержинском, как правило, учились когда-то в университете и гимназиях, были людьми осведомленными. Став следователями, они старались придать делу видимость законности. Папки заводились пухлые и объемистые. Когда ЧК превратилось в ГПУ, произошла смена караула. Протоколы сократились в размерах. То, что укладывалось раньше в сотню страниц, теперь умещалось на десятке листов. Менжинский подробно готовил лишь те процессы, которым суждено было по воле Сталина вызвать интерес всего общества. Дело Промпартии разработали все-таки детально. Менжинский знал языки, посещал театры и листал романы, но при нем гепэушники уже едва умели подписывать свою фамилию. Допрос вел обычно один костолом, а к нему присоединяли фигуру послабее физически – так называемого журналиста, который изобретал и выглаживал до зеркального блеска легенду о преступлении. Генрих Ягода, который по сравнению с Менжинским казался ангелом, за два года перебрал людей куда больше, чем его предшественник. Он издал специальный циркуляр, но вероятнее, устно распорядился: писанины не разводить, следствие проводить в ускоренном темпе. Стройки социализма вроде Беломорканала, БАМа и Магнитки не ждали. В славную эпоху Менжинского и Ягоды количество страниц сильно сократилось. При Ежове процесс двигался в избранном направлении. А при Берии обвинение и дознавательная база сводились к минимуму. Судьба человека истончилась до одной, редко двух страничек. В противоположность Сосо Джугашвили Берия утомлялся от русского чтения и потому его не любил, – заключила с грузинским акцентом моя милая и пахнущая заграничными ароматами соседка. – Как во времена Малюты! Заносили имя в синодик, то есть в «скаску», и от людей оставался лишь невнятный, сегодня труднопроизносимый звук.
Образованная, черт побери! – мелькнуло у меня. Неужто исторический факультет закончила? Я ошибался – Фреда имела диплом математика.
Ей-богу, я не фантазирую. Такой диалог между нами действительно состоялся. И имя Малюты я не вставил специально. В данном случае историческая параллель меня не коробит, и не хотелось бы утаивать ее от нынешнего моего читателя. В первый и последний раз я прибегнул к сомнительному и осужденному мной же приему, к сожалению весьма распространенному в литературе, и не только советского периода. Исторические параллели и эзопов язык, отсутствие личностного подхода и несчастная строчка поэта об оплаченном заказе, который будто бы удавалось выполнить с точностью наоборот, сгубили тысячи сочинителей, в том числе и небездарных.
Да, дети и жены новгородские, впрочем, и не только новгородские – позже и псковские, уходили в небытие, не оставляя по себе и воспоминания. В гитлеровских концлагерях Европы учет тоже вели, однако в списки отправленных в крематорий или умерших от голода и болезней не попали миллионы русских военнопленных. Часто комендатура лагеря их просто не регистрировала, а лишь пересчитывала, но не менее часто картотеку топили в архивных подвалах СМЕРШа и уничтожали по прямому распоряжению Сталина – естественно, устному, для того чтобы скрыть от потомков собственные преступления и занизить количество жертв войны, приближение которой он проморгал.
Розыск на фоне погромаI
В общем, учет казненных при Иоанне Малюта поставил куда лучше, чем в предшествующие и последующие времена. Это объяснялось отчасти глубокой, затрагивающей сердце, религиозностью царя. Каждый в Опричном приказе занимался порученным делом, и только шеф успевал наблюдать за происходящим везде. Ничего от него не укрывалось. Малютины люди в Новгороде помогали государеву духовнику Евстафию и дворецкому Льву Салтыкову взять из богатейшей сокровищницы Софийского дома сосуды, иконы и ризную казну. Опричники снимали колокола, лишая музыки прозрачное голубоватое небо, которое над Волховом весной выглядит почему-то нежно-салатовым. Теперь небо онемело. И колокольный звон отныне не будет разноситься, волнуя сердце, по дальним окрестностям. Большевики подобного в Новгороде не учиняли с такой стремительностью и методичностью в бурные революционные дни.
Однако когда уж очень требовалось, розыск приостанавливали и подозреваемого, не ленясь, гонцом вызывали из Москвы. В середине января одними из первых к Малюте в застенок попали двое нерусских пушкарей: Максим-литвин и Ропа-немчин, не так давно пытавшиеся покинуть пределы взбаламученной новгородскими событиями страны и пойманые на горячем.
Малюта из них не то правду, не то ложь вытащил быстро. Прижег раскаленными добела угольками пятки и спросил:
– Зачем бежал? Чего испугался? Не гнева ли царского?
Максим-литвин послабее Ропы-немчина оказался. Упал на колени и выложил:
– Боярин Данилов Жигмонту предаться готов и соблазнил на то подлое дело не одних нас, а сам он вор – голодом пушкарей морил и о государе отзывался непочтительно.
Боярин Василий Данилов – величина на Москве немалая: начальник над воинскими орудиями. Пушкарский приказ располагал немалыми денежными средствами, но с древности известно, что чем богаче ведомство, тем аппетиты его чиновников неукротимей. Приказные дьяки в сем учреждении слыли чуть ли не самыми большими мздоимцами. Среди их клиентов числилось немало чужеземцев, которых Иоанн звал, обещая хорошее содержание. Литовцы, немцы, поляки, французы – иногда и пленные – старались не уронить собственного достоинства. Их профессия позарез нужна русскому государю, обладавшему сильнейшей в Восточной Европе артиллерией. Данилов завел в парафии драконовские порядки – жалованье платил от случая к случаю да еще часть отбирал. Русским пушкарям податься некуда – или в изменники на польские хлеба, или в застенок на дыбу. Перед чужеземцем подобная дилемма не возникала. Потому-то он к бегству склонялся. Максим-литвин да Ропа-немчин вошли друг с другом в стачку и дернули к литовским рубежам, но на полдороге застава их задержала. Попытали крепко помощники Малюты и вызнали, что за птица боярин Данилов.
– Ну, земщина теперь у меня закукарекает! – потирая руки, сказал Малюта. – Я их прижму!
И прижал! Максим-литвин первым не выдержал.
– Пресветлый государь, – докладывал Малюта царю, – пушкарь сознался, что боярин Данилов весь Новгород опутал и ложными посулами сманивал предаться Жигмонту. Очи на очи поставить надо беглых с Даниловым. Дозволь его в Москве взять и здесь до конца довести розыск.
Царь позволил, и вот земский боярин Данилов очутился на Городище, истерзанный опытными, безжалостными и, что самое удивительное, никогда не устающими от своей службы палачами. Чего только с ним не вытворяли они – и иголки под ногти, и по волоску из бороды выдирали, и пятки поджаривали. Ни стоять, ни сидеть боярин уже не мог – висел на руках дознавателей. Каялся, однако, он вяло и безынициативно:
– Виноват, батюшка Григорий Лукьянович! И воровал, и недодавал, и мздоимствовал, и расходовал средства не по назначению – вон себе какие хоромы отгрохал, и Жигмонтовым шпиком был, и в ливонские разведчики записался, и чего только против государя не удумал лихого! Всех новгородцев и псковичей я, прегнуснодейный, соблазнил и завел бы в Литву, коли б царские верные слуги меня от сего страшного греха не уберегли. Признаю, батюшка, и каюсь! Только дай попить водицы. Неделю жаждой томят. Уморили совсем!
– Так ты не злодействовал бы и пил бы вволю. Да не воду, а квас или пиво, – улыбнулся иронично Малюта. – Мало в чем покаялся! Еще что-нибудь да утаил. Фамилии соумышленников, например. Ну-ка, ребята. – И он мигнул помощникам.
Верный Булат заметался, схватил раскаленные щипцы и бросился к боярину. Данилов затрепетал в руках опричных дознавателей:
– Вот тебе последнее, Григорий Лукьянович! Когда с венецианскими пушкарями договор складывал, обманул их на тысячу рублей и с ихнего дожа за разные сведения содрал еще столько же – не меньше. Все секреты шпикам открыл, чтобы Жигмонту передали, – и как льем, и какие порядки у нас, и сколько огнеприпасов. Каюсь, что изменником стал! Всех тебе назвал, никого не скрыл. Вели меня больше не жечь, и пусть дадут водицы. Век за тебя буду Бога молить!
– Век твой короткий! – резко бросил Малюта. – Дайте воды! – И добавил: – Из речки! Пусть вдоволь напьется. И доносчиков Максима-литвина и Ропу-немчина напоить досыта.
Приказ Малюты означал смерть неминуемую. Малюта теперь не отделял правду от вымученного в застенке вымысла. Хоть и знатный земец Данилов, но защищать его или обвинять перед Иоанном – себе дороже. Пусть царь сам решает, угоден ли боярин или час его пробил. Жизнь человека не зависела от степени его вины, а исключительно от воли государя. Когда бойня идет – любой оговор что приговор. Кто разбираться захочет?! Опричники выполнили приказ и, напоив до икоты, расстреляли пушкарей из луков под одобрительные возгласы Иоанновой охраны, которая с удовольствием наблюдала, как из сымпровизированного застенка в подвале княжеского дома вытаскивают на мороз истерзанных пушкарей. Сколько истины содержалось в наговорах и признаниях боярина Василия Данилова, трудно сейчас установить. Но совершенно ясно, что пушкарем он был, очевидно, отменным. Московия славилась артиллерией и не раз доказывала русское превосходство – от Ливонии до Казани.
II
Верхушку духовенства, военных и гражданских вассалов архиепископа Пимена, пропустив через застеночный ад Городища, повезли в Москву. Там государь назначил соборный суд над архиепископом. Каких только знаменитых имен не встретишь в печальных малютинских отчетах! Исторический слух из хаоса имен и фамилий мгновенно выделит князей Тулупова и Шаховского, например, новгородских архиепископских бояр, и пусть далеко не каждый сумеет назвать, чем представители сих родов знамениты, а все же не преминет отметить, что из древности корни княжеские произрастали, – значит, выделялись какими-то достоинствами предки. Князьями так просто не становились. В Москву на суд погнали владычного дворецкого Цыплятева, конюшего Милославского и прочих менее известных пименовских вассалов. Не поленимся и заглянем в наш простенький зелененький советский энциклопедический словарик, и уверяю тебя, читатель, что ты сразу ужаснешься, из каких родов Малюта людей повязал и под топор подвел. Хоть первого Шаховского, хоть последнего Милославского. Ежели по алфавиту, то последний принадлежал к русским дворянам и боярам, которые выехали из Литвы в конце XIV века, а особенно возвысились в XVII, то есть в следующем за эпохой Ивана IV. Род Милославских дал жену Марию царю Алексею Михайловичу. Анна Милославская вышла замуж за боярина Морозова, имя которого знакомо каждому школьнику. Один Иван Милославский Симбирск защищал от Степана Разина, другой Иван соперничал с петровскими Нарышкиными и в 1682 году разжег Московское восстание.
Шестеро князей Шаховских здесь упомянуто. В настоящих биографических словарях куда больше. Чуть ли не всей русской истории свои плечи подставляли князья Шаховские. В разных лагерях состояли и разным занимались. Вот один ближайший к тому, кого Малюта пытал. – Григорий Петрович. Переметнулся в нерусский стан. Так в нерусском стане и предок Александра Сергеевича Пушкина состоял. Князь в Путивле распространял слухи о чудесном спасении Лжедмитрия I, участвовал в восстании Болотникова, служил советником у Лжедмитрия II. А Федор Шаховской, наоборот, в лагере именно русских пребывал – в Туруханске и Енисейске отмучивал ссылку после мятежа на Сенатской площади. Еще одни Шаховской знаменит развеселыми комедиями. И остальные Шаховские вышли людьми незаурядными и популярными: среди них писатели, воины и администраторы.
Если в Москве земщина кое-как уцелела, то в Новгороде понесла настолько значительные потери, что уже более не поднялась. Боярство тут всякий изничтожал – и посадские, и черный люд, и государь им помог. А жаль! Ей-богу, жаль! Родовитость не должна унижать незнатных. Основать фамилию и увековечить ее среди себе подобных всякими подвигами никому не возбраняется. Зачем же удачливых бить?! Злобный, пьяный и ленивый простолюдин все равно никогда не будет иметь случая выбиться в боярство. Простое происхождение Кузьмы Минина-Сухорука не помешало ему всенародно прославиться.
III
Княжий двор на Городище превратился одновременно и в Лобное место, и в застенок на открытом воздухе. Опричники толпой гнали обреченных, жен их и детей. Мало им казалось имущество отобрать. Малюта с царем обычно стояли на крыльце. Говорили, что этот поджар огненный сам государь выдумал. Да вряд ли! Скорее из Малютиных холопов кто-нибудь изобрел. Сперва Малюта спрашивал подведенного к крыльцу:
– Кто таков? И почему здесь очутился? Значит, виноват, пес?! Невиноватых тут мы не держим. Выкладывай, какие грехи за душой? С кем из Жигмонтовых агентов спознался?
Отвечали кто как умел: в меру охватившего испуга и умственных способностей. Грязной, Болотов и Булат – малютинский соратник – каждый раз докладывали:
– Вот Артемов в архиепископском полку служил. Соседи сказывали, что у него во дворе поляк Стефан находился. Через него голова и поддерживал сношения с Курбским.
– Точно ли? – переспрашивал царь. – Отвечай правду, не бойся! Однако и не запирайся. Уличу – двойной спрос.
Несчастный стрелецкий начальник, чуя притаившуюся за спиной смерть, не знал, что лучше – сознаться в несодеянном или заупрямиться и отрицать измену. Упрешься – на дыбе сломают, а рядом стоят на снегу жена и детишки мал мала меньше. Если смилостивится государь, то жизнь им оставит. Смотрит вроде не зло, обещает: не бойся! Ну и кто решение принимает? Одни такое, другие иное. А Малюта все равно не слушает и твердит свое:
– Не греши, изменник. Не запирайся!
И молодцам вокруг, которые смахивали на волков, почуявших добычу:
– А ну-ка, попытайте его!
Повлекли к пылающему костру полумертвого, чтоб сжечь. Но если кто опомнится и завопит:
– Винюсь! – тащат обратно к княжему крыльцу для окончательного разбора, а человека давно нет – грязный, кровавый комок, ободранный и дрожащий отболи и оскорблений.
– Вот до чего русского человека довели! – забился в конвульсиях один из обреченных, не выдержав именно обиды.
– Какой ты русский?! – сердито оборвал Иоанн. – Русский человек своего царя разве на Жигмонта-тирана променяет?!
И Малюта любимой турецкой саблей срубил грубияна.
– Какой ты русский?! – повторил он. – И мы, чай, не немцы! К полякам не бежим с злословием. И оттуда изменным способом Изборск не сдавали врагу. В легионах Курбского не шагали на Русь, за пиршественными столами с ним не сиживали, в рот ему не смотрели.
– Так их, псов смердящих, – подбадривал Малюту и Грязного государь. – Так их, изменников!
Потом и спрашивать перестали – не только имя, но и отчего на княжьем дворе очутился. Подгонит Булат дьяка или подьячего, монаха или посадского, Малюта сразу быка за рога:
– Изменник! По всему видать! Прочь его!
Только и слышно:
– Изменник?!
Какой-нибудь опричник иногда откликался:
– Изменник! На него двое указали.
– Взять его!
Уже и не пытали, – а, прибив, вязали веревкой, цепляли к саням или седлу и волочили к Волховскому мосту и оттуда сбрасывали вниз, в огромные полыньи, усеянные мелкими льдинками.
IV
Ах, Волховский мост! Недаром Перун из воды выкинул наверх палку. И палка оказалась толстой и длинной. Не новгородцы одни, получается, сталкивались здесь лоб в лоб, а пришлые из остальных мест русские люди с ними, и не стенка на стенку шли друг на друга, но сильные метали ослабелых с моста вниз. Там, внизу, среди льдин и льдинок, плавали на челнах пособники вельможного ката и баграми, веслами да шестами глушили недобитых, заталкивали полуживых, а то и вовсе живых под лед. Умно придумал Малюта, когда царю предложил:
– С моста свалим изменников! Куда их иначе девать? Мерзлую землю не продолбишь, снегом присыпать – к весне вонь пойдет и болезни. Волки да одичавшие собаки не только трупами будут лакомиться, но и на слуг твоих нападать.
Туго знал Малюта опричное дело. Если больше сотни сразу уничтожить, то вдаль смотреть надо: куда тела девать? Проблема трупов всегда стояла в Европе на первом месте. На Колыме или в Нарыме, на Сахалине или в Воркуте куда проще. Там природа мертвых охотно поглощает. Тело убиенного в звонкое бревнышко быстро превращается, а потом исчезает в вечной мерзлоте.
Так что Волховский мост весьма Малюте пригодился. И сбылось пророчество языческого бога Перуна! Потому что с богом – пусть и языческим – надо обходиться осторожно. Тут новгородцы маху дали. Перуна их предки почитали, а к предкам полагается относиться с почтением. Плюнешь на них, растопчешь идолов и богов, выстрелишь назад, в прошлое – из пушки – получишь в ответ смертельный залп, теперь ракетный. Каким бы прошлое ни вышло, его приходится уважать, даже если прошлое преступно. Откажись от него, осуди, но помни, что и при нем беду бедовали невинные люди, которые искренне молились ложным богам. А искреннее чувство – чувство великое!
Черные пятна усеивали снег вытоптанный и лед поколотый. По дороге от Городища к мосту валялись шапки, валенки, обрывки одежды и женские украшения. Взрослых дочерей и жен новгородцев, когда везли и гнали к Городищу, никак не щадили, лапали на глазах у бессильных мужей и детей. Многие отроки и отроковицы даже не понимали, что с их матерями вытворяют, и не отворачивались В слезах. Орущих пеленочников к спинам матерей привязывали и – айда! – в воду.