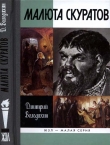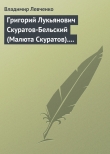Текст книги "Малюта Скуратов. Вельможный кат"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 47 страниц)
Но нет! Куда там! Берия не покидал Лубянского холма и оказывался в сложных ситуациях совсем иного рода.
XI
Сталин был хитрее и продуктивнее профессора Янова, что касалось истории, когда, опираясь на факты, утверждал, правда преувеличивая, что Малюта Скуратов являлся выдающимся военачальником и погиб в бою при взятии одной из ливонских крепостей. Именно Сталин настаивал на стройности и логичности исторических процессов, на поступательном развитии гражданского человеческого общества, закономерной смене его фаз и прочих марксистских бреднях, пользовавшихся успехом в прошлом веке и не имеющих и малейшего отношения к реальной жизни. Все это и позволяло вождю народов создавать порочные идеологические схемы, с помощью которых, однако, невозможно было объяснить, почему Лев Николаевич Толстой отказался от мысли писать роман о декабристах – этих мучениках прогрессивного экстремизма.
Как ни удивительно, концепции Сталина и профессора Янова в чем-то близки. Они разнятся главным образом арифметическим знаком. Концепция же Николая Михайловича Карамзина совершенно не устраивает профессора из Гарварда. По старой зловещей привычке советского лектора он смеет ее назвать лукавой и приводит в свою пользу апокрифическую эпиграмму Пушкина, автограф которой никогда не был обнаружен. Текст, оскорбляющий Карамзина – помните? – тот самый, насчет «необходимости самовластья» и «прелести кнута», – извлекли из рукописных пушкинских сборников, что наводит, и не только меня, на грустные размышления. Профессор советской поры Борис Томашевский потратил немало чернил, чтобы доказать, что эта эпиграмма принадлежит великому поэту, хотя тот признавался сам в письме к князю П. А. Вяземскому в авторстве абсолютно другой эпиграммы и к тому же – единственной.
И Николай Михайлович Карамзин, и Константин Дмитриевич Кавелин в книге «Тень грозного царя» получают абсолютно обветшалую советскую и примитивную трактовку из банального школьного учебника. Сергея Михайловича Соловьева профессор Янов так не унижает, как унижает Николая Михайловича Карамзина, – это и в эмиграции небезопасно и чревато подрывом собственного реноме. Вообще советские ученые в годы, предшествующие смерти Сталина, с очевидным пренебрежением относились к Карамзину. Так, например, кандидатская диссертация молодого талантливого ученого Юрия Михайловича Лотмана в 1951 году носила название «Александр Николаевич Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина». Имени и отчества Карамзина автор не указывает. И действительно, к чему они? Легко себе представить концепцию, которая положена в основу этой диссертации.
Книга А. Янова в очередной раз подтверждает бесплодность исторических аллюзий, исторического параллелизма, идентификации мотивации и попыток превратить живой, непредсказуемый и противоречивый процесс, похожий на детские бессмысленные каракули, в логически выстроенную линию или восходящую вверх спираль, обладающие началом и концом, в то время как история есть замкнутый и постоянно расширяющийся круг, состоящий из точек или, если угодно, элементов, ничем по сути своей друг друга не напоминающих. Похожесть этих точек-элементов кажущаяся, чисто поверхностная, констатирующая, но не затрагивающая глубины явления.
Часть вторая
Зачинщики раздора
Убегая от дыма, безумно попадаешь в огоньI
Малюта переоборудовал застенок. С помощью каменщиков и плотников он значительно расширил пространство подклети под Тайницкой башней, перегородив его так, чтобы легко было уединиться и переменить стрелецкую одежду. Жаль даром тратить серебряной нитью шитый кафтан, а в застенке ткань прямо горела, пропитываясь тошнотворными запахами, и, случалось, пачкалась не только кровью, но и нечистотами. С некоторых пор Малюта стыдился в подобном виде являться домой. Кафтан он не переодевал, когда ждал государя. А Иоанн все чаще и чаще наведывался сюда. Нравилось беседовать с Малютой. И Малюте нравилось беседовать с повелителем. Оба чувствовали, что отношения постепенно переходят какую-то грань. Однако Малюта опасался сокращать расстояние между рабом и хозяином. Особенно он начал подчеркивать разницу после одного происшествия. На пиру князь Курбский – Малюта упустил, по какому поводу – отрывисто бросил товарищу юношеских игр:
– Не рабы мы твои, государь пресветлый, и не холопы, и не дворня подлая, а слуги верные, при надобности отдать за тебя живота не жалеющие, но и пустого позора сносить не желающие.
И тут заметил Малюта, какой взор искоса кинул Иоанн на князя из-под изогнутой – тонкой и грозной – брови. Была в том взгляде звериная злоба. Вот какому зверю та злоба принадлежала, Малюта сообразить не мог. А на прошлом пиру Иоанн обнимал князя Андрея за плечи, повторяя:
– Ты мне больше, чем брат. Что мне брат скудоумный?! Что другой брат – дальний, обвитый матерью-змеей. Так и ждут укусить! А ты мне больше, чем брат. Ты друг мой!
Близ царя – близ смерти. Сколько раз твердить этот афоризм? Но не втемяшивался он в головы людям. Когда повезло с царем дружбу водить, то осмотрительность и осторожность здесь не помешают. Не должен, однако, царь тяготиться тобой. Привольно ему должно быть в твоем обществе и удобно. Нехорошо, если он меняется в лице при внезапном твоем появлении, как менялся в лице Иоанн, когда в покои входил поп Сильвестр, один или вместе с Алешкой Адашевым. В последнее время Малюта обратил внимание, что государь сердится на советников, недоволен ими. Не угадывают государевых желаний и все поперек норовят. Малюта из долгих наблюдений правильные уроки извлекал. Он с Иоанном держался ровно, но хитро. Как при посторонних, так и с очей на очи. Царь не удивлялся и принимал как должное. Значит, Малюта правильный выбор сделал. Самая большая близость между Иоанном и Малютой возникала в застенке. Здесь они достигали наивысшего взаимопонимания. И ничего этой сердечной близости не мешало.
Малюта взял в помощь четверых стрельцов: двух – из городовой стражи, двух – из Царева полка. Клички они получили в соответствии с характерными чертами внешности: Око – глазастый малый, Седло – парень с вогнутым лицом, Клещ – мужичок кащеистый и жилистый, а Борода – немолодой человек с рыжеватой кудрявой порослью на щеках и под челюстями. Непохожих по облику объединяли одинаковые свойства – неразговорчивость, сметка и понятливость. Словом, то, что мы иногда называем умом. Перед носом у государя они раздражающе не мелькали, держались незаметно и скромно. Бывшие стрельцы – люди честные, в руках палача не побывавшие, но в застенке нужны и иные, кто способен без колебаний на народ к плахе выйти. Отыскал Малюта троих. Одного – площадного вора по прозвищу Карман, второго – отцеубийцу, который отзывался на любое междометие и клеймил себя ежедневно:
– Проклят я, как Иуда! Нету у меня имени!
И третье приобретение – скоморошьей складки вертлявый пропойца, пойманный на лошадиной краже. Их при царе в застенок не допускали.
Ну и стражу навербовал Малюта добрую. Брал исключительно по желанию и если стрелецкий начальник хвалил. Обязанности распределились сами собой. Око наблюдал за порядком, Седло заведовал пыточным инструментом и отвечал за его исправность, Клещ и Борода находились неотлучно при дыбе и угольях. У Бороды руки длиннющие. Правой свободно за веревку тянет, а левой кузнечный мех раздувает. У Казика ничего подобного – никакого разделения труда – не существовало. При нем все по старинке. Можно и по старинке, если расспрашиваемых единицы, а коли потоком – десятка два в сутки? Сразу встал вопрос о главном помощнике. И такого Малюта нашел, хотя и не сразу. Дворянский сын, в младенчестве согнанный с земли князем Андреем Старицким. Лишь погодя его – Фомку Порухина – Малюта в тайное тайных допустил – постепенно, долго присматривался, к себе домой в гости водил, за стол сажал, пока не убедился – свой!
И действительно – свой! И тоже – рот на замке.
Парадоксальная штука, застенок. Его служители – молчуны из молчунов, брехливые не задерживаются, а от клиентов требуется противоположное – болтовня. Если язык не распустишь, то отсюда быстро спровадят в рогожном мешке. Слух полз по столице, что из кремлевских подклетей, где иногда содержали взятых прямо на пожаре или откуда-то привезенных, никто живым не выходил.
– Вранье! – смеялся Малюта, когда они с братьями Грязными и Афанасием Вяземским собирались узким кругом. – Вранье! Каждого второго-третьего пущаю на волю. Ей-богу!
– На волю, то есть гонишь в ссылку, – хмыкал Григорий Грязной.
– Может, и в ссылку, – соглашался Малюта. – Да на своих двоих, а не ногами вперед, как Казик.
II
Вот и сейчас он сидел, протянув руки к огню – в застенке не тепло, хотя и не сыро, – в ожидании государя. Рядом, выпрямившись, стоял нестарый чернец, приведенный шпиком Данилой перед очи. Городовые стрельцы хорошо обучены – подозрительных из круговерти толпы выдергивают арканом лихо. От них не уйти, не скрыться. Да и народ не защитит. Едва нацелятся стрельцы на несчастную жертву – сразу вокруг пустота образуется, и кто возле обретался, норовит ускользнуть. Свидетеля, ни в чем не виновного, частенько на дыбу волокут как доподлинно обнаруженного и доказанного преступника, и муку он принимает не меньшую. Иоанн хотел все знать, что происходило в Московии.
– Властитель чем силен? – спросил он однажды у Малюты.
Тот, стиснув губы так, что они исчезли в негустой бороде, указал пальцем на ухо. Иоанн милостиво похлопал приближенного рукоятью плетки по плечу. С той поры Малюта тратил время если не с государем, то в поисках языка. Сейчас ему повезло: стража схватила кого надо. Благолепного образа чернец, высокий, ладный, с гордой осанкой. И связанный сыромятным ремнем ее не потерял. И черный колпак, который иных смешными да нелепыми делал, чернеца не портил.
– Куда путь направил, странник? – спросил Малюта, помешивая кочергой подернутые пеплом уголья на железном листе с загнутыми краями.
– Родича навестить, – ответил быстро чернец.
– Доброе намерение. А где твой родич живет?
– Холоп он князя Курбского. У него и живет.
– Да ну?! – обрадовался Малюта. – А не брешешь? Холоп Романа или Андрея?
– Я не собака, чтобы языком без толку мотать. И зачем мне врать? Я правду говорю. Холоп князя Романа.
– А ты знаешь, куда попал? И кто я такой?
– Думаю, слуга государев верный.
– Дураком не прикидывайся. За что тебя схватили?
– Не вем. Отпустил бы ты меня, боярин? Вечно буду Бога молить за тебя. Отпустил бы ты меня. Сердце что-то трепещет. Пагубу чую.
– Отпущу, ежели ни в чем не повинен.
– Вины за мной никакой нет.
– Нет?
– Нет.
– Твердо на сем пляшешь?
– Твердо.
– Ну посмотрим. Так, откель путешествуешь?
– Из Троице-Сергиевой области.
– Не притомился?
– Да нет. Здесь недалеко.
Жертву свою Малюта до поры до времени старался не пугать. Надежду до последнего не отнимал. Беседой тихонько подталкивал к дыбе. А сам в те мгновения предполагаемую истину выстраивал, цепь поступков схваченного, и готовил неожиданный и сокрушительный вопрос, причем задавал его, когда видел, что обреченный почти успокоился.
– Чем существовал? Подаянием?
– Подаянием, – признался чернец. – Людей незлых и нежадных на Руси много. Уж на что зимой голодно, а краюшкой каждый охотно поделится.
– Да, людей, зла не таящих, на Руси много. Это ты правильно расчел. Как звать-то тебя?
– Савватий.
Тут что-то Малюту толкнуло в сердце. Он всегда ощущал явственно момент, когда медлить уже не стоило. Этот момент, этот толчок – самое главное в розыске. Упустишь – не угадаешь, как повернется. Малюта знал, что простой русский человек имеет лихое свойство. Чем грубее его давишь, тем отчаяннее сопротивляется. А чем внезапнее сломишь, тем скорее он надежду на благополучный исход теряет. Когда надежда исчезнет, бери голыми руками. Русский человек без надежды и веры в справдливость – так, жижа одна. Малюта наблюдал, как расспрос вел Басманов: кулак у боярина пудовый – кувалда, не легче и у Вяземского, да и Василий Грязной не из слабых. Но поддавались им почему-то туго. И в кость били, и мясо клещами рвали, и подошвы батогами и угольями грели, а пытанные только мычали, да на пол с них экскременты летели. Вот отчего Малюта крепко над чертами характера русского человека замыслился. Татарин – что? Татарин в бою страшен. Саблей машет, пока на ногах стоит, упал – зубами в ногу вгрызется. Мертвым притворится, а склонишься над ним – нож в живот воткнет, изогнувшись. Да, татарин в бою отважен до безумия, отбивается от наседающих стрельцов чем попало: камнем, палкой, землю с травой вырвет и глаза запорошит. Русский воин – только на ногах воин. Богатырь! А как упал, совсем пропал. И сам лежачего не бьет, и не хочет, чтобы его – лежачего – били. Гордится! До той минуты русский воин – воин, пока витязем себя чувствует, а как в прах повергли, так скис, потому что на людях ему смерть красна. Но вот странная особенность застенка: никого вроде вокруг нет, а смерти – почитай через одного – сопротивляются. Крестную муку принимают, но не сдаются. В застенке русский человек иногда иным становится. Однако если с умом, как тростинку через колено переломить, то очень часто язык распускает и такого нагородит про себя и про других, что потом зерно от плевел не отделишь для царя сразу. И опять пытай, но в обратную сторону: на себя, мол, напраслины не возводи, царь напраслины не любит. Она ему не нужна. Он эту напраслину сам выдумает и в грамоту велит занести. Но на первости его лишь правда интересует. Следовательно, момента, когда у расспрашиваемого жила ослабла, не упусти. Едва поймал точку – бей с налета и гляди, как надежда с лица сползает и взор гаснет.
Малюта поднялся, но что-то неясное и необъяснимое его вдруг удержало. Руку занес и уронил, рот раскрыл, чтоб Клеща кликнуть, но уста сомкнул: настолько чистым и незамутненным был взор чернеца.
– Савватий? В святые лезешь, смерд! – бросил Малюта все-таки немирно и угрожающе и сел обратно в деревянное кресло. – А за стенами обители как?
– И родные кликали так же, – потупив очи долу, ответил чернец.
– А бабы?
– Я обет дал. Отпусти меня, боярин. Господом Богом клянусь, ни в чем я не повинен. Отпусти!
– Ладно. Отпущу. Только признайся честно: что Курбским вез – золото или бумаги какие?
– Ничего не вез. Нет у меня ничего – ни в суме, ни за пазухой.
– А на словах? – хитро прищурившись, спросил Малюта.
Не обойти ему хозяина застенка. Не поднаторел малый в секретных забавах, которым предаются сильные мира сего, бахвалясь, что знают, как этот мир получше обустроить.
– Слов-то во мне понапихано много, – согласно кивнул чернец. – Куда от слов деться? Может, какое сгодится и Курбским. Однако ничего дурного в моей памяти не прописано.
– Посмотрим, – сказал Малюта, поднимаясь и нащупывая рукоять плети. – Посмотрим, из чего ты сотворен. И на чем слово твое держится.
Малюта, нащупав рукоять плети, замахнулся было на чернеца, но его отвлек скрип двери. Он оглянулся – на пороге возвышался государь.
III
Малюта отшвырнул плеть и преклонил колено. Клещ успел толкнуть чернеца в спину, и тот распростерся ниц, а сам Клещ согнулся в три погибели и чуть ли не уперся лбом в пол.
– Ну, слуги мои верные, – улыбнулся Иоанн, – здоровы ли?
– Слава Богу, – ответил Малюта, – слава Богу, пресветлый государь! Твоими молитвами!
Из-за плеча Иоанна выглядывал князь Афанасий Вяземский.
– Ведомо мне стало, – начал Иоанн, – что к тебе на допрос привели гонца из Троице-Сергиевой обители к Курбскому с последним напутствием обласканного мной иерея Максима Грека, который и по кончине не смирил дикой гордыни.
И внезапно то, чем собирался похвастать Малюта перед царем, превратилось в совершенно ничтожные и никому не нужные сведения, вовсе не требующие стольких усилий и хитроумных ходов, какие разметил Малюта. Иоанн весело смотрел в лицо ошеломленному хозяину застенка, любуясь достигнутым эффектом.
«Вот что значит русский царь!» – говорил пламенеющий взор из-под высоко выгнутых бровей. «Ах, дьявол! – мелькнуло у Малюты. – Ах, дьявол!»
Малюта подумал, что если дьявол и существует, то он перед ним сейчас стоит. Он не нашелся, что сказать Иоанну. И правильно поступил. Полное и безоговорочное признание превосходства – лучший путь к сердцу властелина. Да и что молвить, коли оно – превосходство – налицо!
«Не больно ты мне нужен! – кричал взор Иоанна. – Мне внятно все! Каждое твое движение, каждая твоя мысль для меня не секрет!»
Князь Афанасий Вяземский смотрел на повелителя в ужасе. Как он догадался? Откуда так скоро проведал? Кто донес? Неужели и за преданными слугами наблюдают? Не дьявол ли нашептал ему?
«На то он и царь, – решил Малютин помощник Клещ, – чтобы все знать и карать нас, рабов Божьих, согласно сему знанию». Некоторые начатки правильной юриспруденции не были чужды застенку Малюты Скуратова.
– Состоял при упрямом иерее, Савватий? – спросил чернеца Иоанн.
И имя сообщили! Ну, кто? Кто?
– Состоял. Не откажусь.
– Добро. Значит, бес тебя не попутал. К правде дорогу не запамятовал, – усмехнулся иронически Иоанн. – Поднимись, дай тебе в очи глянуть.
Чернец поднялся и прямо уставился на царя.
– Не робок! – тихо прошелестел Иоанн одними губами, едва ли не без участия голоса. – Как там живет да поживает Силуан? – поинтересовался государь, искоса наблюдая за онемевшими сподвижниками – Вяземским и Малютой. – Муж многоумный и опытный и в вере крепкий.
Силуан, или, как его еще называли, Сильван, – инок Троице-Сергиевой обители – начинал с места писца при Максиме Греке. Он знал все тайные помыслы прекрасного старца, знал и о его итальянских путешествиях, знал и об Иерониме Савонароле, рассказывал ему славный наставник о великолепном сказочном граде Венеции, где он занимался науками под руководстом Иоанна Ласкариса. Дружбой молодого Максима Грека гордился типограф Альд Мануций. В эпоху Ренессанса умели ценить человека не по возрасту, а по талантам.
– Скоро, очень скоро каторжный труд писца уйдет в прошлое, – пророчествал Максим Грек, ободряя Силуана, у которого на пальце правой руки образовалась от усердия кровавая мозоль. – Книга войдет в каждую избу, повсюду откроются школы, и ереси тогда уже не будет места на Руси.
Ни Малюта, ни Вяземский ничего не слыхали о Силуане и были немало потом удивлены ходом мысли царя. Малюта полагал, что подозрительный Иоанн прикажет вздернуть чернеца на дыбу, вырвать любое признание, которое припрячем до нужной поры, против Курбского, а самого чернеца велит бросить в темницу. Но что было лишним и непонятным для Малюты и даже Вяземского, то казалось необходимым царю. Между ним и Масимом Греком все-таки существовала какая-то мистическая связь. Ведь недаром юный Иоанн, несмотря на то что соборы 1525 и 1531 годов осудили Максима Грека почти как еретика, вменив ему многие тяжкие, хотя и мнимые вины, спас старца от гонителей, облегчил участь в разных монастырских тюрьмах и в конце концов позволил перевести под Москву, в Троице-Сергиеву обитель. Но теперь знаменитый затворник не интересовал царя. Он знал, что окружение Максима Грека в светской жизни не играет никакой роли. Однако ереси, столь распространенные на Руси, оказывают воздействие именно на светскую жизнь. История с Матвеем Башкиным и Феодосием Косым убедительно это подтвердила. А инок Отенского монастыря Зиновий, один из учеников Максима Грека, прославился своей борьбой против Башкина и его приятелей-еретиков. Каким же он будет правителем, если не каждую букашку использует во благо себе? Сегодня еретик какой-то купчик Башкин, а завтра – сам Зиновий или дьяк Нил Курлятев, который в рот Максиму Греку смотрел и из его рук питался. Возле Максима Грека терся и Курбский. От него усвоил чужестранные понятия и представления.
Силуан – грамматик, Дмитрий Герасимов и Михаил Медоварцев – толмачи и толкователи священных текстов, казанский архиепископ Герман и архимандрит Новоспасский Савва хоть и вдалеке от знаменитого затворника находились, а будто по подсказке того жизнь творили и себе подобных выкармливали. Вот и Андрей Курбский их гнездовья птенец. А князь, сила немалая, храбрый воин и не вор. За Курбского многие кричать будут. Он своеволен, обидчив, того и гляди за бугор убежит. Поляки да литовцы от князя, без ума.
– Вот какой круль на Руси нужен, – будто бы спорили на сейме ляхи, надеясь на скорые перемены в Московии. – Вот это будет круль!
IV
Да и чем Курбский не король? Но Иоанн какой-то клеточкой мозга знал, что Курбскому здесь не править. Ни ему, ни таким, как он. Зараза, конечно, шла от Максима Грека. Чужестранец всегда останется чужестранцем. Ему Русь не дорога. Он ее во имя кажущейся истины затоптать готов. И Курбский ничем от строптивого старца не отличается. За ними нужен глаз да глаз. Впрочем, Максим Грек испустил дух, но Курбский с соумышленниками живы и действуют. А поимка чернеца Савватия тому подтверждение. Однако не хотелось Иоанну сразу переводить внимание Малюты и Вяземского на князя Андрея. Розыск можно пустить по другому пути, вместе с тем в уме держать не раз промелькнувшее и укрепившееся давно в сознании: Курбский изменник ему.
– Ну-ка, Григорий, узнай у Савватия, – и Иоанн кивнул на чернеца, – к каким писаниям Максима Грека привержен?
Малюта почувствовал дрожь во всем теле. Куда нам с Вяземским до государя?! Вот кто должен на Руси розыск вести. Никакой бы измены не существовало – с корнем бы враз выкорчевали! Если чернец обыкновенный лазутчик – тут пройдохе и край! Разве лазутчик писания старца знает? Да не в жисть! И без дыбы язык развяжет – одним кнутом припугнуть. Настоящий розыск ясного ума и неизмученного тела требует.
Малюта, однако, расправил плечи и схватил чернеца за грудки. Иоанн поморщился. Всему свой час.
– Ты слышал, о чем царю поведать надо? – спросил Малюта, отступая на шаг.
Выпрямившийся чернец не испугался и не смутился. Значит, государь грамотеев ценит и жалует. Может, и обойдется.
– Слышал. И готов назвать. Более, чем к иным, привержен к «Сказанию о совершенном иноческом жительстве».
– Так, – кивнул будто милостиво Иоанн.
Но один ответ не ответ, а может почитаться за случай. Тут сперва надобно прикосновенность чернеца к бывшему кружку Максима Грека установить, хоть кружок тот и раздроблен на мелкие частицы, а которые из них даже – из частиц – сгинули.
– Еще, – усмехнулся царь. – Еще к чему привержен? Что читал, что запомнил? На что радуешься?
Нет, розыск – тонкая материя. С налета мало чего добьешься. На дыбу надейся, да сам не плошай. К дыбе подвести полагается, и на ней-то о главном зайдет речь. Малюта дивился изворотливости царя. Молод, а зрел. В потемках видит, как днем. Чужая душа потемки, но не для царя.
– Еще! – повторил Иоанн и притопнул ногой. – Еще к чему привержен?
– К «Сказанию о разрешении обета постного».
– Еще!
– У инока сочинений много. Что прикажешь вспомнить, великий государь?
– Тебе, чернец, наверно, нравятся обличения?
– В обличениях, великий государь, и страданиях вся святость вероучителя и содержится.
– Вот и просвети нас, сирых, во тьме блуждающих, жадных и нечестивых, – подмигнул Малюте Иоанн и притянул Вяземского к себе, будто и князя причислил к жадным и нечестивым. – Ты-то сам вроде нестяжатель?!
Чернец побледнел и решил, что пришел его смертный час. Но он слишком хорошо думал о властителях. Не час смерти настал, а час мучений бесчеловечных.
– Какая правда в том, чтобы удалиться от своих имений, – с печальным вздохом начал чернец, – будто бы ради Бога, а потом приобретать чужие. Ты снова впадаешь во все попечения, ослепляющия твои умственные очи губительными безчиниями плоти, которыми, как диким тернием, заглушается все, посеянное свыше в сердце твоем…
– Так, так! – зловеще улыбнулся Иоанн. – И далее следуют слова праведника: ты опять созидаешь, что прежде разорил, и опять страдешь: убегая от дыма… Убегая от дыма…
Он, очевидно, запамятовал, что за сим следует.
– Ну! – зверски сверкнул белками Малюта. – Ну! – И он замахнулся на чернеца.
– Не трожь! – вскинулся тот. – Не трожь! Ясному слову внемли! – И он продолжил: – Убегая от дыма, безумно попадаешь в огонь.
– Как можно, взявши крест или отрекшись от себя, снова заботиться о золоте и имениях? – не оставляя обычной для него иронической интонации, заключил Иоанн текст, который хорошо знал и который был сосредоточением настоящей церковной войны, какую вели Нил Сорский и Вассиан Косой против любостяжательности монастырей и владения имениями.
Малюта предположил, что царь сейчас велит подтащить дерзкого к дыбе, но Иоанн молчал и лишь смотрел на чернеца прищурившись.
– Что в клюве к Курбскому нес? Знаю я вас, еретиков! Вам над православием и над святой Русью надругаться – тяжелее плюнуть! – наконец произнес он.
– Господи! – упал на колени чернец. – За что? Что я сотворил вопреки воле Всевышенго? В чем я провинился?
– В вере не крепок, – отрезал Иоанн. – Сам признался, что католическую выше православия ставишь! Разве не так?
– Не так, великий государь, не так! – воскликнул чернец.
– А кто утверждал следующее, а ты не отрекся, что к сему привержен? – И царь, прижмурив один глаз, отчего другой виделся огромным и яростным, четко, как чтец по грамоте, но врастяжку, отчеканил: Сие пишу, чтобы показать православным, что и у неправомудренных латинян есть попечение о спасительных евангельских заповедях; что по святым заповедям устрояють иноческое пребывание у них монахи, братолюбию нестяжательности и молчанию которых и нам должно подражать, чтобы не оказаться их ниже! Картезианцев хвалить! – И Иоанн посохом ударил чернеца. – Изменники вере и царю!
Иоанн был отличный полемист, особенно в застенке, а при нем вся Русь превращалась постепенно в застенок.
– Чужая вера вам милее, чем своя! Тебе вера, Курбскому доспех! Бери его, Григорий, и душу из него выйми. Пусть откроет, с чем шел к Курбскому.
И Иоанн, резко повернувшись на каблуках, исчез вихрем в дверном проеме, окутанный невесомой, как облако, накидкой и увлекая юркого Вяземского. Так огромный черный водоворот втягивает в себя легкую белую щепку.
Малюта облегченно вздохнул. Ну, теперь привычно! Без всяких премудростей. Он бы из чернеца давно душу вынул. Малюта кликнул дьяка, а Клещ пока связал руки Савватия и подтащил к дыбе.
Через час, когда стемнело, он вынес тяжелый мешок и бросил в телегу. Лошадь заржала и запряла ушами, почуяв неживое. Клещ расправил вожжи и ласково чмокнул губами:
– Но-о… Милая!
Телега тронулась и вскоре выехала из кремлевских ворот.