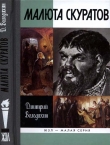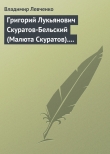Текст книги "Малюта Скуратов. Вельможный кат"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
I
Почти сразу после того, как опричнина набрала силу, Иоанн приступил к высылке из Москвы и других мест неугодных бояр и князей. Теперь за умышлявших измену некому было заступиться. Митрополиту Афанасию пришлось выполнять принятые духовенством в Александровской слободе условия. Вскоре он, изнуренный прежней борьбой, отказался от митрополии. Иоанн позвал на его место архиепископа казанского Германа. Но как только пастырь завел речь, которая напомнила Иоанну Сильвестровы увещевания, он с Германом распрощался. Собрав Басмановых, Малюту, Вяземского и Грязных, Иоанн переложил им филиппики архиепископа:
– Страшным Судом грозил! И вечной мукой за якобы совершенные грешения.
– Разве с государем о смерти толкуют, когда приближен к новой жизни и престолу? – притворно удивился Алексей Данилович.
– И ежели он истинный архипастырь, то не запугивать властителя должен, а поддерживать в благих начинаниях, – заметил князь Вяземский.
Малюта и Грязные не вмешивались в дискуссию, зато боярин Дмитрий Годунов – постельничий и дядя отрока Бориса, который по Кремлю бегал как по отцовскому двору, – поддержал Басманова-старшего:
– Не навязывать тебе, пресветлый государь, свою волю должен архипастырь и не удерживать тебя в проявлении твоей святой воли, а поддерживать сугубо в каждом деле, укрепляя души подданных в решимости исполнять твои повеления.
Дмитрий Годунов славился разумом и дальновидностью. Малюта всегда прислушивался к боярину и расположение его ценил. Годунов плечом Малюту подпирал, в свою очередь отдавая должное уму и хитрости царского охранника. Породниться с ним был не прочь. Даже промеж недоброхотов слух прошелестел, что старшая дочка Малюты растет миловидной и доброй девушкой.
– Вот и пара Борису, – как-то в застолье обронил боярин.
– Благословлю сей брак, – произнес искренне Иоанн, – и предвижу ему счастливое будущее. Ты, Малюта, приглядись к Борису.
Так и сладилось. С той поры Дмитрий Годунов чуть ли не ежедневно царю хвалил наметившегося родственника:
– На Руси верность – дороже злата, пресветлый государь. Вот сколько я знаю Малюту, ни разу от царского повеления не отступил!
– Отступил бы – голову с плеч долой! – неожиданно резко и зло ответил Иоанн: он любил осаживать и близких людей, чтобы не забывались. – Я к обману чуток! Иногда и год и два терплю, но изменника все равно покараю.
Малюта и Васюк Грязной в обсуждении судьбы архиепископа Германа участия не принимали. Он для них интереса не представлял. Церковных деятелей Иоанн в застенок не выдавал. Жизнь в отдаленном монастыре лучше любого палача замучает. Настоятель – что стрелецкий голова: пикнуть ни тот, ни другой не смеют. Владычествует, как пожелает. А желание у большинства одно: угодить государю. Басманов-старший сразу перекинулся на сторону царя, впрочем, как и раньше при конфликтных ситуациях, возбудив в нем неприятные и оскорбительные воспоминания:
– Думаю, пресветлый государь, что Герман желает быть вторым Сильвестром: страшит твое воображение и лицемерит в надежде овладеть тобою. Но спаси нас и себя от такого архипастыря.
Алексей Данилович выражался всегда тонко. Нанося укол в чувствительное место и касаясь самой сердцевины власти, он вместе с тем выставлял себя и остальных вероятными жертвами.
– Найдем другого. Святые на Руси хоть и редкость, но зато как горы возвышаются: издали видно!
Быть может, в ту минуту Басманов пожалел, что сковырнул казанского мудреца. Если царь имеет в виду игумена Соловецкого монастыря Филиппа Колычева, то для опричной власти хуже противника не отыскать. Сильвестров приятель и сердцем непримирим. Но Иоанн обладал умом широким и значительность бремени власти ощущал постоянно. Репутация соловецкого монаха безукоризненна. Иоанн святость Колычева ценил и искренне надеялся, что игумен будет опорой. Басманов куда как неглуп, но он у подножия трона, а не на троне. Разница! Появление Филиппа в Кремле утишит страсти и позволит Иоанну действовать смелее. Веря в божественное происхождение державной власти, он тем не менее нуждался в духовном ободрении. Борьба с изменой требует сил, а где ту силу обрести, если не у алтаря?!
II
Когда он находился в Александровской слободе, то жил по-монашески, вовсе не пародируя христианские обряды. Звонил с сыновьями и Малютой, молился, прикладываясь высоким лбом к плитам – до синих кровоподтеков. Напрасно над ним кое-кто исподтишка потешался. Напрасно потомки пародией исполнение им обряда называли. Это с колокольни времени так кажется. А он верил! И верил всем существом. Его необузданная натура инстинктивно искала в религии оправдания бурным страстям и порывам. Он допытывался у духовников и прежде не раз вопрошал Сильвестра:
– Ну какой он? Какой Бог? Где он? Как к нему добраться? Слышит ли он мои молитвы?
Иоанну отвечали достаточно внятно, но он, погруженный в различные религиозные сюжеты и вместе с тем лишенный фундаментальной церковной культуры, оставался неудовлетворенным. Малюта, видевший царя в разных ситуациях, понимал, что тот ищет опоры не только в насилии. Сам Малюта считал себя человеком верующим, не богохульничал дома и наедине с собой, но вера его обладала одной характерной особенностью. Прикажи государь осквернить святыню, он не задумываясь выполнил бы повеление, и выполнил вовсе не из страха за свою жизнь, а потому что думал: в словах царя есть тайный Божественный смысл. Значит, святыня не подлинная, а поддельная. Верил он, таким образом, не в Бога, а в царя и царя принимал за Бога. Кто имел прикосновение к царю, с того любая ответственность снималась. Излагая тревожные мысли Васюку Грязному, с которым был откровенен, часто утверждал, что и застенок в Александровской слободе, куда наведывался регулярно царь, есть не что иное, как место если не святое, то причастное к Божественному откровению:
– Через муки тела слышен нам голос Всевышнего, который и открывает вопрошающему истину.
Человек, который почти каждый день проливал чужую кровь, в конце концов начнет искать если не оправдания, то объяснения зверским деяниям. Молился Малюта горячо и истово и дома следил за тщательным соблюдением обряда. Раскаяние напроказивших детей должно идти из глубины души. И действительно каялись искренне. Вот почему о них шла не худая слава. Грязной в подпитии не очень соглашался с другом и покровителем:
– Дьявол вселился в нас. Без разбора бьем и ни за что! Гореть будем в аду. Здесь мы их на сковороду сажаем, а там – они нас поджарят. Каково?
Васюк Грязной без поддержки Малюты опустился бы до простого шута. Скоморошеством царя потешал, но Иоанн улавливал в Грязном что-то фальшивое, какое-то несогласие с происходящим. Басмановы, Вяземские и Малюта отдавались игрищам да веселию безоглядно, а вот Грязной – нет. Видно, песня да шутка по-особенному влияли на него. А так Грязной ни в чем не уступал, кнутом щупал спину на пыточном дворе какого-нибудь вора или изменника, ногти рвал да кости ломал, если доводилось. Вот только дома такого, как на Берсеневке у Малюты, не имел и к царю в душу не проник.
III
Опричные соединения приращивались быстро – снежным комом. Охотников послужить государю этаким образом оказалось немало. Однако брали с разбором. И не просто опрашивали: кто, мол, такой и с кем дружишься? А стороной узнавали – у соседей и знакомых. Государь отдавал предпочтение суздальцам, псковичам, вологодцам. Кто не пригождался – отсылал прочь. Задавал вопросы сам, помогали ему Басманов с Вяземским. Прошедших конкурс направлял к Малюте и Грязным. А те настолько навострились, что с первого взгляда определяли, какова цена претенденту на звание опричника. Их ряды Иоанн насыщал иноземцами. Искал у пришельцев сочувствия, долго объясняя, что вверенную ему Богом страну он располовинил на земщину и опричнину вынужденно, дабы окончательно не стать жертвой измены.
В романе шаткость исторических аналогий уже была отмечена, и не раз. Поверхностная похожесть явлений ничего не объясняет и обычно заводит в тупик. Если репрессии и репрессионный аппарат Иоанна носил чисто экономический характер и направленность, которым впоследствии попытались придать антибоярскую окраску, то сталинские репрессии и сталинский репрессивный аппарат обладал исключительно политической направленностью. Шуйские и Старицкие прежде всего предъявляли экономические претензии, сталинская оппозиция от Троцкого до Томского – политическая. Иоанн двигался через экономику к политике, отбирая и разоряя боярские поместья. Сталин, наоборот, шел политическим путем к экономическим преобразованиям. Опричнина превратилась в самоуправляемую территорию со своими законами и органами власти. Эта самоуправляемая территория обладала сконцентрированной под единым командованием вооруженной силой, которой у земщины не существовало, если иметь в виду регулярные и подчиняющиеся ей войска. Иоанн мог бросить на земщину опричные соединения, земщина была бессильна защитить себя, а о том, чтобы пойти войной на опричнину, не могло идти и речи. Таким образом, Россия продолжала оставаться одним государственным телом с преобразованной системой управления, основанной на терроре. Экономически в это время существовало две России – опричная и земская. При Сталине о двух Россиях никто и не помышлял. Террористический чекистский инструментарий действовал в одной стране, направляя все усилия на ее экономическую унификацию. У Сталина чекистские соединения и РККА выполняли, порой одни и те же функции. Опричнина сразу накинулась на боярство, придавая мучительной казни лишь немногих, остальных высылая на дальние рубежи и выделяя там имущество – землю, дома, скот. Сталин со своими врагами расправлялся куда круче, да и богатства у них отсутствовали. Скажу больше: он избавлялся не от противников, а от единомышленников. Иоанн – наоборот, ликвидировал тех, кто открыто или тайно противостоял ему. Настоящих единомышленников он до ликвидации опричнины не трогал. Всякие аналогии здесь неуместны и опасны, ибо превращают закономерный исторический процесс, происходивший в XVI веке, но осуществляемый жестокими полицейскими методами – в случайный – революционный насильственный эксперимент, находящийся ниже уровня цивилизации в начале XX века. Вот отчего опричнина вскоре утратила свои позиции и канула в Лету, а репрессивный аппарат Сталина так или иначе действовал в течение семидесяти лет.
Опричнина между тем крепла в борьбе с ошеломленными, однако не сдавшимися боярами. Нет-нет да доходили слухи, что крамольный шепот в хоромах их того и гляди выплеснется на улицы и громовым эхом прокатится по столице. А чтобы подобного не случилось, Малюта подсказал Иоанну, по сути повторив совет Басманова:
– Колоду у них из-под лаптей выбить надо, пресветлый государь. Милостив ты очень, а за милость твою они тебя змеиным укусом отблагодарят!
Иоанн всегда знал, что ему делать дальше, но любил, когда инициатива исходила от окружения. Списки на высылку он давно составил, однако ждал какого-то момента, чтобы окончательно утвердиться в правильности принятого решения. Указ об опричнине напугал бояр, но сердцем они вскоре отошли. Всех на плаху не пошлешь. А надо бы! И Иоанн велел брать бояр на их подворье, кого и не предупредив накануне. На телеги и возки – и прочь из Москвы. В Казань, Свияжск и Чебоксары. На восток! Пусть служат! А землицу да добро – в казну. Служить и жить захотят – откажутся. От Казани или из Чебоксар к Сигизмунду-Августу не доберешься. Отряды опричников Малюта направил в разные уезды. Назначал во главе самых надежных. За собой оставил Москву. Любил замышлять налет, когда солнце еще не выкатывалось на горизонт, или в сумерках, размывающих контуры предметов.
– Гойда! Гойда! – раздавался дикий вопль опричников, ветром подскакивавших к боярскому двору.
Вламывались свирепо, разбивая ворота, срывая замки, валя ограду и не обращая внимания на сторожевых псов. Псы и падали первыми жертвами. Их секли беспощадно. Головы отлетали с одного удара. Между собаками все-таки существует какая-то тайная связь. Через несколько дней после начала налетов они уже не подавали голос, не ярились, оскаливая клыки. Не подпрыгивали высоко, пытаясь схватить лошадь за горло или седоку вогнать клыки в ногу. Испуганные, жалкие, они разбегались по двору, стараясь укрыться в будках или под крыльцом, прятались в амбарах и печально скулили, подползая на брюхе к опричным, буквально подставляя им голову – на, мол, казни!
IV
Бегство Курбского, темные и неясные слухи о том, что он замыслил поход на Москву, вынудили Иоанна прежде остальных обрушить опричнину на князей Ярославских.
– С корнем вырвать измену, – приказал Малюте царь. – Хуже Ярославских нет. Они все стоят за Андрея. У них измена в крови.
– Такую кровь и пролить не жалко, – отозвался Малюта.
Однако Иоанн решил поступить мудрее. Он долго колебался, по какому пути пойти. Если жизнь сохранять, значит, количество врагов приумножить. Затаятся, но камень за пазухой все равно держать будут. Милость царскую не оценят, посчитают его слабым, а себе куражу придадут. Судить и казнить, как бы полагалось по закону. – Курбскому и Жигмонту потрафить. Изменные дела оправдать и подкрепить. Смерть невинного – козырь в руках виновного. Послов в Европе позорить начнут. Сколько он ночей не спал, собирая по крохам наставление тем, кто переговоры в Литве и Польше вел! Если про Курбского спросят, то отвечать так, а если про другого изменника, князя Дмитрия Вишневецкого, то эдак. Не отмалчиваться, не увиливать, а наоборот – излагать, как велено в Москве.
В Посольском приказе дьяки изобретали разные уловки, и придраться к ним Жигмонту с гетманом Ходкевичем трудно. Московские дипломаты держались при дворе чужих владык надменно и бесстрашно. Ответы загодя готовили, оттачивали до блеска иногда сбивчивые и взволнованные Иоанновы речи. До Курбского, который пиры закатывал в Ковеле, новом своем поместье, ему не дотянуться, но с местными Андреевыми доброхотами он в состоянии расправиться.
Мысли и чувства царя только отчасти понимали современники, а потомки – даже патриотически настроенные и любящие Россию – взглядов Иоанна не разделяли и хором осудили эти самые чувства и мысли. Один Карамзин, не став на сторону Иоанна, упрекнул Курбского без тени сомнения и попыток объяснить далеко не бесспорный поступок. «Бегство не всегда измена, – писал он, – гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спасаться от мучителя; но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству!» Николай Иванович Бухарин из Парижа в 1936 году возвратился в Москву и отечеству не мстил за тирана. Можно не разделять его взгляды и сурово осуждать их, но поступок есть поступок.
Так вот, чтобы никто более не мстил отечеству, опричнина и накинулась на князей Ярославских. Первыми Малюта взял в оборот Засекиных. У них род могучий, ветвистый, имения богатые, в разных уездах разбросанные, будет чем поживиться и казне, и самим опричникам.
V
К дому князя Дмитрия Петровича Засекина подъехали верхами, не таясь, но и без излишнего шума. В ворота не постучали, а выбили их топорами. Завели, спешившись, коней во двор, выставили на улице охрану, чтоб народ прохожий, учуяв недоброе, не собирался. Дмитрий Засекин в исподнем выскочил на крыльцо и крикнул:
– Ой, воры! Люди добрые, помогите!
Узнав Малюту, он сразу затих и покорно выслушал царев указ, по которому высылался в Казань на веки вечные.
– Землю и скот там получишь, – пообещал милостиво Малюта, – а свою здесь государю вернешь.
Сначала шло все гладко и благородно, а потом внезапно взорвалось, как бочка с порохом. Собаки, беснуясь, залаяли, едва успели двери амбаров отворить и опричники, проникнув внутрь, принялись выбрасывать наружу имущество. Псов порубили скоренько, за лапы – и к забору покидали, и головы туда же тычками сапог откатили. Ребятишек да жену выгнали, в чем захватили, на крыльцо. И с того момента кутерьма завертелась круче. Опричник, вихлястый парень с огромными ручищами, никого – ни мужей, ни детей – не стесняясь, хвать княгиню за грудь, выскочившую из домашнего сарафана: ворот расшитой голубым узором рубахи, когда волокли, разорвали. Сын князя, еще сосунок, повис на загривке у опричника:
– Не трожь мамку!
Дмитрий Засекин стоял неподвижно, исподлобья наблюдая за происходящим. Казалось, закаменел. Но когда другой опричник, глядя на соседа, прищемил дочку – девицу хоть и не дебелую, но откормленную и крепкую, князь не стерпел и бросился к Малюте:
– Григорий Лукьянович, сдержи разбойников! Не позволяй им ругаться над честью моей!
Малюта не любил, когда баб лапали при исполнении государева дела, но вмешивался редко. Сейчас он тоже не пожелал ссориться с опричниками, однако оправдаться на всякий случай не помешает:
– Ты, пес смердящий, кого разбойничками величаешь? Царских слуг?
Князь, прикрыв лицо ладонью, отшатнулся и побежал к крыльцу. Тут и свалили на ступени, опутав арканом. Малюта наклонился над ним:
– Давно ли Курбскому грамоту посылал? Где холоп твой Никитка, которого ты ему одалживал? С кем бражку пил третьего дня и о чем уславливался?
Что-то из спрашиваемого прикосновенно к истине, а что-то и нет. Малюта давно научился использовать подобный прием. У человека при одном его виде страх сковывал сердце, и он начинал сам путаться, где был третьего дня, с кем бражку пил и о чем речь вел. Пока Малюта пугал князя, опричники очищали дом, выводили коней и запрягали их в телеги. Князь Дмитрий отнекивался:
– Помилуй, Григорий Лукьянович, облегчи! Век буду за тебя Бога молить. Помилуй! У тебя самого малые детки!
– Признайся – помилую! Признайся – облегчу!
– Холопа Никитку по глупости отправил к родичу в Ярославль.
– А зачем? Весть от князя Андрея пришла? И к какому родичу?
– Михаилу Засекину.
– Ну вот! Так сразу бы и сознался!
– Да не в чем мне сознаваться. По хозяйственным надобностям отправлен холоп был. И больше ничего!
– И больше ничего? А ну-ка, ребята, поднимите изменника на ноги.
Князя поставили на попа и прислонили к столбу.
– Ты мне в глаза погляди, пес! По хозяйственным надобностям! Какие у тебя хозяйственные надобности?! Брехня одна! Ты с Иваном Большим Шестуновым сговаривался – как грамоту опасную у Жигмонта выклянчить! И в дом к нему ходил гостевать. Разве не так?! Так, пес! Так!
Наружную службу наблюдения Малюта, как только его Иоанн к себе приблизил, организовал, не медля ни дня. Сперва посылал переодетых стрельцов подсматривать да подслушивать, а погодя завел и специальных людишек, набранных из обеднелых посадских, ремесленников и прочего народа, строго следя, чтобы не промахнуться и не принять на службу пьяниц и мошенников. Результаты наблюдения сыскари должны были докладывать лично Малюте. Шестуновы у него давно на заметке. И Сицкие. Один воеводой в Полоцке. Его неделю назад Малюта послал взять и, минуя Москву, гнать в Казань. Одного, без семьи. Детишки с бабами пускай едут своим ходом, не доедут – какая беда? Семья изменника поросли не даст, и то благо, а царь не осудит.
– Бражничал с Шестуновым? Винись, пес! Облегчу!
– В чем вина-то моя, Григорий Лукьянович? Научи – повторю: вот те крест.
– А ты не догадываешься? Давай винись! Выкладывай изменные умыслы! Ты кого жизни лишить желал?! Молчишь?
VI
Раньше Малюта предупреждал спрашиваемого, что покарает жестче, больнее, если тот напраслину на себя возводить начнет. Теперь Малюта не заботился о правдивости признаний. Признался?! И ладно! Короче мука! Когда изменников густо, то об истине забота меньше. Иногда в застенок приводили человека, которого он подозревал во враждебных намерениях по отношению к государю, а доказательства отсутствовали. Что ж с ним церемониться?! На дыбу! И все тут! А если на дыбе обвиненный язык не распустит? Как поступить?
– Лучше десяток невинных душ загубить, – утверждал Басманов, – чем одного злодея упустить.
Десять к одному – счет, не внушающий вроде ни ужаса, ни даже сердечного трепетания. Людишек вон сколько! И еще народят, сколько ни закажешь. Почему не рожать?! Злодей злодею рознь. Один дом поджег, другой кошель срезал, третий шубу украл, а если на жизнь царя покушаться удумал? Тут и сотни и тысячи мало! Малюта не представлял жизни без царя. Да он всю Москву переберет! До третьего колена измену выкорчует! Если бы Курбского сразу сняли по первому мелькнувшему подозрению и с доказательствами измены не морочились, разве государь сведал бы столько бед?! Вот тебе и суд законный и праведный. Опоздали с судом – опозорились!
VII
Князья Бельский и Мстиславский, получив подложные – козловские – грамоты, сразу к государю кинулись и в ноги! Ужом изворачивались, юлой вертелись, подпрыгивали, как караси на раскаленной сковороде. Иоанн их помиловал:
– Верю, что повода вы не подали. Верю! Воротынскому даже верю. А Челяднину – нет!
И велел прекратить существование старого конюшего и жены его Марии, которых не любил и подозревал в разных кознях. А между тем Челяднин писал охотнее прочих под диктовку царя – вернее, дьяк пером шнырял, а старик лишь удостоверил: «Как мог ты вообразить, чтобы я, занося ногу во гроб, вздумал погубить душу свою гнусною изменою? Что мне у тебя делать?»
Вопрос к Жигмонту был правомерен: плясать и пировать, как Курбский, конюший не мог. «Водить полков твоих я не в силах, пиров не люблю, веселить тебя не умею, пляскам вашим не учился», – подводил жизненный итог накануне гибели умудренный опытом конюший.
За Челядниным под нож отправились десятки знатных и богатых аристократов, среди них и приверженцы князя Владимира Андреевича Старицкого. Боярская элита сильно поредела. Но пока недорубил ее Малюта – рука притомилась.