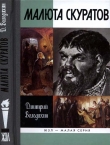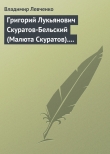Текст книги "Малюта Скуратов. Вельможный кат"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 47 страниц)
Ю. М. Щеглов
Малюта Скуратов. Вельможный кат
Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. XXX.
Санкт-Петербург. 1900
БСЭ. М., 1976. Т. 23
Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (Малюта), год рождения неизвестен, умер 01.01.1573 г. близ замка Вейсенштейн, ныне Пайде, Эстония, – один из руководителей опричнины Ивана IV Васильевича Грозного, активный организатор опричного террора. Происходил из высших слоев провинциального дворянства. Выдвинулся в 1569 г., участвуя в следствии и казни двоюродного брата Ивана IV – В. А. Старицкого. В декабре 1569 г. задушил бывшего митрополита Филиппа Колычева, в январе 1570 г. в связи с подозрением Новгорода в измене руководил его разгромом, убив тысячи жителей. В 1571 г. вел следствие о причинах поражения русских войск в бою с ордой крымского хана Девлет-Гирея.
Убит во время ливонского похода в 1572 г. Одна из его дочерей была замужем за Борисом Годуновым, а другая, отравительница М. В. Скопина-Шуйского, – за Дмитрием Ивановичем Шуйским. Память о Малюте Скуратове и его злодеяниях сохранилась в народных песнях, и даже самое его имя стало нарицательным названием злодея.
Юрий Щеглов
ВЕЛЬМОЖНЫЙ КАТ
РОМАН
История злопамятнее народа.
Николой Михайлович Карамзин
Палач палачу рознь!
Граф Алексей Константинович Толстой
…Историку странно срываться с твердой почвы, отвергать известие самое вероятное и погружаться в мрак, из которого нет для него выхода, ибо он не имеет права, подобно романисту, создать небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями.
Сергей Михайлович Соловьев
Роман – это мысль!
Эмиль Золя
Исторический романист подобен двуликому Янусу. Одно лицо его обращено к истории, другое – к литературе. Но он не должен становиться лицемером. Он должен избегать сомнительных намеков и напрашивающихся аллюзий. Исторические параллели должны быть им также отвергнуты. Непозволительно романисту превращаться в орудие современной ему политики. Имя может стать символом. Но не более!
Из неопубликованной части беседы автора с Юрием Трифоновым в 1976 г.
Пролог
Ложь и ярость смуты
Большая пыльI
В разноцветном узорном шатре в двух переходах от Серпухова на удобных кожаных подушках сидело несколько человек. Один из них был одет в богатый костюм польского шляхтича, расшитый серебряной нитью. Белый цвет подчеркивал его голубоватые глаза и рыжий отлив волос. Он называл себя царевичем Димитрием. И мы его тоже будем так называть, хотя никто из присутствующих и никто из отсутствующих не мог с достоверностью утвердить, кто приходился ему отцом – великий государь Иван IV Васильевич или кто-нибудь другой – безвестный и в сущности не имевший ни имени, ни фамилии.
Откинув полог, в шатер вошел любимый секретарь, наперсник царевича Ян Бучинский. Он отличался прекрасной выправкой, аккуратно пригнанным камзолом и высокими сапогами из мягкой коричневой кожи, которые не часто встретишь у всадников на ухабистых русских дорогах.
– Пресветлый государь, – обратился Бучинский к Димитрию, – из Москвы прискакал Михайла Молчанов.
– С какими вестями?
– Этот город лежит у ног вашего величества. Несмотря на террор и преследования, народ с нетерпением ожидает вас. Каждый день к Серпуховским воротам сбегаются неисчислимые толпы. Двое молодцов распространили слух, что видели вдали большую пыль.
– Нет, им еще придется подождать, – рассмеялся Димитрий. – Не все так просто и скоро делается.
– Верно, пресветлый государь, – вступил в разговор воевода Петр Басманов, не так давно приставший к царевичу, но уже успевший дать много разумных советов. – Сперва надо выслать Годуновых и утихомирить стрельцов. Как ведут себя Шуйские?
– Позови Молчанова, – велел царевич Бучинскому.
– Он здесь неподалеку и ожидает приказаний.
Бучинский покинул шатер.
– Поедешь в Москву с моей грамотой, – произнес неторопливо царевич, повернувшись к Науму Плещееву. – Вдвоем с Гаврилой Пушкиным. У него голос зычный и внятный. Возьмешь с десяток лучших кавалеристов из моего конвоя. Не оробеешь, Плещеев?
– Как можно, пресветлый государь, – ответил, кланяясь, Плещеев. – Ты наша надежда и радость наша. Ты солнце, взошедшее над Россией.
Неслышно появился Молчанов и замер в почтительном поклоне у входа.
– Чем обрадуешь, Михайла? – спросил царевич.
– Волнуется народ московский. Ждет тебя, пресветлый государь. И требует искоренить проклятое семя Годуновых. Особенно проклинают царицу Марию. От нее все зло исходит.
– Яблоко от яблони недалеко падает. Дочь Малюты. Отец был кровожаден, что волк голодный, и дочь не менее, – сказал Басманов. – А внучка душегуба прелестна и умна. И голосок приятный.
– Ты видел ее сейчас, Молчанов?
– Много раз. Я пробрался переодетым в Кремль. Телом полна, походкой величава и выглядит будто на торжестве…
– Погоди, Михайла! – вмешался опять Басманов. – Пусть прелести Ксении не отвлекают тебя, государь. Пора свести патриарха Иова с престола. Отсечь подмогу Годуновым.
– Непременно это надо сделать, пресветлый государь, – поддержал Басманова Гаврила Пушкин. – Он потерял право вещать от имени Всевышнего и опоганил себя поддержкой Бориса. Федор – щенок. В царице Марии вся суть. Ее, не медля ни минуты, устранить из Кремля и схватить Головина Федьку – ее опору у стрельцов. Он мутит воду и пускает о тебе небывальщины, пресветлый государь. Дружки Малюты руки не опустили.
– Так и смотрят, в кого бы вцепиться и умучить до смерти, – продолжил Пушкина Молчанов.
– Характер отцовский. Она твой, государь, первейший враг, – сказал Плещеев.
– Как странно мир устроен! – воскликнул царевич. – Ее отец был моему отцу самый верный слуга. А дочь – мой главный противник!
– Она и матушку твою инокиню Марфу не пощадила, огнем чуть не сожгла, – мрачно заметил Басманов. – Мне угрожала казнью. С Шуйскими вела переговоры.
Вошел брат Яна Станислав Бучинский и хотел было обратиться к царевичу.
– Постой, Бучинский. Она подняла руку на мою мать?
– Спроси у кого хочешь, пресветлый государь. Я ложью и угодничеством не отмечен. Я перешел к тебе на службу, повинуясь Господу Богу и внутреннему своему голосу.
– Знаю, Басманов. И верю тебе. Чувствую, что ты со мной будешь до конца.
II
Димитрий не ошибся. Через одиннадцать месяцев к телу обезображенного инкогнито, носившего титул царя, подтащили исковерканный труп талантливого полководца Басманова и обоих, погодя, поволокли прочь, чтобы сбросить в гнилую яму, неподалеку от Лобного места и Поганой лужи, служившую последним прибежищем для нищего и пьяного сброда. Вскоре, отрыв то, что осталось от нынешних собеседников, и превратив останки Димитрия в пепел, обезумевший от крови, лжи и ярости люд зарядил им пушку и выстрелил как раз по направлению к тому месту, где они беседовали и радовались сегодня. Так круг замкнулся.
– Я не прощу нанесенной обиды, – решительно бросил царевич. – И месть моя будет справедливой.
– Каюсь, пресветлый государь, – сказал Басманов. – Я сам привез твою матушку инокиню Марфу в покои Годуновых. По ночам Борис и Мария часто являлись в Грановитую палату. Они усаживались там на трон и долго сидели, словно собирались кому-то доказать, что имеют на то неоспоримое право. Едва я успел поставить инокиню Марфу перед их затуманенным от страха взором, не позволив отдохнуть после дальней дороги, Борис начал допрос. Он подступался к ней с одним и тем же: мол, жив ли ты, пресветлый государь, или нет? Состоялось ли твое чудесное избавление от убийц, подосланных уж конечно не признающим своей вины правителем, или нет? И инокиня, любя тебя, пресветлый государь, и неизмеримо страдая, мужественно отвечала: не ведаю! Чем заронила в душу похитителя престола первые сомнения. Он даже сам колебался и в какие-то минуты готов был признать твои права, и что ты остался в живых, и что тычка не сразила тебя во время приступа падучей.
– Что же ему помешало? Я простил бы его.
Спутники царевича молчали как громом пораженные.
Простить Бориса? Да возможно ли это?!
– Так что же ему помешало? – повторил царевич.
«Подумай о наших детях, – целыми днями твердила царица Мария. – Вели рубить головы тем, кто желает отобрать у них землю русскую. Нашу с тобой землю! Если бы был жив Григорий Лукьянович, то ни один супостат не остался бы в живых. Его жизнь – их смерть. Вот как рассуждал батюшка, и за то его великий государь к себе приблизил и жалел по нем до последних дней. Да и ты его юношей как любил и почитал!»
– Мать никогда не отойдет от правды, – сказал Гаврила Пушкин. – Никогда!
– Инокиня настаивала на том, что тебя увезли без ее ведома и тем избавили от мучительной кончины. Услышав столь крамольные речи, царица Мария бросила в нее свечным огнем, и вспыхнули одежды на твоей матери. Я сам тому свидетель!
– О Боже! – воскликнул царевич. – Бучинский, готовь к ней гонцов.
«Если он и разыгрывает роль, – подумал Наум Плещеев, – то весьма ловко и с большим чувством. Но нет, нет! Сомнения прочь!»
Он с Пушкиным пристал к Димитрию из ненависти к узурпатору. Вдобавок Басмановы Плещеевым родня. А ныне родственные связи надежней золотых испанских дукатов.
– Малютина кровь взыграла. Кровь презренного палача, – бросил в ужасе Гаврила Пушкин. – Жечь огнем страдалицу, посвятившую себя Богу, безжалостно! Никто, кроме тебя, царевич, нынче не в силах уничтожить Годуновых. Какое он имеет отношение к Рюриковичам?!
– Но это еще не все подвиги супруги Годунова! – воскликнул, входя, Ян Бучинский. – Нет ничего отвратительней доносов. А в Москве шпиков развелось видимо-невидимо, и сию гнусную обязанность взяли на себя жены бояр. Они вынюхивают, подсматривают и подслушивают и со всякими наветами спешат в покои царицы, чтобы заслужить ее благодарность. Россия при Годуновых возвратилась к страшным временам, когда в Разбойном приказе меньше всего интересовались истиной, а в Сыскном обвиненного приговаривали к казни по одному подозрению.
Пройдет почти год, и братья Бучинские выйдут первыми доносчиками на друга своего и благодетеля.
– Я более не допущу, чтобы мой народ был так унижен. Клеветники будут доказывать правоту своих наговоров, а не обвиненные – собственную правоту.
– О пресветлый государь, – промолвил с грустью Плещеев, – поймут ли тебя подданные? Не лучше ли с большей, особенно в первое время, осторожностью вводить новые порядки? Боярская измена имеет долгую историю. Она коварна и изворотлива. Польский либерализм, на котором ты вырос, здесь может сыграть с тобой дурную шутку.
– Я уверен, что русские охотнее примут доброту и открытость, чем будут цепляться за старые привычки неправедной власти, – ответил Плещееву царевич.
– Дай-то Бог, пресветлый государь, а верится с трудом, – вздохнул Басманов.
– Я открою университет, заведу школы, буду посылать дворян и боярских детей за рубеж, и тогда естественным образом уйдут в тень те, кто прокладывал себе путь к благополучию наушничеством, поборами и взятками!
– Дай-то Бог, пресветлый государь, дай-то Бог, – закивали вслед Басманову присутствующие. – Солнце взошло над Россией! Солнце!
– Но нынче надо начать с малого. Ты, князь Василий, – обратился царевич к Голицыну, – поедешь в Москву вместе с князем Рубцом-Мосальским после возвращения Плещеева и Пушкина оттуда. Посмотрим, как отзовется народ московский на мои грамоты. Станет ли он защищать царицу Марию? Я не желаю крови. Я хочу, чтобы мое вступление в столицу сопровождалось не пальбой из пушек, а веселым фейерверком и музыкой. Православные сразу должны почувствовать разницу в образе правления.
– Надежды на благие перемены, пресветлый государь, вспыхнули с небывалой дотоле мощью. Сила твоя, государь, в этих надеждах и в мнении народном, – произнес с чувством Гаврила Пушкин. – На Руси никто до тебя так не обращался к людям.
– Я благодарен тебе, Пушкин, – ответил царевич, пристально вглядываясь в лицо одного из преданнейших сторонников. – Думаю, что ваш подвиг, друзья, не будет забыт в веках. Но к делу! Сегодня же скачите в Москву и без всякого страха созывайте народ на Красную площадь. Годуновы должны почувствовать себя в осаде. Стены Кремля для них превратятся в тюремные стены.
– Верно, пресветлый государь, – сказал Молчанов. – А царица Мария велела Головину в бойницах Кремля выставить пушки, чтоб толпу в случае чего разметать. Этого допустить нельзя.
III
– Пушки? – улыбнулся после долгой паузы царевич. – Пушки не могут противостоять естественному ходу вещей. Ядрами идеи не победить. Россия стремится в объятия Европы. Недаром мой отец – великий государь – огнем и мечом пробивался к Балтийскому побережью. В будущем это движение получит поддержку всех русских. При моем старшем брате благой порыв угас. Похититель престола не помышлял о мировой судьбе России. Я возобновлю движение на запад, и кровь, пролитая русскими в войнах с надменной Ливонией, не пропадет даром. Так что пушки, Молчанов, вскоре повернутся и против Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской, и против Федьки Годунова.
– Слава, пресветлый государь, тебе! Слава! – выкрикнул Басманов. – Наконец-то мы получили достойного вождя.
– Слава! Слава! – зашумели присутствующие дворяне и бояре.
– Головы сложим за тебя, пресветлый государь! – громче остальных произнес Гаврила Пушкин. – Нельзя Россией управлять как подмосковным имением, где тебя окружают холопы! Россия – это держава!
Ему устремления царевича были наиболее близки.
– А что я тебе пророчил, Бучинский? – сверкнув голубым взором, промолвил царевич, обращаясь к старшему, Яну, круче прочих обвинившему позже друга. – Сохранились еще в России люди, которым небезразлично ее предназначение.
– Да, есть, – усмехнулся Станислав Бучинский, заведовавший тайной службой Димитрия. – Все они по приказу милосердной Марии Григорьевны сидят в воде по горло со связанными руками и ногами вдоль берега реки у стен Кремля и подвергаются неслыханным издевательствам и пыткам. Неприятно и страшно вдаваться в подробности, пресветлый государь. А те, кого берут в кремлевский застенок, становятся мертвецами еще при жизни.
– Куда же смотрит патриарх Иов? – поинтересовался у Басманова царевич.
– Вот потому-то первым делом надобно его свести с престола, – ответил Басманов.
– Мы рады, пресветлый государь, мчаться в Москву, – в один голос произнесли Плещеев и Пушкин.
– Грамоты давно готовы, – сказал Ян Бучинский.
– Скачите, но не сломя голову. Намерения нарушивших присягу должны проступить явственней. И не поднимайте пока большую пыль, друзья. С Богом! Но прежде я желаю вам показать одного человека, чтобы утвердить вас в мнении, к которому вы пришли по дороге сомнений. Приведи его, Станислав.
IV
Младший брат откинул полог и взмахнул рукой. Двое французских наемников ввели в шатер нестарого коренастого и ухватистого мужчину, на котором лежала неизбывная печать расстриженного монашества. Скользящий голубоватый взор был неспокоен. Пламенели рыжие волосы, напоминая парик. Под одеждой чувствовались крепкие мышцы. Неопределенные жесты и подергивание правого плеча свидетельствовали о смятении в душе. Мужчина был одет в опрятный русский кафтан.
Князь Василий Голицын подступил к нему первым:
– Тебя как звать?
– Григорий сын Отрепьев.
– Беглый?
– А то как же! – с какой-то непонятной лихостью ответил Отрепьев. – Три года, как ушел. Да вот вернулся.
– То-то, я замечаю, твоя личность мне вроде знакома. Не ты ли у патриарха в крестных дьяках служил? – спросил князь Рубец-Мосальский. – Не за тобой ли погоню нарядили к литовской границе?
– За мной, – смело подтвердил Отрепьев. – За мной! Да ни с чем ушились! Разве Борискины людишки способны кого-нибудь поймать?! Да ни в жисть! Убег!
– С чего бежал? Зачем? – поинтересовался Басманов.
– Тебе, боярин, не понять.
– Ты не очень!.. – с угрозой прошипел Молчанов, надвинувшись на Отрепьева.
– А что – не очень?! Непонятно боярам, что воли и другим хочется. Разве не так?
– Ну и получил ты свою волю? – едко засмеялся князь Голицын.
– Как видишь!
– Спросите его, как он вмешался в историю, которая его совершенно не касалась, – произнес молчавший в течение всей этой сцены царевич.
– Я лично думаю, что женка Борискина его подучила на меня наклепать. Больше некому. Она и патриарха за бороду держала. Вот проклятые поляки меня и схватили. Хотели в клетке возить за собой, чтобы народу показывать. Еле добрый царевич Федор отговорил! Ксения тоже родителей умоляла. Да Малютина выучка верх взяла. Чуть не убили.
– Где же ты бродяжил? За кем числился? – напирал князь Голицын.
– Сначала на Украине. Прятался у православных.
– Так ты веру не переменил? – удивился Гаврила Пушкин.
– Спаси Господи! – Отрепьев перекрестился. – Православный я, православным и остался. У Мнишеков, спасибо им, писцом служил, у Вишневецких. Да мало ли у кого! Поляков много развелось!
– Да точно ли ты – Отрепьев? – спросил Плещеев. – Не врешь? Корысти ради или убоявшись наказания?
– Какая корысть мне, сам посуди, боярин?
– Ну как какая? «Кобылы» да плетей тебе и так и так не миновать. Вот и вмешался, чтоб перед тем сытно поесть да сладко поспать. Ты знаешь, что тебя ждет в случае разоблачения?
– Как не знать! Знаю. Но я есть истинный Григорий Отрепьев и никогда бы не обманул своего государя Димитрия Ивановича.
«Если и это комедия, – мелькнуло у Плещеева, – то весьма искусно разыгранная и может послужить на пользу России. Кроме Шуйских, настоящая царская кровь ни в ком не течет. А попади держава и скипетр к ним, родину в болоте старины утопят. Нет, нет! Прочь, прочь сомнения!»
Царевич повелительным жестом отослал Григория Отрепьева, два французских ландскнехта увели того, кого то ли превратности судьбы, то ли действительно подсказка Марии Григорьевны, жены царя Бориса, сделали одновременно и двойником царевича, и самозванцем. На мужа она имела влияние и детей воспитала отменных – умом, красотой и силой славившихся. И враги то признавали.
– Если грамоты готовы, – сказал царевич старшему Бучинскому, – принеси, и я подпишу. Пора! Поспеши, Ян!
V
Все вышли на воздух. Летнее солнце стояло в зените. Московское светило – особенное. Плотное, жаркое, оно и в неурочную пору способно до желтизны иссушить листву. Нагретое, пышное и мягкое, марево долго держится в недвижной пустоте. Пронесется вскачь отряд кавалеристов, и далекий горизонт застилает большая пыль. Днем не скроешься, не убережешься. По этой большой пыли в незимние месяцы привыкли издали узнавать о приближении войска. Большая пыль как бы предохраняла от неожиданностей, предшествуя им.
Царевич взял у Бучинского грамоту, которую должны прочитать народу московскому Плещеев и Пушкин. Он не пробежал ее глазами, а будто ощупал каждое слово – взвесил его. И только потом протянул руку за стальным пером. Он опустил грамоту на немедленно поднесенный походный складной столик и оставил внизу тщательный и ясный росчерк. Бучинский приложил рядом свитый из красной шелковой нити шнурок и печать из зеленого воска. Царевич протянул грамоту Плещееву. Пушкин взглянул искоса: обучен письму изрядно, не хуже Федора Годунова. А над тем дьяки из Посольского приказа трудились.
– Собирайте народ и возвестите ему слово правды. Мы последуем за вами. Ждем от вас добрых вестей. Но если таких не будет, то каждую и дурную тоже почтем за благо. Ну, с Богом, друзья! – И царевич обнял посланцев, братски похлопав каждого по спине.
VI
Его манера сокращала дистанцию между подданными и властью. В часы затишья и отсутствия опасности это не могло не нравиться ближайшему окружению.
Плещеев и Пушкин вскочили на коней и ускакали в сопровождении немецких рейтар из конвоя царевича. Они лихо и с несвойственной русским кавалеристам элегантностью щеголевато пошли вдоль неширокой дороги по влажной, не успевшей пожелтеть от яростного солнца траве, и оттого их похожее на облачный полет движение не поднимало столбиков пыли.
– Как только получим первое известие о событиях в Москве, туда отправятся князья Голицын и Рубец-Мосальский. Поспешность здесь может повредить святому делу возвращения московского престола роду, которому он принадлежал, – сказал русским соратникам царевич, и это тоже понравилось им, превращая вчерашних изменников не в рабски послушных исполнителей, а в творцов отечественной истории.
И Басманов, мучимый совестью тяжелее прочих, вновь поклялся в душе Димитрию страшной клятвой.
Что и говорить! Таинственный и неведомо откуда вынырнувший молодой человек у кого-то научился открывать сердца людей, привлекать к себе неординарностью манеры общения с подданными, которых никогда не имел, и убеждать их в собственной правоте. Если Наум Плещеев, будучи из древнего рода, иногда и сомневался в подлинности слов царевича именно в силу собственного происхождения, а романтичный и доверчивый Гаврила Пушкин даже не задумывался об истинности представленных нынешним повелителем разъяснений, то жестокосердный князь Василий Голицын и осторожный, расчетливый, с глубоким умом ренегат Петр Басманов, внук и сын уничтоженных царем Иоанном опричных, который никогда полностью не принимал версию претендента на престол, давно и искренне утвердили себя во мнении, что их богатство и благо и богатство и благо всей Руси великой – это одно и то же и что народ московский будет удачлив и счастлив, если будут удачливы и счастливы они.
Князь Рубец-Мосальский – крепыш, от природы веселый и жизнелюбивый. Поляки ему нравились смелостью, бойкостью и незамысловатостью желаний. Он с безразличием относился к вопросу, который терзал сердца других. Михайла Молчанов был под стать Рубцу-Мосальскому. Вино, непотребные девки и прочие не очень чистоплотные удовольствия притягивали его, как особый род железа захватывает и прижимает к себе мелкие гвоздики, металлические бляшки и колечки от кольчуги. С Годуновыми пора кончать. Они потеряли все – сторонников, престиж и деньги. Они остались в одиночестве. Через год этот Молчанов скроется из Москвы и, прячась в захваченных поляками русских гнездовьях, попробует выдать себя за спасшегося чудом Димитрия. Но ему не суждено будет стать Лжедмитрием II.
У коновязи оглаживал великолепного вороного жеребца неброско одетый низкорослый стрелецкий сотник дворянин Шерефединов, узкоглазый, с холеными усиками, как бы обнимающими уголки рта, и загнутой черной бородкой. Он, казалось, ни на кого и ни на что не обращал внимания. Ему было совершенно безразлично происходящее вокруг. Сейчас он служил царевичу, но пройдет месяцев десять, и его подманят Шуйские, предложив немалую плату за убийство Димитрия. Шерефединов словно завершал цепочку тех, кому суждено было совершить coup d'etat [1]1
Государственный переворот ( фр.).
[Закрыть]и навечно прервать род Григория-Малюты Лукьяновича Скуратова-Бельского, выдавшего одну дочь за будущего царя Бориса Годунова, другую – за князя Дмитрия Шуйского, семейство которого пресмыкалось перед похитителем престола, поджидая удобного момента, чтобы вонзить нож в спину, открыто признав сказочное спасение царевича, и, наконец, третью дочь просватать за двоюродного брата великого государя Ивана IV Васильевича – князя Ивана Глинского, не оставившего по себе значительного следа.
– Твой отец хотел породниться с самим троном, передав потомкам с твоей подмогой кровь русских цезарей, – говаривал в хорошие минуты царь Борис любимой и отнюдь не ограниченной Сильвестровым «Домостроем» жене Марии. – Уж не мечтал ли он сам стать царем?! А ведь народ звал его не иначе как палачом.
Царь Борис иногда напоминал царице о ее худородности и невысоком происхождении.
– Я его знала другим, – тогда отвечала преданная до гроба супруга и дочь. – А палач палачу рознь! Запомни эти не раз сказанные батюшкой слова. В них и отыщешь тайну привязанности великого государя к ничтожному своему рабу, который делал то, от чего открещивались иные! Но кто-то это должен был делать, если взялся служить цезарю, каких еще не знала Вселенная.
В редкие минуты царь Борис все-таки боялся собственной жены, боялся упреков в робости, в желании более миловать, чем казнить, как казнил великий государь, боялся, что она обвинит его в равнодушии к будущности новой Малютиной династии, утвердившейся отныне и навечно на древнем престоле Рюриковичей. Она требовала от мужа скуратовской семейственности и чадолюбия, а он был сперва руководителем огромной державы, которую блокировали с Запада и Востока, с Юга и Севера, а потом уже отцом. Царица Мария не принимала никаких возражений и только зловеще усмехалась:
– При батюшке подобного бы не случилось. Он крамолу вырубал еще до того, как она становилась крамолой. Скуратовы покрепче Годуновых!