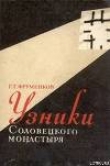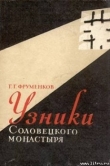Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
В Москве покойный ныне граф Федор Алексеевич Головин, сидя под низкими сводами Посольского приказа, говорил Петру Андреевичу:
«Великое дело сотворишь, коли ворота Черного моря для нашего купечества откроешь. Великое!»
И глаза у него – вот и стар был, и рыхл чрезмерно – блестели.
Петр многажды наказывал:
«Первостатейное дело – Черное море нам отворить».
Отворить…
Толстой загорелся и еще в Адрианополе, в первые месяцы пребывания в Османской империи, со всей страстью, на которую способен малоискушенный, но жаждущий действий человек, принялся за выполнение царева наказа и – получил примерный урок.
Чиновник султанский, от которого во многом зависело решение столь важного дела, едва выслушав посла, взглянул на него, не скрывая негодования, сказал твердо:
– Не только судам торговым или иным российским в Черном море не быть, но и двухвесельной лодке московитов никогда волн его не коснуться. Никогда!
Однако и столь категоричное заявление Петра Андреевича не остановило. Савва Лукич был послу в решении сего великого начинания первейшим помощником. Хорошо зная турецкое купечество, он присоветовал Петру Андреевичу действовать именно через купцов.
– Чиновник султанский, – говорил Савва Лукич, – подобен упрямой ослице. Ее можно привести к источнику, но никто не заставит ослицу напиться, ежели она того не захочет. А купец – это деньги. Посулить купцу торговую выгоду, и он ради барыша все сделает.
Савва Лукич пообещал свести Петра Андреевича с Мустафой Языджи – старшиной адрианопольского купечества. И в один из дней на посольской коляске подъехали они к дому купца. Петр Андреевич ступил на землю, глянул: переулок был тих, безлюден, лишь ветер завивал пыль на желтых плитках. Подворье Мустафы Языджи смотрело на гостей глухой каменной стеной, покрытой поверху черепицей. Под черепичным скатом окованные медными гвоздями ворота, такие, что при нужде за ними можно было отсидеться и против иной пушки.
Савва Лукич стукнул в медную дощечку медным же, висевшим на крепкой цепи молотком. Тотчас в воротах отворилась калиточка, и на гостей глянул здоровенный чернобородый мужик в бараньем полукафтане, но таком, что руки мужика оставались голыми по плечи. На поясе у него висел нож. «Эге, – подумал Петр Андреевич, – здесь не шутят».
Подворье было вымощено булыжником, и булыжник выметен так, что будто бы даже и лоснился под солнцем. Три цвета бросились в глаза: темный булыжник, беленые стены, зелень ухоженных кустов, рассаженных по двору. «А у нас войдешь в иной двор, – подумал с горечью Петр Андреевич, – и навоза куча… Да…» Пожевал губами, увидел, как через двор поспешал навстречу хозяин. Высокий, в богатом халате, шагал широко. Взглянув на него, Петр Андреевич понял: человек с размахом и говорить с ним надо открыто, без уловок, так как все одно хитрость купец почувствует и замкнется. Есть такие люди, повадка которых объявляет их сразу. Да они ничего и не скрывают, уверены в своей силе, но скорее это не уверенность в них выказывается, а сама сила так себя выдает. Играет слабый, а такому играть душа не позволяет.
Через малое время гости и хозяин сидели за столом на широкой галерее, опоясывавшей дом. Перед галереей цвели сладко пахнущие розы. Вот такой был дом у старшины адрианопольского купечества Мустафы Языджи: снаружи – крепость, во дворе – рай.
И, как в раю, пели, щебетали птицы в клетках, развешанных по галерее. И птицы необычные, каких Петр Андреевич еще и не видел.
К разговору Петра Андреевича о торговле между русскими и османами купец отнесся с живым вниманием.
– О-о-о, – округлил губы, – чем больше товара, тем выше барыш.
Наклонился к Савве Лукичу и быстро-быстро заговорил по-своему. Савва Лукич рассмеялся и, оборотив лицо к Петру Андреевичу, сказал:
– Это у них немного по-иному звучит, но смысл такой: торговать – не воевать.
Петр Андреевич обрадовался, подумал: «Ну, сговоримся. Не обманулся я: купец, видать, мужик толковый». И с обидой рассказал, как его встретил султанский чиновник.
Мустафа Языджи выслушал его и, подвигая к послу блюдо с засахаренными фруктами, сказал:
– Торг любит волю, а ум простор, но простора-то в головах у султанских чиновников и не хватает.
Мустафа Языджи закусил травинку, взятую с блюда, и задумался. Прищурил глаз, словно целился в кого-то.
– Свободно, безбедно и безопасно торговать обеим сторонам, – сказал Толстой, – вот что ищу едино.
Купец покусывал травинку крепкими зубами. Петр Андреевич взглянул на него с надеждой. Мустафа Языджи сказал:
– Чиновник, известно, по одной тропинке ходит, и в сторону ему отвернуть трудно.
Взял четки, и пальцы его полетели по янтарным зернам. Чек, чек, чек – постукивали четки, словно отсчитывая ступени лестницы, по которой следовало подняться, дабы преодолеть строптивость и упорство чиновничьего Стамбула.
Через час коляска российского посла отъехала от дома старшины адрианопольского купечества.
– Ну как, – спросил Савва Лукич, – что думаешь?
– Размышляю, – ответил Петр Андреевич, – размышляю. Однако сказать надо, купцы адрианопольские не ошиблись, выбрав Мустафу Языджи старшиной. Башковитый мужик. Башковитый…
Савва Лукич засмеялся, сказал:
– Купец что стрелец: попал, так с полем, а не попал, так заряд пропал!
Петр Андреевич, не мешкая, подал прошение визирю, дабы купцам российским, которые в Стамбуле или иных османских землях торговлю вели, разрешено было возвращаться домой морем. Не позволяете-де товары судами доставлять, так разрешите людям морем ходить. Когда писал, подумал: «Не в лоб, так по лбу».
Визирь, прочтя просьбу, опешил, и о том Петру Андреевичу на ушко шепнули. Толстой, не долго размышляя, напросился к нему с визитом. Ответ послу российскому был, однако, уже готов. Чиновник с шустрыми глазами, мазнув по лицу посла усмешливым взглядом, бойко прочел:
– Торговым московским людям, докончив торговые статьи, через Черное море ездить не надлежит…
Визирь развел пухлыми, холеными руками, сладко улыбаясь.
– Не надлежит, – повторил чиновник. Визирь глянул на него, и того как ветром сдуло.
В фонтане умиротворяюще журчала вода, легкие струйки бежали, бежали, играя под солнцем бесчисленными бликами. «Не надлежит, – соображал Толстой, – вот, значит, как…» Иного он не ожидал и, предусматривая этот ход, видел и продолжение партии.
– Кхе-кхе, – кашлянул Петр Андреевич и смял лицо, будто полынной горечи отведал.
– Нелюбовно, – сказал, – ох, нелюбовно. А у нас мир между державами. Ласка – бумагами высокими оговоренная.
Визирь заерзал.
– И к чему обиды чинить? – наступал Толстой. – К чему раздражение? Нелюбовный ответ, и думу я твердую имею, что говорили его люди подначальные. Высокочтимый визирь к сему не причастен. Его мысли государственные, а это так, с пустой головой написано. Мудрейший султан, я полагаю, такого ответа не одобрит. Нет, – Петр Андреевич воздел руки кверху, – высокому уму присущ и высокий полет.
Визирь заерзал более.

На другой день посол российский получил султанский указ, в котором сообщалось, что велено его высоким именем выделить московским купцам бесплатно тридцать подвод до Валахии, а путь по валахской земле оплачивать вполовину. Обоз российский сопровождать янычарам для безопасности. Такое было неслыханно. Однако моря турки не отворили. Но Петр Андреевич и тем был доволен. Знал: первый шаг сделан, другой полегче будет, – и обратился к визирю с новой просьбой.
Толстой ныне просил разрешения отправить закупленные им для своего брата – азовского воеводы – вещи морем.
– А, – восклицал, – торговое судно снарядим и прямо в Азов! Так помалу морской путь в Россию и отворим.
Петр Андреевич, конечно, лукавил. Вещи, которые он хотел отправить в Азов, были не его и не для брата куплены. В Россию возвращался Савва Лукич Владиславович. Товары принадлежали ему, но послу российскому нужно было создать случай отправки торгового судна в Азов. Не так важны и ценны были сами вещи, как почин. Турки отказать послу в отправке вещей для брата не посмели.
Двухмачтовый галиот стоял у причала, и Петр Андреевич дважды и трижды в день ездил на берег. Следил за погрузкой, беспокоился, волновался, как бы в последнюю минуту турки не отменили разрешение, и был счастлив. Даже забронзовел лицом под жарким солнцем, был необычно шумен и словоохотлив.
– Моряк ведь я, моряк, – говорил Савве Лукичу, похлопывая ладонью по мощному стволу мачты, – на Мальту ходил в шторма… Море было бурно!
Над галиотом кричали чайки, сгибаясь под тяжестью тюков, грузчики шагали по скрипучим трапам, мимо борта галиота скользил по тихой воде сандал, покрытый богатыми коврами. Какие-то турки с полнокровными, сытыми лицами рассматривали не без удивления русских.
– Хорошо, – оглядывал берег и море Петр Андреевич, – ей-ей, хорошо! – И, вдруг сев на бухту каната у борта, сказал: – А я вот здесь приткнусь и с судна не сойду. Так и в Азов приду.
Савва Лукич рассмеялся.
– Нет, – возразил, – а кто посольские дела править будет? Толстой, опустив лицо, помолчал с минуту и сказал с очевидной печалью в голосе:
– Завидую тебе, Савва Лукич. Ох, завидую. Недели не пройдет, на своей земле будешь… Завидую… В церковь сходишь, в баньку, кг полке тебя попарят с кваском… Брат мой, Иван, в баньке толк понимает, так что заранее могу обещать: банька у него отменная и венички наверняка есть…
Упер ладони в колени и молчал долго-долго. Молчал и Савва Лукич. Знал: дела заворачивались в Стамбуле круто.
Последнее время Петр Андреевич писал в Посольский приказ, что «здесь суть вельми спокойно». И вдруг ветерком в Стамбуле потянуло. Холодным, знобящим ветерком.
Карл шведский заплутал на петлистых южных российских шляхах. Казалось – у этой земли нет края. С каждым днем, с каждой пройденной верстой незаметно, исподволь, но неизменно нарастало напряжение. Так бывает с человеком, который идет по темному коридору. Он делает шаг, другой. Ничто не грозит опасностью. Он идет дальше, и опять шаг, другой. Неожиданно нога начинает ощущать какую-то зыбкость пола, слух улавливает невнятные шорохи. Человек делает еще шаг, еще, еще… Лица вроде бы касается не то паутина, не то чье-то дыхание. Человек останавливается и, убеждая себя, что это показалось, делает еще несколько шагов. И тут нога отчетливо ощущает опасную неровность, слух явно различает подозрительные скрипы, и безотчетная тревога рождается в душе… Но армия Карла все еще двигалась вперед. Солдаты, нагуляв жирок в благодатной Саксонии, шагали даже бойко, но генералы уже оглядывались окрест с опаской. И вдруг, как выстрел в упор, грянула весть из корпуса генерала Левенгаупта, шедшего из Риги на соединение с главными силами короля.
Карл прилег на походную постель, когда у входа в королевскую палатку раздался взволнованный голос дежурного офицера:
– Ваше величество! Ваше величество…
– Ну, что там? – недовольно скрипящим голосом откликнулся король. – Войдите.
Дежурный офицер отдернул полог и, поколебав свет свечи в грошовом шандале на столе, остановился у входа. Карл, недовольно повернувшись на постели, оборотился к нему, и глаза короля удивленно расширились. Лицо дежурного офицера выражало полнейшую растерянность, ежели не страх.
– Что случилось? – невольно заражаясь волнением, спросил король.
– Солдат из корпуса генерала Левенгаупта! – почти выкрикнул офицер. – Он доносит… – офицер задохнулся, проглотил слюну, – он доносит…
Король поднялся с постели и с плохо сдерживаемым бешенством спросил:
– Так что же он доносит? Что вы мямлите?
– Корпус генерала Левенгаупта, – упавшим до шепота голосом сообщил офицер, – разгромлен.
Через минуту перед королем стоял солдат из корпуса Левенгаупта. Мундир на нем был порван, лицо захлестано грязью. Солдата шатало, и его поддерживали под руки. Это был рядовой лучшего гренадерского полка, случайно вырвавшийся из окружения. Он был так плох, что ему дали кружку вина, и только тогда солдат смог рассказать, что корпус разгромлен, а обоз в две тысячи телег, в котором было продовольствие и порох для армии Карла, захвачен казаками. Гренадер охватил голову руками и склонился на стуле.
– О боже, – невнятно выговорил он, – моим глазам пришлось увидеть такое… – Вдруг, выпрямившись, он с яростью и слезами выкрикнул в лица офицеров и придворных короля: – Корпуса больше нет!
В глазах солдата, казалось, зажглось безумие.
– Это ложь! – свистящим шепотом выговорил король и, заметавшись по палатке, вскричал: – Ложь!
Но это не было ложью.
Разгром шведов под деревней Лесной многих заставил задуматься.
То, что Карл увяз в бескрайних российских просторах, было понятно и без того, но гибель восьми тысяч шведов под Лесной потрясла Стокгольм. Не один колокол ударил в шведской столице по погибшим и не одна мать заголосила, рвя на себе волосы. Да и не только в столице.
– Да… – говорили по всей Швеции, горестно складывая губы, – однако…
– Оно, конечно, хорошо иметь порты в Прибалтике, хороши русские пенька, лен и хлеб, но восемь тысяч солдат…
– Это здоровенные парни с сильными руками, которые бы на родных полях выращивали отменные урожаи…
– Король слишком увлекается…
– Увлекается? Нет, это следует назвать по-другому!
В эти дни в Стокгольме собрался сенат. В мрачный зал окна едва пропускали сумеречный свет. Лица сенаторов были угрюмы. Говорили долго о пустующей казне, об обезлюдевших деревнях, о тревожных разговорах среди судовладельцев, лесопромышленников, купечества. Но к единому мнению так и не пришли и ограничились петицией в ставку короля. В ней отчетливо звучали тревога и желание предостеречь короля от дальнейших необдуманных действий.
После заседания сената королевский советник граф Пипер вышел на ступеньки подъезда и остановился, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Широкогрудый, массивный, на крепких ногах, всегда отличающийся здоровьем и бодрым нравом, сейчас он выглядел не таким уж крепким и вовсе не здоровым. Ветер с шелестом подкатил под ноги советника желтые осенние листья. Карл Пипер жестко сложил губы. Настроение у него было отвратительное. Он был против похода на Украину и ныне отчетливо угадывал его гибельность. «Вот уж истинно, – подумал Пипер, – от великого до смешного – один шаг. И почему люди из раза в раз переступают эту грань?»
Холодный туман наползал из улиц.
Тревога в Стокгольме не осталась незамеченной другими королевскими домами, признаки беспокойства объявились и в Стамбуле.
Французский двор отозвал неудачливого посла Ферриоля, и на его место был прислан маркиз Дезальер. Петр Андреевич сразу же оценил силу и умение этого еще молодого аристократа. При кажущейся легкости поведения, которое очевидно для всех выказывало, что усилия маркиза направлены только на получение в жизни удовольствий, он обнаружил недюжинный ум и волю к достижению поставленных тайных целей. Маркиз не стал, как его предшественник, задаривать всех подряд в Стамбуле, но, изучив расстановку сил, повел усиленную атаку на визиря Чарлулу Али-пашу. Петр Андреевич понял: французский посол хочет свалить медлительного Али-пашу и подвинуть Порту к войне с Россией. «Христианские державы, – говорил Французский посол, и о том стало известно Петру Андреевичу, – вот уже десять лет заняты взаимными войнами, и надо быть глупцами здесь, в Стамбуле, чтобы не отобрать назад потерянные в России земли и не отомстить врагам религии». Посол высказал это как размышление среди европейских дипломатов, но не следовало сомневаться, что слова эти предназначались для слуха турецкого султана. И наконец, самое огорчительное для Петра Андреевича – в Стамбуле объявились украинские синежупанные казаки. Теперь не оставалось сомнения в том, что Мазепа предал царя Петра и переметнулся в лагерь шведов. Для российского посла в Стамбуле наступали трудные времена. Петру Андреевичу противостояли шведы, французы, люди Станислава Лещинского и Мазепы. Все вместе они представляли грозную силу, но да и Петр Андреевич ныне был не тот, что прежде.
Царь Петр, отправляя Толстого в Стамбул, заметил: «Ты зубаст, и надобно, говоря с тобой, камень иметь за пазухой, дабы зубы те выбить, коли укусить захочешь». И ошибался. Тогда еще зубы не остры были у Толстого, а ныне вот и впрямь крепкие стали.
О размышлениях маркиза Дезальера рассказал Петру Андреевичу австрийский посол в Стамбуле Тальман. И хотя слова маркиза он передал Толстому с улыбкой, как шутку забавника-аристократа, и Петр Андреевич не замедлил на то улыбнуться и даже шаркнуть ножкой, однако подумал: «Австрияк отнюдь не для моей пользы это болтает, но свою цель преследует». Петр Андреевич игру Тальмана понял так: Ферриоль толкал турок на войну с Австрией, маркиз ведет их к войне с Россией, а это означает, что, увязнув в российских делах, Османской империи будет не до Австрии. «А это устраивает Тальмана, – подумал Толстой, – и он хочет поссорить меня с Дезальером. Но, глупец, ежели Порта перейдет рубежи Валахии, османская армия подопрет границы Австрии, и так или иначе, но австриякам придется собрать все силы для отражения возможного вторжения. Ах, маркиз! Ах, хитрая голова! Одним ударом хочет убить двух зайцев: связать и Россию, и Австрию… Ну-ну…» И Петр Андреевич еще любезнее ответил на улыбку австрияка. Размыслив, Толстой все же посчитал, что сейчас наиболее опасны для Российской державы не французы с их сложной игрой, затеянной в королевских домах Парижа, Стокгольма, Варшавы и здесь, в султанском дворце в Стамбуле, но шведы и Мазепа. И оказался прав.
Казаки смело ходили по улицам Стамбула, заломив на затылки мерлушковые шапки и звеня шашками. Их пугались. Здесь хорошо помнили дерзкие казачьи набеги на Анатолийское побережье.
Шведы шли к Полтаве.
– Мой король, – сказал барон Гилленкрок, – разве вы намерены осаждать Полтаву?
Разговор происходил в палатке Карла в присутствии советника короля графа Пипера, недавно прискакавшего из Стокгольма. Советник стоял чуть в стороне от говоривших, кусая губы. За час до этого он имел долгий разговор с Карлом. Граф убеждал его отказаться от дальнейшей войны здесь, на Украине. Он рассказал об озабоченности сената, о разговорах и слухах в Швеции, пустой казне и даже о проклятьях, которые шлют на голову короля матери погибших в далекой России солдат. Король, однако, был неумолим.
– Да, Гилленкрок, – ответил Карл генералу, переждав порыв ветра, рвущий верх палатки, – я намерен осаждать Полтаву, и вы должны составить диспозицию и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом. Так делает Вобан во Франции, а вы здесь – маленький Вобан.
Гилленкрок болезненно взмахнул рукой и дотронулся до виска.
– Я полагаю, – сказал он глухо, – что и Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.
Карл ответил с нескрываемым презрением в голосе:
– У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава – крепость ничтожная.
Карлу Пиперу захотелось закричать, застучать каблуком, но он не мог противостоять королю. При всей телесной мощи на это у него не хватало нравственных сил.
Гилленкрок без всякой уверенности возразил Карлу:
– Крепость, конечно, не из сильных, но по многочисленному гарнизону, из четырех тысяч русских, кроме казаков, Полтава не слаба.
На это король ответил:
– Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.
Гилленкрок, ища поддержки, оборотился к Пиперу. Но тот – необычайно бледный – только положил руку на горло, словно пытаясь расслабить душивший его ворот. Генерал понял, что поддержки от Пипера не дождется, и вновь повернулся к королю.
– После первого выстрела?.. – Гилленкрок помолчал и, уняв волнение, сказал: – Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.
Неосторожно сказанное слово «счастье» подействовало на Карла как шпоры, всаженные в бока лошади.
– Да, счастье! – воскликнул он. – Мы свершим необыкновенное дело и приобретем и славу и честь!
Король проводил генерала и советника до выхода из палатки и, коротко кивнув, резким движением задернул полог.
Дальнейший ход войны был определен, и предвидение Петра Андреевича относительно наибольшей опасности от шведов и Мазепы вполне подтвердилось. Готовясь к броску под Полтаву, шведы начали собирать силы, и в столице Османской империи объявился вслед за казаками гетман Мазепа. Петра Андреевича известили об этом тотчас, а еще через два дня он и сам увидел, во время визита к визирю, изменника гетмана.
Мазепа стоял у фонтана во дворе визирского дворца в окружении поляков и шведов. Лицо его было нездорово темно. Заметив российского посла, он вскинул голову, губы его сломала странная, болезненная улыбка, в которой были и ущемленное самолюбие, и неуемная гордыня, и… страх. Петр Андреевич, головы не повернув, прошагал мимо.
Предатель всегда жалок. И для тех, кого он предал, и даже для тех, на чью сторону он переметнулся. Больше того – он жалок для себя. Человек никогда не живет один и не может жить один. Мнение о нем окружающих значит для него гораздо больше, чем он думает. А предатель знает, что он презираем со всех сторон, и это висит над ним и днем и ночью, как топор.
Петр Андреевич вызнал, что Мазепа был у крымского хана и просил того выступить ордой через Перекоп. Гетман-изменник сулил крымцам дань с Украины, которую они раньше получали от Российской державы, и даже дань от королевства Польского. Крымский хан выказал полную готовность к началу военных действий. Но начать войну без согласия Стамбула он не мог, и вот тут-то мертвой хваткой вцепился и в хана и в Мазепу Петр Андреевич. Да, гетману-изменнику трудно было противостоять послу российскому. За спиной у Толстого была держава, за Мазепой – пустота. Петр Андреевич через верных людей добился того, что силистрийский паша Юсуф написал султану: «Швед есть осажден ото всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому выйти и пойти вон никуды в места их… видится во всем бессилии их и худоба как самого короля, так и войска его». Мнение Юсуф-паши было решающим для Дивана. Паша ближе всех стоял к сражающимся русской и шведской армиям, и его лазутчики шныряли по Украине. Это был ход, который не предусмотрел Мазепа. Султан запретил крымскому хану выступить против России. Петр Андреевич мог поздравить себя с новой победой, но посол российский торжествовать не спешил.
Вернувшись от визиря, который заверил, что крымцы хотя и скучают по ясырю – взятке, однако не посмеют переступить через султанское запрещение. Петр Андреевич, пройдя в свою палату, стащил с головы, как шапку, парик и швырнул на стол. Зажег свечу и надолго остановил взгляд на шатком под сквозняками огоньке. Он угадывал: шведы вот-вот будут разбиты и европейские королевские дома тотчас вступят в ожесточенную борьбу, понуждая Порту к войне. «России мира не позволят, – думал Петр Андреевич, – слишком счастлива судьба царя Петра, слишком многого он достиг, укрепившись в Прибалтике». Перед глазами встал любезно раскланивающийся маркиз Дезальер, загадочно улыбающийся австрийский посол Тальман. Свалить Мазепу оказалось не так уж трудно. С этими было сложней.
Военные победы воочию объявляются на полях сражений. За столом дипломатов они не так очевидны и больше того – часто чреваты последствиями, которые на нет сводят затраченные усилия и даже саму кровь солдат. Спешат к победам только генералы. Мужам государственным должно одинаково рассчитывать последствия и побед и поражений.
Петр Андреевич, тиская и сжимая попавшийся под руку парик, неотрывно смотрел на слабый огонек свечи…
Тогда же, в Москве, провожая царя Петра под Полтаву, глава Посольского приказа Гаврила Иванович Головкин сказал:
– Ах, кабы Карл повернул да ушел восвояси. Куда как славно бы сталось…
Петр взглянул на него и промолчал. Он знал: Карл не повернет, королю шведов еще жаждалось побед, грозных атак, порохового дыма. О последствиях он не думал. Ехать было необходимо.
Через два месяца под Полтавой шведская армия была разгромлена наголову. Король Карл, раненный в плечо и ногу, едва спасся, уйдя от погони русских драгун. Гилленкрок бежал вместе с королем, граф Пипер попал в плен. Впереди его ждали заключение в Шлиссельбургской крепости и смерть в одном из ее казематов.
Солдаты царя Петра сделали все, что могли. Теперь в драку надо было вступать послу российскому – Петру Андреевичу Толстому.
Лукавый маркиз своего добился: медлительный Чарлулу Али-паша был смещен и великим визирем назначили Кёпрюлю Нумен-пашу, радевшего об укреплении ислама больше, чем глава церкви – муфтий. С того дня, как Нумен-паша получил власть, у стамбульских муэдзинов похоже прорезались голоса и они много громче прежнего стали восхвалять всевышнего с высот минаретов, а глухие, черные галобеи правоверных удлинились, пожалуй, и ниже пяток. Женщины поверх чадры укутали головы платками, и в святую пятницу в мечетях многократно прибыло число слушающих чтение Корана и толкование сур.
Но не только чистота религии занимала нового визиря.
Ныне Карл, разбитый под Полтавой, жил под защитой султана. Ему даже определили кормление. Турки были не очень щедры, но все же содержали короля и его немногочисленный двор. Карл оправился от ран и с неменьшей задиристостью, чем прежде, рвался в бой. Петр Андреевич с тревогой писал в Посольский приказ, что Карл при султанском дворе хвастает, «будто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысяч», а Мазепа клялся, «будто и Украина вся будет с ними согласна». Но и это было не все, что так тревожило российского посла в Стамбуле.
Разгром шведов под Полтавой круто изменил многое. Станислав Лещинский бежал из Варшавы, и, как птица Феникс, восстал из пепла король Август, неожиданно вспомнивший, что он прозывается Сильным. Больше того: Август припомнил, что он союзник России, и поспешил затеять новую коалицию против битого короля Карла. Август с необыкновенной пышностью въехал в Варшаву и на деньги, полученные от царя Петра, устроил для варшавян гулянье с «возжиганием потешных огней, многими играми и забавами, а такоже с раздачей жареного мяса, полотков и птицы разной». Наибольшее внимание Август уделил восстановлению утраченного великолепия королевского дворца. Станислав Лещинский, несмотря на поспешность, с которой бежал из Варшавы, вывез не только государственную казну, но и все ценное, что было в королевских покоях. На это Август, войдя во дворец и оглядев ободранные стены, с презрением сказал:
– Жалкий человек, но я всегда говорил, что Лещинские жадны и мелочны!
И с широтой, достойной польского короля, не жалея петровских ефимков, распорядился незамедлительно украсить дворец с прежней роскошью. За спиной короля раздался восторженный шепот придворных. Многочисленные дамы, всегда сопровождавшие короля, присели в книксене.
Закончив эти многотрудные дела, Август ускакал в Потсдам, дабы с королем датским и королем прусским заключить конвенцию против столь обидевшего его Карла. И в Городском замке Потсдама, стоящем среди цветущих роз, конвенция была заключена. Царь Петр, несмотря на настоятельные предложения, пока воздержался от участия в сей конвенции.
Решительные действия трех премудрых королей сразу же осложнили и так накаленную обстановку в Стамбуле. Петр Андреевич от верных людей день ото дня получал все больше и больше подтверждений о начавшемся приготовлении Османской империи к войне с Россией. В Стамбуле и других портовых городах по Анатолийскому побережью ускоренно строились боевые фрегаты. Спилиот сообщил Петру Андреевичу о перебросках к российским рубежам военных грузов, иерусалимский патриарх Досифей дал знать об указе султана о призыве под ружье янычар. Да Толстой и сам отмечал грозные признаки приготовления к войне. В письме Гавриле Ивановичу Головкину он писал в эти дни: «Здесь ныне чинятся великие приуготовления воинские с великим поспешанием ни в какую иную сторону, токмо к границам российским».
Бегство Станислава Лещинского из Варшавы и заключенная коалиция трех королей, казалось, удвоили силы маркиза Дезальера. Ныне французский посол уже был недоволен действиями визиря Кёпрюлю Нумен-паши. Да, новый визирь начал приготовления к войне с северным соседом, но и его усилия, как представлялось маркизу Дезальеру, были все же недостаточными. Лука Барка, предостерегая Петра Андреевича, сообщил, что маркиз окружил себя наиболее воинственными янычарами и всячески подогревает настроение вновь сменить визиря и поставить ныне во главе правительства ярого врага России Балтаджи Мехмед-пашу.
Мехмед-пашу Петр Андреевич знал. Тот даже не скрывал неприязни к русским и, встречаясь с российским послом, прикрывал глаза от сжигавшей его ненависти. Говорил, спотыкаясь в словах, так горело у него в груди.
– Ну-ну, – только и сказал Толстой, выслушав Луку Барка. Сидели они в кофейне над бухтой Халич. Петр Андреевич приезжал ныне сюда ежедневно, садился за столик к окну и так проводил долгие часы. В кофейне было малолюдно, и русский посол стал желанным гостем для хозяина. Он, поспешая, ставил перед Толстым медные тарелки с засахаренными фруктами, печеньем, поил шербетами. Но Петра Андреевича не занимали эти угощения, хотя он с годами, проведенными в Стамбуле, и пристрастился к восточным сладостям. Для него наиважнейшим было здесь иное. Из окна кофейни открывался широкий вид на бухту, и перед взором Петра Андреевича как на ладони видны были стоящие у причалов суда, пакгаузы, ведущие к порту дороги. На причалах ни на минуту не стихала лихорадочная суета. Петр Андреевич видел, как грузят пушки, ядра, бочонки с порохом и свинцом, ящики с оружием, загоняют в трюмы лошадей, тяжелоногих мулов, медлительных верблюдов, надменно несущих по-змеиному маленькие головы.
– Что скажешь, – кивнул Петр Андреевич Луке Барка на порт, – а?
Барка долго смотрел на грузящиеся суда, словно стараясь запомнить, сколько их и что несут по сходням на палубы, но наконец отвернулся от окна и взглянул прямо в глаза Толстому.
– Это война, – сказал, – война…
– Война, – подтвердил Толстой, – вижу.
– Чем можно помочь России? – спросил Барка. Толстой помолчал, ответил глухим, без красок, голосом:
– Теперь, наверное, ничем. Одно лишь укрепляет меня, да и тебя должно укреплять, что много лет нам удавалось поддерживать здесь, в Стамбуле, так нужный России мир. Ныне царь Петр крепок. Вот и Карла шведского свалили, а сила была грозная. В той победе и наша доля есть. – Голос его несколько окреп. – Сей же миг полезны можем быть тем, что предостережем Россию о грозящем лихе.
В кофейню вошел чюрбачей. То все топтался на улице с янычарами, но вот вошел. Осмелел, знать. Толстой поглядел на него и как ни в чем не бывало кивнул: садись-де, выпей чашку кофе. Чюрбачей с каменным лицом поклонился, но не сел за стол, повернулся и вышел. И то, что он вошел, и то, что отказался от приглашения, – все было тревожными признаками. Петр Андреевич отхлебнул из чашки, и ему показалось, что кофе горек, как полынь.