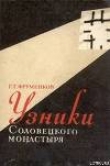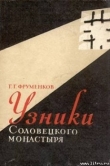Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Глава четвертая

Дорога на Инсбрук шумна и многолюдна, так как сей город тирольский стоит на перекрестке путей, ведущих из Германии, славной своими товарами, в благодатную Швейцарию, цветущую Италию с ее шумными рынками и торговыми домами, известными на все Средиземноморье. По дороге той за многолюдством постоянным незаметно проехать нетрудно. Но Румянцев все же карету известную не версту добрую пропустил, дабы в глаза страже царевича не бросаться. Решил так: «Царевич никуда не убежит, но мне поберечься все ж надо». И как ни хотелось офицеру с девками веселыми, что на возах, шуткой переброситься или с крестьянином каким поговорить, но он рот на замок замкнул. Больше того: в плащ закутался и на лицо шляпу надвинул низко. Кони шли шагом.
Ближе к Инсбруку Румянцев коня чуть шпорой тронул и на легкой рыси обошел ближние фуры. Увидел: карета с царевичем, по-прежнему не торопясь, пылит к городу, и драгуны скачут за ней. Осадил коня, но назад сдавать не стал. Подумал, что в город карета вкатит и в улицах затеряться может. Лучше уж поближе держаться и из виду царевича с его охраной не выпускать.
Как задумал, так и сделал.
Карета в город въехала, а Румянцев за ней. Миновали рынок, свернули в улицу узкую, в другую, офицер следом. За угол отпустит карету и придавит шпорой коня. Тот прижмет уши и, послушный приказу хозяина, прибавит шаг. Звонко ударят в булыжник подковы, и вот уже карета перед глазами.
А Инсбрук – город немалый да и путаный: улицы в гору лезут, петляют, но офицер все же карету до самого дома, где царевича поместили, сопроводил. Карета у ворот остановилась, и Румянцев, глазами по сторонам стрельнув, трактиришко приметил и с коня соскочил.
Слова офицер не успел сказать, а из трактира на ножках коротких хозяин в колпаке вязаном шаром выкатился. Руками всплеснул, радуясь гостю. Мальчонка расторопный выбежал. Принял коней у офицера. Румянцев поводья ему передал, а сам к улице оборотился, будто бы расправляя плечи, уставшие от долгой дороги.
Увидел: из кареты известной вышел царевич с дамой и поспешно в воротах скрылся. «Вот и все, – подумал Румянцев, – птичка в клетку залетела. Теперь мне вольно». Шагнул в трактир, зацепившись шпорой за порог. Устал все же. Дорога не такой уж легкой была.
Хозяин, непрестанно улыбаясь медной рожей, принес кувшин вина, желтый сыр на тарелке, зелень какую-то и с поклоном налил высокий стакан. Подал на стол горшок с похлебкой, от которой пахнуло так, что у офицера голова закружилась, и он вспомнил, что со вчерашнего дня не держал во рту и макового зернышка.
Дабы гостю поскорее с дороги согреться, в камин мальчонка подбросил поленьев, и пламя разом вскинулось высоко. Жарком потянуло по всему трактиру. Отсветы веселые заплясали по стенам. Вот так-то любо путнику после дороги многотрудной покой обрести. И поест он, и согреется, и слово доброе от хозяина услышит.
Конюх в харчевню вошел, сказал с поклоном, что кони вычищены, напоены, в стойла поставлены, так что путник может не беспокоиться. Офицер, с полным ртом похлебки, кивнул ему с благодарностью.
В дверях брякнул колокольчик. Хозяин поспешил навстречу. А Румянцев и головы не поднял – так уж вкусна похлебка была. Но вдруг услышал, как шпоры звякнули, и ложка у него повисла в воздухе. Вскинул глаза. В дверях стояли драгуны, что сопровождали царевича. Румянцев медленно ложку в горшок опустил. В голове пронеслось: «Вина пришли выпить или меня приметили?» И, уже не чувствуя вкуса похлебки, черпнул ложкой раз и другой.
Хозяин, о чем-то переговорив с драгунами, провел их к стойке. И все кивал головой в белом колпаке. Достал из-за полок большую корзину и поставил на стойку. Румянцев без вкуса хлебал похлебку. Поглядывал на драгун искоса.
Хозяин положил в корзину изрядных размеров бутыль вина, головку сыра, срезал висевшую над камином связку колбас. Драгуны колбасы понюхали и, видно было, остались весьма довольны. Хозяин кивнул им и суетливо выскочил в низенькую дверку за стойкой.
Румянцев отодвинул горшок с похлебкой. «Нет, – подумал, – не за мной они. Здесь что-то другое». Твердой рукой взял кувшин. Налил стакан вина, поднес ко рту. Драгуны на него не глядели, переговариваясь о своем.
Хозяин вернулся со второй корзиной, и Румянцев острыми глазами рассмотрел в ней зелень и фрукты.
Пламя в камине поднялось высоко, и вино в стакане у Румянцева налилось глубоким кровавым цветом. Офицер поигрывал стаканом, беспокоил вино, как человек, для которого одно только и есть – его ужин после дороги.
Звякнул о стойку золотой, и драгуны, подхватив корзины, пошли к выходу. Хозяин услужливо выбежал вперед, распахнул дверь. И еще долго кивал вслед гостям даже и тогда, когда они вышли на улицу.
У Румянцева беспокойство от сердца отлегло, и он стукнул стаканом о крышку стола. Хозяин тут же подкатился к нему на смешных ножках, как будто бы на вертлюгах, приделанных к толстому животу.
– О-о-о! – воскликнул. – Вы принесли мне удачу! Как только вы появились в моем трактире, тут же пришли славные драгуны, которых вы видели, с богатым заказом. Неподалеку в доме знатного человека остановился иностранец, и драгуны по поручению хозяина взяли у меня и вино, и дорогую ветчину, колбасы, фрукты и пообещали прийти еще и завтра.
Живот хозяина колыхался под фартуком, словно там был запрятан изрядный поросенок.
– Я отведу вам лучшую комнату для ночлега и дам такую постель, на которую согласилась бы лечь и самая изнеженная принцесса.
Хозяин подхватил кувшин с вином и хотел было налить стакан гостю, но Румянцев отвел в сторону кувшин и поднялся из-за стола.
– Нет-нет, – сказал, – после дороги дальней и хорошему вину я предпочту отдых…
Хозяин с пониманием поклонился и взял со стола свечу. Он угадал в госте серьезного человека, понял – не из тех пустозвонов, что, набравшись в придорожной харчевне вина, будут бренчать на гитарах и плясать по-шутовски, забыв о деле. Этот свое знает. У хозяина глаз был наметан на людей.
Федор Черемной, добравшись наконец с обозом до Москвы и малого времени не теряя, зашагал в Зарядье. Шел, глазел по сторонам. В Москве года три не был, с тех самых пор, как столицу перевели в Петербург.
Плутал-плутал меж домов, а церковь, что ему нужна была – Зачатия Анны в Углу, нашел.
Церковь, не в пример другим, богатая. Крыша свежевыкрашена, золоченые купола, ограда вокруг церкви чугунная, литая, затейливая. «Даяниями, знать, церковь не обделена, – смекнул Черемной, – процветают отцы».
Постоял, обмахнулся крестом, толкнул калиточку. От паперти к нему непонятный человечек поспешил. Словно без костей весь – так и вьется, изгибается и теми местами, которые изгибаться не могут. «Зашибленный какой-то», – подумал Черемной, но поклонился на всякий случай.
– Что надобно? – прошелестел вьюн, глаза подкатил под брови, губы вопрошающе выпятил.
– Да я вот… – тянул Черемной, – даяние святой Анне… И докончить не успел, вьюн сказал:
– К отцу протопопу пройди. Он распорядится.
Заскользил впереди, показывая дорогу. На походку его Черемной весьма подивился. Будто и не переступает ногами человек, а все же вперед продвигается.

Остановился вьюн, пальцем показал:
– В ту дверку стукни.
Сам стоит, смотрит. Черемной стукнул в дверь. Ему ответили. Он шагнул через порог. Под мерцающей лампадой Черемной увидел седого старца. Тот прищурился, поглядел на него внимательно из-под седых же бровей. Не вставая с кресла, спросил смиренно:
– Что привело тебя, раб божий, в нашу обитель?
Черемной плаксиво заговорил, что вот-де жена страдает болезнями и оттого который уж год ждут-ждут чада, а бог не дает. Пришел послужить, мол, церкви вашей. Может, святая Анна помощь окажет?
– Мысль твоя, – сказал протопоп, – богоприятна. А что делать умеешь?
– Богомаз я, – ответил Черемной, – из-под Твери.
И не соврал, к удивлению. И впрямь отдавал его отец еще мальчонкой к мастеру, и Федька пробыл у того около года. Позже мастер прогнал его за неспособность и характер злой. Сказал отцу: «Ежели драть его без всякой жалости, может, и выйдет какой приказной крючок. А к иконам подпускать нельзя. Подл до невозможности».
«Посмотри, – сказал мастер отцу, – рожа-то какая?»
Федька из угла глядел васильковыми, невинными глазами.
«Тьфу, – плюнул мастер, – и не сморгнет ведь».
На крючка приказного Черемной и выучился. Драли его, правда, нещадно. Отец совет мастера-богомаза помнил… Драли и розгами, и веревочными вожжами, и вожжами сыромятными, и батогами. Полена в ход пускали. Другой при таком дёре давно бы протянул ноги. У Федьки же на месте, которое бог сотворил для юношей, в науку стремящихся, выросла роговая мозоль. И был он к бою почти бесчувственный, так что наука в него входила слабо. Но пронырой стал Федька предерзким. Того не отнять. И памятью обладал редкой.
– Богомаз нам не нужен, – сказал отец протопоп слабым голосом, – но вот по хозяйству помочь – то можно. Богу всякая работа люба.
– Готов я и по хозяйству, – ответил Черемной. Подумал: «Знаю вас, чертей, скажи только: «Задарма работать буду», – вы и ума не сложите, что приказать».
– Как звать-то? – спросил протопоп.
– Федькой.
– Иди, раб божий Федор, к ключарю. Он укажет.
Махнул рукой и прикрыл глаза прозрачными веками. Черемной поклонился в ноги. Для истовости на колени встал. Заметил: отцу протопопу то понравилось. Лицо у него подобрело. Вышел. Бескостный стоял на прежнем месте. Федор спросил:
– Мне бы ключаря.
– А я и есть ключарь, – ответил тот.
Федор обсказал ему разговор свой с протопопом.
– Пойдем, – кивнул ключарь и повел на конюшню.
На конюшне навоз горой. Черемной как взглянул, шапка чуть не упала.
– Уберешь, – сказал бескостный, – другой урок дадим.
И, больше слова не проронив, заскользил по двору. Ушел.
Федор постоял-постоял, приглядываясь, с какого краю получше к куче подступиться, и взялся за вилы. К работе черной был он непривычен, и вилы в ладони тяжеленько ему легли. С досады покряхтел, но что делать: урок-то выполнить надо. Весь день провозился Черемной на конюшне и спину изломал – не разогнуться. К тому же и жрать за день не дали и малой крошки. Присел уже в сумерках, отвалился к стене, дышал трудно. Загнали малого, как скотинку на пахоте.
Пришел ключарь. Глянул сонно, позвал с собой. Федор шел за ним следом, а пудовые ноги не слушаются, гнутся. Вот как хлебушек-то добывается, ежели трудом, а не подьяческим крючкотворством. Соленый он. Сочтешь кусочки такие и ради баловства, от полного пуза, не укусишь. Спотыкался Федор, а вьюн – за день-то, наверное, хребет не очень утрудил – поспешал легко.
Пришли в церковную боковушку. Но натоплено здесь было и три свечи горели в шандале. Стол добрый стоял, по стенам лежанки, дерюжками чистыми накрытые. Черемной огляделся и не устоял. Сунулся к лавке, сел. Бескостный глянул на него, но промолчал.
Отворилась боковая дверца, и вошел человек. Бородища черная от глаз растет, а сам – поперек шире. Но без жиру, жилистый. Лицо звероподобное – рта за бородой не видно, под глазами бугры. Человек за собой дверь ногой прикрыл и на стол церковную посудину поставил с большим бережением.
– Звонарь наш, – сказал о нем вьюн, – ты громче говори. Уши ему колоколами отбило.
Федор к посудине пригляделся да так и ахнул: купель на столе, в которую православных при крещении опускают. И полна до краев водки. Ключарь рыбы достал вяленой, калач, вареное мясо. Глазами пошарил и с полки снял миску с огурцами.
Сели за стол, не перекрестив лба. Пили из одной кружки. Передавали по кругу. Поровну выходило. Федор не отказывался: намордовался за день.
Когда в груди отлегло от дневных трудов, приглядываться стал. Звонарь – то понятно – силы был, видно, недюжинной, и кружку за кружкой опрастывая, не хмелел. А вот как вьюн бескостный от него не отставал – диву давался Черемной. Между прочим подумал: «Мужику серому когда еще выйдет склянка с зельем водочным. А эти из бутылей или там штофов уже не жрут. Им купель подавай». Но мысль та о мужике пришла к нему невзначай. Мужик-то ему был ни к чему.
– Протопоп намедни жаловался, – сказал ключарь, – дохода у церкви нет.
– Как так? – спросил без любопытства Черемной.
– А так вот. Царь столицу в Питербурх перевел, и народ из Москвы уходить стал. При Алексее-то Михайловиче в первопрестольной, почитай, двести тысяч народу было, а сейчас на четверть почти ушло.
Черемной, как глупый, глаза раскрыл: не понимаю-де, что с того?
– А ты посчитай, – сказал ключарь, – ежели с каждого ушедшего по одной только копеечке за свечу – сколько церковь потеряла? А крестины, – вьюн щелкнул ногтем по купели, – а свадьбы, а отпевания… Всего не перечтешь. Плачут отцы от царевых указов.
Звонарь поднялся, наклонил купель, слил в кружку последние капли.
– Вот спроси его, – вьюн показал на звонаря, – сколько получал, как заказывали ему о покойнике отзвонить?
Звонарь слова разобрал, засопел, под глазами бугры красным налились.
– То-то, – крякнул ключарь. Откинулся на лавке. – Юрода нам нужно. Может, с ним дело поправится.
Федор навострился на бескостного.
– Если у церкви юрод, – засмеялся ключарь, – народ валом валит. Кружки с даяниями только успевай оттаскивать. У нас был такой… – Хохотнул: – Семь раз на колокольню поднимался и звонарю семь раз по золотому отваливал.
– Так где же он? – спросил Черемной.
– Ушел.
– Позвать можно.
– Далеко ходить.
– Да я за святую Анну, за благословение ее, – Федор закрестился часто-часто, – хоть на край света.
– Дорога опасна. Драгуны царские загораживают.
– Мне все нипочем. – Федор еще раз перекрестился.
– А что, – сказал вдруг ключарь, – может, и впрямь послать тебя? Человек ты не московский. Богомаз опять же… На богомолье идешь. Все сходится… В Суздаль идти-то. В монастырь. Поговорим с отцом протопопом. – Буквица за буквицей повторил: – По-го-во-рим…

Помолчали. Звонарь желваки катал на скулах. Вьюн вскочил из-за стола, как подброшенный:
– Еще, что ли, по стаканчику!
Нагнулся и из-под лавки, у окна, достал штоф. Разговор пошел совсем уж вольный.
– Нет, – говорил вьюн, – раньше-то лучше жилось. Теперь придавили. Тряхнуть бы Москву как следует. Зашевелятся людишки. Петр-то не сахар. Полынь для многих.
Черемной закрестился робко:
– Что ты, что ты, власть-то за такие речи не похвалит.
– Эх ты, сосуд! – крикнул вьюн. – Власть-то она власть, а ты на нее поперек влазь, иначе задавит.
Вот каким пришибленный-то оказался. Ухарь.
В Париже переговоры как покатились, словно сани с горки, так и пошло. Оказывается, подтолкнуть только и надо было, да вот не знали, с какой стороны. Петр надоумил, а уж мысль его, что Франции без России промеж англичан и немца никак не устоять, Шафиров с Куракиным по-всякому вертели. От такого союза-де и, во-первых, прибыток, и, во-вторых, достаток, и, в-третьих, выгода. Тоже ловкие были ребята.
Теперь начались и застолья, и пиры. И хотя, как видели русские, черный народ жил в глубокой нищете, на пирах столы в королевских дворцах сверкали серебряной и золотой посудой, а вина и различные яства подавали в таком изобилии, что трудно было даже сказать, на какие аппетиты все то рассчитано.
Петр, несмотря на вновь пошатнувшееся здоровье, участие в пирах принимал. Даже знаменитую фаворитку Людовика XIV, госпожу Ментенон, посетил в Сент-Сире.
Почтенная дама пожаловалась на здоровье.
– Чем вы больны? – спросил Петр.
– Старостью, – ответила Ментенон.
– Сей болезни все мы подвержены, если будем долго жить, – сказал с поклоном Петр.
Ментенон и присутствующие при разговоре придворные были приятно обрадованы галантностью русского царя. И маленький тот эпизод в большой игре переговоров стал своей каплей масла.
Русские добивались, чтобы Франция признала завоевания России на Балтике. Речь шла о землях обширнейших. Здесь и Петербург, и Нарва, и остров Котлин, и территории Истляндские и Лифляндские, и многое-многое другое. Признать их за Россией – означало увековечить утверждение державы Российской у моря. С тем сбывалась Петрова мечта – твердой ногой стать на побережье, иметь выход России в Европу морем. Сколько ночей о том думалось, как мечталось, сколько страданий было принято! И уже стояли русские у моря, и корабли строили отменные, да вот бумагой закрепить завоеванное надо было за Россией.
Все шло хорошо, вроде и согласия французов добились, но, как только дело до подписания бумаг дошло, опять вышла закавыка. Французы начали жаться. Говорили: отойдут те земли России по договору со Швецией, тогда и они, со своей стороны, признают завоевания у моря.
Петр понял: в Европе сейчас беда его семейная с Алешкиным бегством многими учитывается. Ждали, чем-де все кончится. Говорили: Петр армией силен, но сам здоровьем некрепок, а ежели к власти в России сын его неверный придет, как повернет дело? И другое говорили: что-де наследнику все те завоевания у моря ни к чему и он им противник.
И вновь в Париже начались проволочки.
Петр предложил тогда искать путь к признанию морских земель за Россией по-иному – просить французский двор воздержаться от выплаты денежных субсидий королю шведскому. Известно было, что карман Карла XII пуст. А с пустым карманом много не навоюешь. Генералы Карла и так были недовольны постоянными задержками жалованья. Не будет у Карла золота, и ему ничего не останется, как начать переговоры с русскими и признать их завоевания у моря.
О том Петр, просидев ночь, написал записку. Шафиров сейчас перебелял ее, так как почерк у царя был неразборчив. Петр ходил по комнате, пояснял непонятные места. Лицо у него опять было нездорово. Сказывалось напряжение последних дней. Но болезнь свою царь скрывал и о болях, возобновившихся в низу живота, не сказал никому. Все силы, все помыслы его были устремлены на заключение договора. Речь-то шла о том, быть ли России со своими портами на Балтике, через которые торговля пойдет вольная, без постыдного посредничества иноземных купцов, или нет. А боль, что уж там! Боль пройдет.
Шафиров осторожно кашлянул. Петр взял бумагу, прочел написанное. Подумал: «На то французы должны пойти. Золото всем дорого. А в Карла они сейчас не шибко верят. Золото валить ему не под что… Золото под победы дают, а не под поражения. Надо давить на них. А Карл без денег задохнется».
Вернул лист Шафирову, сказал:
– Вот так и бейте в одну точку. Не мытьем, так катаньем, а договор вырвать надо.
И согнулся. В низу живота резануло, как ножом.
В доме Федора Лопухина крик стоял, словно на пожаре. А все ученый ворон. Утром птица та, живущая у Лопухиных бог знает с какого времени, неожиданно крикнула петухом. Примета, известно, к беде. К птице кинулись толпой, а она в окно вылетела, села на сарай и, глазом кося на снующую по двору челядь, как ни в чем не бывало принялась чистить клюв. Черная, страшная, и глаза блестят. Кто-то из бойких хотел было камнем в нее запустить. Не разрешили. Неизвестно, как еще прикажут. Разошлись потихоньку.
О том случае хозяину не сказали. Но он сам дознался. Слуга, слабый от старости умом, принес в покои ковш квасу и брякнул: так, мол, и так, а ворон наш петухом кричал. Сейчас на сарае сидит и на всех смотрит странно.
Федор квасом поперхнулся, в исподнем во двор выскочил. А ворон и впрямь на сарае сидит и смотрит круглыми глазами. Федор к сараю подбежал, крикнул:
– Подь сюда!
На плечико указал. А ворон и голову в сторону отвернул, хотя всегда был послушен.
Случай тот весь дом перевернул. И вот некстати тут объявили, что пожаловал Александр Васильевич Кикин. Не виделись они давно, с похорон Федора Юрьевича Ромодановского. Да и тогда лишь переглянулись, а разговора у них не было. Народ вокруг толпился, и слова не скажешь, чтобы не влетело в чужие уши.
Хозяин разговор начал с рассказа об ученом вороне. Губы у Лопухина тряслись. Кикин не дослушал, сморщился: дескать, что там ворон, или уж поглупели вовсе. Лопухин хотел было обидеться, но Кикин сказал о визите Меншикова с товарищами к нему и о вопросе светлейшего относительно наследника. Лопухин о вороне забыл. Александр Васильевич голову опустил и передернул зябко плечами.
На стол люди начали подносить заедки разные, вино поставили в богатом штофе, но хозяин на холопов ощерился. И дверь в покои, где они сидели, прикрыли плотно. По дому теперь более как на цыпочках никто ходить не смел. Хозяйка и та под иконы села и, губы сложив благолепно, застыла, не ворохнется. Воробьи – шальная птица – под окнами только и орали яростно. Ну да им и боярский приказ не приказ.
Гость сидел молча. Лопухин ворочал глазами, приглядывался к Александру Васильевичу и решил: «Скушный ты что-то, скушный. Нехорошо».
А Кикин о своем думал.
Больше всего пугала его тишина. Вестей от Алексея из-за границы никаких не приходило, да и здесь, в Петербурге, люди, что из сильненьких, тоже помалкивали. А тишина не к добру. Страшно, когда тихо.
Думал, думал Александр Васильевич, с кем поговорить, как проведать, что там с наследником, и наехал к Лопухину. Для всего рода их – Лопухиных – наследник надежда. Они-то не выдадут.
– Тебе бы, Федор, – сказал Кикин, – промеж знатных людей разговор завести, где, мол, наследник. О преемнике царском беспокоиться надо. Петр-то вон опять, говорят, приболел в Париже. Сильно хворый. Все бывает, и цари не вечны.
Федор Лопухин скосил опасливо глаза на гостя:
– А пошто ты не заговоришь? Людей-то, чай, знаешь не хуже меня.
Кикин заерзал на стуле:
– Да вишь ты, вам-то, Лопухиным, Алексей родня, и беспокойство твое понятно.
– То так, то так, – загордился Федор.

Что Кикин вспомнил об их родстве с царевичем, было ему лестно. Речь-то шла не о дядьке седьмой воды на киселе – родственнике из забытой в нехоженой степи деревни, а о наследнике престола российского.
Хозяин от удовольствия крякнул, надул щеки: знай, мол, еще и первыми людьми в державе станем.
– Да-да, – сказал он, – то верно. Царевич родня нам.
– И еще вот скажи, ежели с кем разговор зайдет, – ужом изогнулся Александр Васильевич, – дескать, заранее надо готовиться к тому. Молодые-то уж больно предерзки. Наперед всё хотят забежать. И нам должно друг друга поддерживать.
«Молодые молодыми, но и ты своего не упустишь», – подумал Федор.
– И еще на Кукуе в Москве, да и здесь, в Питербурхе, среди французов да немцев больше бы разговору завести о наследнике. Мол, опора он боярству.
– А то к чему?
– Непонятлив ты, – с досадой сказал Кикин.
Лопухин вновь хотел обидеться, но Александр Васильевич объяснил:
– Алексей-то не за рыжиками за границы поехал, а корону искать царскую, и ведомо должно стать покровителям тамошним, что в России помощники ему в его предприятии есть. Старое-де боярство наследнику служить готово.
Опасный разговор получился: при живом отце заговорили о короне для сына. Вроде бы Петр уже и не царь, а скипетр и держава не у него в руках.
Лопухин на окно взглянул, испугавшись, что услышит их вдруг какой человек. Но слушать речи те бесстрашные некому было. Челядь ворона ученого ловила. Хозяин приказал: поймать и голову свернуть, чтобы петухом не кричал. Ишь ты, ворон, а туда же – старого голоса ему мало. Таких-то теперь много развелось – кукарекать по-петушиному или еще как. А зачем? Дано тебе каркать, так ты каркай или, ежели приспичило, спроси сначала, каким голосом кричать, а укажут – тогда и рот разевай. «Потроха выдрать, – сказал, – выдрать и собакам бросить!»
Лопухин провякал:
– Поговорить оно можно. Люди есть…
А Кикин поддал жару – знал, как расшевелить:
– Алексей-то, наследник, в свое время вспомнит, кто ему помощником был. Разумеешь?
«Разуметь-то я разумею, ты за дурака меня не считай, Александр Васильевич, – думал Лопухин, глядя на узенькое личико Кикина, – но вот вперед высовываться не хочется. Как бы по переднему дубиной не двинули. Переднему всегда больше достается».
А Кикин еще поддал:
– Все кумпанство Алексеево поговаривает: пора, мол, и нам наследнику помочь. На тебя смотрят. Ты ведь у нас других-то местом повыше.
– То известно, – опять приосанился Лопухин.
«Дурак ты, дурак, – подумал Кикин, – оглобля… Ну да сейчас не до того, чтобы местами считаться. Дело надо сделать, а там уж сочтемся».
Но сказал другое:
– О царевой болезни надо известить людей. Пусть знают. Кое-кто хвост прижмет. О будущем помыслит.
Лопухин опять глаза скосил на окно: «Эх, разговор… разговор опасный».
О том, что Петру вновь неможется, а в Петербурге и в Москве беспокоятся о наследнике престола, Алексей узнал от приставленного к нему цесарским двором секретаря Кейля.
Царевич жил теперь в Неаполе, в средневековом замке Сант-Эльм. Жил довольно. В город выезжал, по заливу на золоченой лодочке катался, и слуг при дворце было как в боярском доме в Москве – и не поймешь, зачем столько-то. Пузы, что ли, растить.
Секретарь Кейль – хорошо воспитанный, из почтенной дворянской семьи молодой человек – сообщил ту новость скорбным, слегка приглушенным голосом. Наследник русского престола, выслушав, встрепенулся всем телом, вспыхнул лицом и опустился в кресло.
Кейль не подал виду, что угадал мысли царевича. Секретарь поклонился и вышел, притворив за собой дверь. Кейль не ошибся: царевич чуть в ладоши не ударил, услышав о болезни Петра. Удержался вовремя. «Петр-то отец мне, – подумал, – неприлично веселость выказывать».
Кейль постоял с минуту в коридоре у дверей и услышал то, что ждал. За дверью громко, торопливо простучали каблуки наследника. Секретарь бледно улыбнулся: «Не удержался-таки царевич, побежал поделиться радостью со своей дамой». Кейль прикрыл глаза и прошел в свой кабинет. Тихо прошел, неслышно.
Алексей бежал, ног под собой не чуя. Скорее, скорее, через три ступеньки перепрыгивал по лестнице. Дыханье в груди стеснилось. Вбежал к Ефросиньюшке, схватил ее за руки, завертел по комнате:
– Ефросиньюшка! Чую, чую, скоро в Москве будем! – Голос у Алексея звонкий, каким давно не был. Лицо пунцовое. – Радость!
Ефросиньюшка встала посреди комнаты как вкопанная.
– Да в чем дело-то?
Алексей склонился к ней, шепнул, задыхаясь:
– Известие есть – батюшка болен, у бояр в Питербурхе да Москве только обо мне и разговору. Знал я, знал – друзей у меня много. Отцу то было неведомо. Вот как ошибался он! Ну, приедем! – И опять закружил любимую по зале: – Вот уж радость так радость!
А ноги у Алексея сами так и ходят и каблуки притоптывают. Плясать-то наследник умел. В кумпании его плясунов было много, научился.
– Возьми платочек! – крикнул Ефросиньюшке. – Пройди кружок для души!
Ефросиньюшка застеснялась. Плечиком приподнятым лицо загородила.
– Ну же, ну, – просил Алексей, – порадуй!
И Ефросиньюшка послушалась. Вытащила из карманчика шитый платочек и пошла, пошла по зале. Высокая, тонкая, красивая. Шла – как по воздуху летела. Руками взмахнула плавно, подняла их над головой. Загляденье!
У Алексея глаза загорелись. Крикнул:
– Ну, милая, удружила, нет тебя краше!
А Ефросиньюшка все плыла и плыла по зале. То приближалась, то уходила в дальний угол и опять плыла к царевичу, волнуя гибкостью стана, маковым цветом молодого лица.
В тот вечер Алексей приказал подать вина что ни есть лучше, стол накрыть на открытой галерее, выходившей на залив. От счастья у Алексея кружилась голова. У бога по ночам просимый миг, казалось, вот-вот придет.
Стояла вершина мая. От подножья замка террасами цветущие деревья спускались к морю. Ветер заливал галерею медовым ароматом цветов.
Первым к столу вышел секретарь Кейль. На белоснежной скатерти в свете свечей огнями играл тонкий хрусталь бокалов, тускло поблескивало старое серебро. Слуги тихо переговаривались, хлопоча о своем, ровно горели свечи.
На галерею вышла Ефросиньюшка, за ней царевич. Кейль встал. На Ефросиньюшке французское платье с широкой юбкой, прошитой золотыми нитями. Плечи открыты, на пальцах, на груди – камни. Ефросинья протянула руку Кейлю для поцелуя.
Царевич был необычайно оживлен. Кейль хотел было обратить его внимание на красоту залива, но наследник русского престола взял в руку бокал. Как всегда слегка косноязыча, он заговорил первым:
– Кейль, вы принесли сегодня наиважную новость. Выпьем за послание из Питербурха.
Алексей осушил бокал до дна. Кейль подумал: «Наследник престола опять не сдержан в вине». Но секретарю было строго-настрого приказано молчать и слушать. И он слушал.
Наследник неловко потыкал вилкой в тарелку и вновь протянул руку к бокалу.
За дни, проведенные в Сант-Эльме, лицо царевича загорело под солнцем, округлилось, и он казался сейчас как никогда здоровым. Но все же длинные, сухие пальцы, держащие бокал за тонкую ножку, чуть вздрагивали, выдавая нервное напряжение.
Наследника сегодня, казалось, распирало желание говорить и говорить. И он говорил вволю:
– Приду царем на Москву – Питербурху не быть. Разрушить и срыть с земли велю сей град. На месте гибельном стоит он, и жить там негоже. Жить буду в Москве зимой, в Ярославле летом. Славна земля ярославская… Сухая, песчаная, с дубравами и березняками бескрайними.
Ефросиньюшка медленно крутила в пальцах серебряный ножичек. Через стол взглядывала на залив. По лицу ее скользили тени. «Северная Венус», – подумал Кейль, но слов Алексея не пропустил. Кивал головой:
– Да, да… очень интересно.
– Со шведами мир установлю. Нововладения приморские ни к чему. Земли в России много. Ссориться из-за нее с сильным соседом не резон. Торговля морская – выдумка батюшкина. Купцам, а не царю ею заниматься. Царю сие зазорно.
– Да, да, – вставил осторожно Кейль, – жить надо для удовольствий. Мне говорили, что в России забывают о том.
Но наследник не слышал секретаря. Говорил Алексей, уперев взгляд в белую скатерть, на собеседников не взглядывал, и, как понял Кейль, говорил для себя.
Кейль повторил:
– Многие философы мира, величайшие умы утверждали: жизнь только тогда имеет смысл, когда она радость. В посвящении себя радости наслаждений видели они единственный путь.
Выпито было много.
Алексей неожиданно встал, сказал Кейлю:
– Велите заложить карету. Хочу в город.
– Час поздний, – начал было Кейль, но наследник упрямо нагнул голову, и секретарь понял: какие-либо резоны к возражению искать бесполезно.
– Как прикажете, ваше высочество, – склонился он. Через четверть часа из ворот замка Сант-Эльм выехала открытая карета. Четверка белых лошадей, звонко выстукивая подковами о дорогу, понесла ее к городу, раскинувшемуся внизу, у моря.
Алексей, склонившись к Ефросиньюшке, что-то говорил ей так тихо, что сидевший на переднем сиденье Кейль не разбирал слов. Неожиданно наследник громко спросил:
– Что там?
И показал вытянутой рукой вперед. Кейль приподнялся на сиденье, вглядываясь в плясавшие на дороге огни. Улыбнулся и, оборотясь к спутникам, пояснил: