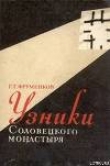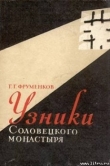Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Глава первая

Царь Петр сидел у края стола молча, наклонив голову. Рука его, свободно брошенная на темное сукно скатерти, чуть приподнималась от кисти, и указательный палец, украшенный чугунным перстнем, раз за разом ударял в крышку стола: тра-та-та… Тра-та-та… Рука у царя была тяжелая, удары были явственны.
Царев кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров поднял серое лицо от бумаг и посмотрел на мерно постукивающий Петров палец. В глухих звуках ему почудилась дробь солдатской побудки. Макаров опустил лицо и усерднее прежнего зашелестел бумагами.
Так продолжалось минуту, две.
Наконец Петр кашлянул сырым горлом, сказал:
– Зови.
Макаров без промедления встал, прошел на жилистых ногах вдоль стола, заваленного книгами, бумагами, картами, заставленного медными и чугунными отливками, и растворил дверь.
Тут же, словно он ждал на пороге, в палату вступил Петр Андреевич Толстой, шаркнул подошвой башмака о навощенный паркет и, роняя букли парика впереди лица, низко склонил голову.
Не произнося ни слова, царь оглядел полноватую фигуру вошедшего, скользнул взглядом по буклям парика, оценивающе всмотрелся в расшитый золотом камзол и, скрипнув стулом, сказал:
– Пышен… Ну-ну, хватит гнуться, дела не терпят.
Голос у Петра был раздраженный, неспокойный, с нотками тревоги.
Петр Андреевич выпрямился, и глаза его встретились с темными, без блеска глазами царя.
Тра-та-та, тра-та-та… – ударил в стол Петров палец, и в этом звуке, в отличие от кабинет-секретаря, для Петра Андреевича прозвучали и вопрос, и раздумье, и усмешка. Вот ведь как, пустяк – царь пальцем на краю стола поиграл, но звук от того двоим и разное сказал. Да еще и так, что Петр Андреевич вмиг сообразил, о чем вопрос, отчего раздумье и по какой причине усмешка.
Рука царя плотно легла на сукно скатерти. Петр оборотил лицо к секретарю.
Макаров торопливо подсказал:
– Второго дня апреля, сего тысяча семьсот второго года… Петр прервал его:
– Знаю. – И оборотился к Толстому: – Тебе известно, что указом от сего числа ты назначен послом в Стамбул. – Помедлил мгновение и, в упор глядя на Толстого, продолжил: – А теперь о том, что надлежит постоянно помнить, исполняя сию должность.
И в третий раз ударил в крышку стола царев палец: тра-та-та… Тра-та-та…
Петр отвел глаза от Толстого, и лицо царя – нездоровое, с набрякшими мешками под глазами, с желтизной – переменилось, как ежели бы он вышел из тесных палат и, стоя на высоком месте, заглянул вдаль. Да, Петр и впрямь в эту минуту мысленно разглядывал, что там для России, за пеленой лет.
Редкие люди вперед заглядывают. Оно ведь так говорят: ехал бы далече, да болят плечи. Вперед заглянуть – труд велик, и лица у тех, кто дальнее видит, особым светом налиты. В лице Петра угадывались отблески пожара. И, как в царевом голосе, заметны были в лице раздражение, неспокойство, тревога.
Толстой напрягся так, что под кожей проступили кости скул.
Дела державные складывались сурово. В ветреные ноябрьские дни 1700 года российская армия была жестоко бита под Нарвой, и Петр с очевидностью понял, что усилия последних лет вытянуть российский воз в гору не дали результатов, которые он ожидал. Шведы, хорошо вооруженные и вымуштрованные, нависали над северными российскими пределами грозовой тучей. Союзница России – Дания вышла из войны, и это был еще один удар по российским позициям. Другой союзник России – польский король и саксонский курфюрст Август метался по Польше не только не в силах сдержать грозных шведов, но и справиться с собственной буйной шляхтой.
Петр крепился, говорил приближенным:
– Швед нас под Нарвой воевать научил. За одного битого – двух небитых дают.
Но под ложечкой у царя посасывало. Петр должен был сказать – как ни было горько, – что русские воевать с европейски выученной армией не могут. Кроме того, Петр опасался союза шведского Карла с Османской империей. Такой поворот в межгосударственных отношениях мог оборотиться для России бедой, ибо в случае этом с севера упирался бы ей в грудь шведский штык, а с юга, в спину, османский кривой ятаган. Силу его Петр помнил хорошо со времен Азовского похода и оттого посылал ныне в Стамбул посольство. Хотя бы этим хотел удержать вот-вот готовое обрушиться на Россию лихо. «Лихо, – подумал, – истинно лихо». И само это слово, внезапно родившееся в сознании, показалось ему страшным.
Петр Андреевич неотрывно смотрел на царя. У Петра морщины прорезали лоб, и он вдруг, словно что-то решив, рывком поднялся со стула и, едва не касаясь низковатого потолка над головой, навис над Петром Андреевичем:
– Обязан ты мир с османами сыскать. Иного не моги! Непременно мир! И поручаю тебе это не я, но Россия!
Петр даже задохнулся. Так, видно, жгло у него в груди, что перехватило дыхание.
Но он перемог себя, сказал спокойнее:
– Время на сборы даю самое малое. Требуй, кого надобно, в помощники, говори, иная в чем нужда… Отказа не будет, а спрос один – мир!
Толстой склонил голову. Проговорил, едва шевеля занемевшими от волнения губами:
– Понял, государь.
Макаров, вытянув шею, смотрел на Петра Андреевича. Много повидавшие глаза его были полны озабоченности. Он-то знал, какую ношу взваливает царь на плечи Толстого.
Петр Андреевич вышел на крыльцо Преображенского дворца и остановился.
По истолченному, грязному снегу двора маршировала полурота. Лица у солдат были синие от ветра, злые. А народ-то всё солдаты – рослый, крепкий, жеребцы, но, видать, и их уходили непривычной для мужика муштрой. Бух! Бух! – била полурота каблуками в грязно-снежное месиво. Свистела пронзительно солдатская дудка, гремел барабан, и нероссийского вида офицер, тоже багрово-синий от леденящего ветра, орал сорванной глоткой:
– Форвертс! Держи рьяд!
На вылезающей из ворота мундира тощей офицерской шее надувались жилы.
– Анц, цвай, драй! – командовал офицер, но Петр Андреевич команд этих не слышал. В ушах стоял возбужденный голос царя: «Иного не моги!»
Ветер бросил в лицо Толстого горсть жестких капель. Петр Андреевич медленно выпростал из широкого рукава шубы руку, отер лицо, да, тут же и забыв об ожегшем кожу злом порыве, взял пальцами за подбородок, крепко сжал челюсть. Задумался и понял – в голосе Петра был страх. «Во как, – удивился, – бывает, и цари боятся?» И ему самому стало страшно. Солдатская дудка свистела, надрывая душу, гремел барабан. Сомкнутые ряды полуроты, разбрызгивая ошметья грязи и снега, шли то вдоль двора, то, разворачиваясь, шагали поперек, наступая, отступая от царева крыльца и вновь подходя вплотную к ступеням. И все орал, вспоминая нерусского бога, офицер.


Остро скрипнув полозьями саней по проглядывающей из луж брусчатке, подкатил кожаный возок Петра Андреевича. Весна была поздняя, и возок не переставили на колеса. С облучка на барина глянул бородатый кучер Филимон.
Петр Андреевич не тронулся с места.
Кучер недоуменно сморгнул, потянул носом сырое, утерся рукавом армяка – уразуметь не мог, отчего барин торчит на крыльце пугалом. А солдаты били, били каблуками. Над Преображенским несло низкие тучи, мотались по ветру вершины деревьев тесно обступавшего старый дворец в глухом бору. Сидя на верхней перекладине резных, обитых медными, прозеленевшими полосами ворот, надсаживалось в крике воронье. За годы привыкли длинноклювые к пронзительной дудке, барабанному бою, солдатам и – черт им не брат – никого не боялись. Круглили нахальные глаза: эге, мол, ребята, весна придет, и уж мы попрыгаем, попляшем, будут забавы и игрища. До людских тягот и забот дела им не было. Они свое знали. Да что с воронья спросишь? Им – воронье, людям – людское.
Филимон в другой раз глянул на барина и, озаботившись лицом, полез задом с облучка. При Петре Андреевиче состоял с детства и смел был не по-мужичьи. Спрыгнул в грязь, подтянул кушак и пошел вверх по ступеням царева крыльца, оставляя за собой мокрые следы. Стал перед барином столбом. Петр Андреевич увидел его.
– Что? – спросил, словно проснувшись. – Ты почему здесь?
– Домой надо, барин, – сказал Филимон, для убедительности подшмыгивая носом, – домой…
Петр Андреевич, тут только оглядев дворцовый двор, увидел марширующую полуроту, воронье на воротах и, будто его в затылок толкнули, зашагал по ступеням.
Опасливо косясь на усы орущего на солдат офицера, Филимон объехал стороной полуроту и погнал коней в ворота. Задок возка подкидывало, водило из стороны в сторону. По весеннему бездорожью не езда была, а беда: того и гляди – не то возок попортишь, не то коней изломаешь.
– Но-но, милые! – крикнул Филимон, взмахнул кнутом, бодря не столько коней, сколько себя.
Петр Андреевич откинулся на сиденье, по ноздри укутался в шубу, руки засунул в рукава. Зябко ему стало, неуютно. Нос только и выглядывал из рыжего меха из-под низко надвинутой шапки; нос костистый, с горбинкой упрямой, тот нос, глядя на который непременно скажешь: «Эге-ге… А хозяин-то твой не прост. Ох, не прост».
По крыше возка, как в барабан, ударили капли дождя. И Толстому вспомнилась дробь царева пальца о стол: тра-та-та… И, как на крыльце Преображенского дворца, он выпростал из рукава руку, взялся за подбородок.
Задуматься было о чем. Вопрос, раздумье и усмешка в царевом стуке послышались Петру Андреевичу неслучайно. Было в судьбе Толстого такое, что царь мог и вопрос задать, и задуматься над ответом, и усмехнуться, да еще и недобро.
В такие же вот сырые весенние дни всколыхнуло Москву стрелецким бунтом. Страшно загудели по слободам колокола, закричали заполошно, завыли по-дурному бабы, ярость вспыхнула в мужичьих глазах. Лихое, хмельное, озорное занятие – губы рвать. И, как всегда бывает в такие минуты, вдруг заметнее стала грязь нищих улиц, гнилье заборов, крыши на избах съехали вроде бы на сторону, опустились ниже и все вокруг зашептало, запричитало задушенными голосами: «Обижены, со всех сторон обижены, обездолены, затеснены власть предержащими, царем, богом». И каждому себя жалко стало до слез. В этот-то горячий час на прытком коне вылетел из-за изб Петр Толстой. Ферязь на кем была раздернута у горла, шапка сбита на затылок, потные волосы липли ко лбу. Крикнул народу, показывая зубы:
– Эй, стрельцы! Что медлите? В Кремле царя Ивана удавили!
Поднял коня на дыбы. Веселый был, боевой и радость выказывал. Не то от вида его, не то от крика, не то по иной какой причине, но на улицах явственно потянуло горьковатым дымом бунта, что кружит, пьянит головы крепче вина. Конь под Петром Андреевичем грыз удила и, в другой и в третий раз вздымаясь на дыбы, брызгал бешеной пеной с губ на стоящих вокруг. Русского человека на бунт только позвать надо. Слово найти точное, и тогда – держись! Озорство у русского в крови. Стрельцы закричали, бросились за Толстым.
А на царя Ивана руку никто не поднимал, жизни царской ничто не угрожало – пустое все это было, выдумка; другое деялось на Москве. К власти рвалась царевна Софья. Не захотела она в девичьем тереме за семью замками сидеть, киснуть в тоске и неволе да ждать монастырской кельи, так как царевнам на Руси редко счастье улыбалось. Царевна хотя и царская дочь, но все одно девка, и путь ей был один – в монастырь, за каменные стены, под кресты. Пущай ей – бога молит. А царевне хотелось воли и власти. Хотелось жить весело.
В те дни стрельцы побили многих на Москве и правительницей при малолетних Иване и Петре провозгласили Софью. Она взошла на трон, как обуянный хмельной радостью мужик в избу вваливается. Поднялась по ступеням самого высокого на Руси места и села, жадно ухватившись толстыми руками за выложенные жемчугом и рыбьим зубом подлокотники.
За службу в лихие дни правительница пожаловала Петра Андреевича в комнатные стольники к царю Ивану Алексеевичу. Это был уже немалый чин. Толстой приободрился. Счастья в жизни, хотя бы и немного, малую кроху, всем хочется.
Но Софьино царствование было недолго.
Петр Алексеевич ссадил Софью с престола.
Толстой попал в опалу.
А на Москве начались невиданные дела. Вот то вправду было веселье, не стрелецкие забавы – кабаки громить, боярское добро растаскивать. Нет, куда там… Рвать армяки на груди, в ярости глаза таращить – игрища дитячьи, забавы дурные для тех, кто иного не мог и не смел. Москва потянулась к морям, к ганзейским торговым городам, к ремеслам и наукам, дотоле неизвестным, к новой жизни без гнусливых юродивых на папертях церквей, без надсаживающих сердце воплей: «Подайт-е-е-е Христа ради-и-и…»
Не коня, как Петр Андреевич в шальные дни бунта, но всю Россию поднимал молодой царь на дыбы.
Толстой сел в отчем доме у оконца со многими переплетами и только поглядывал, как по улице поскакивали на веселых конях новые люди, вышагивали подтянутые офицеры, опоясанные шарфами, торопились куда-то, поспешали.
Домашние осуждали Петра Андреевича. В один голос говорили: «Что глядеть-то? Срам все это. Небывалое. Куда торопятся? Куда спешат? Тьфу, да и только».
Особенно раздражали иностранцы. Ступали они по улицам вольно, ногу выбрасывали смело, поглядывали с достоинством. Русские так не ходили, да и не умели того. С детства, с младых ногтей были учены: над всеми бог, под ним царь, ниже чиноначальники власть предержащие – так ты уж ходи смирно, голову клони да бойся. А вот коли сам начальником станешь, то тем, что ниже, головы пригибай, да построже, можно и зуботычиной, а лучше дубиной. На том все и стояло.
Петр Андреевич кусал заусенец на пальце и смотрел, смотрел прищуренными глазами: смелели люди, смелели.
В старом переулке бренькал колокол, звал к молитве. Отстояв положенное на коленях перед темными ликами святых, Петр Андреевич опять тянулся к оконцу, и уже переплеты казались ему решетками, а капли дождя на слюде – слезами, что ползли не иссякая. Жизнь проходила мимо, дни утекали, как вода в песок.
От великой тоски Петр Андреевич брал себя холодными пальцами за горло, мял, давил и, не в силах выговорить слово, только хрипел и булькал не то от досады на себя, не то на время, что выпало на его бесталанную долю.
Подносили рыжички солененькие: «Откушай, барин». Подавали квасок кисленький, меды сладкие: «Отпей». Выставляли на стол жареное, пареное, вареное, томленое, запеченное в сметане, в соусах хитрых: «Отведай, барин». Но нет. Он все тянулся, тянулся к окну. И не выдержал, сломал гордыню, пошел проситься в службу. И вымолил-таки – послали его воеводой в Устюг Великий.
Новый воевода в Устюге с жаром взялся за дело: расширил торговую площадь, перестроил причалы на Сухоне, начал строить торговые ряды.
Солнце тумана на реке не разгонит, а Петр Андреевич у судов – кричит, командует, лезет в самую гущу. Английские и голландские купцы, открывшие склады в городе, в один голос говорили: «О-о-о… Это есть хороший пример царевой службы!» И они же похвалили воеводу Петру, когда тот, во время путешествия в Архангельск, побывал в Устюге.
Петр с купцами стоял на берегу реки, ветер гнал волны, полоскал паруса судов у причала. Кричали чайки. Водный простор распахивался перед глазами неоглядно. У царя было хорошее настроение. Толстой стоял чуть поодаль, у самого среза берега. Петр похвалы выслушал, посмотрел с интересом на воеводу, но ничего купцам не ответил. С тем и ушел на Архангельск на трех карбасах. А устюгских дел Толстому стало мало, ему хотелось большего. Петр Андреевич об том писал в Москву, просил определить его в военную службу.
Ему дали чин прапорщика.
В Азовском походе он выказал храбрость, и ему присвоили звание капитана гвардейского Семеновского полка. Жизнь, казалось, определилась, но он неожиданно напросился к царю. Вот тогда-то и увидел Толстой усмешку на губах Петра. Молод был Петр, ретивое в нем играло: что, мол, сын дворянский, пришел? Царевы губы искривились в углах. Людское-то и царям не чуждо. Петр Андреевич перемог себя и униженно, голосом покорным попросил отправить волонтером в Италию.
– Учиться хочу, – сказал, – учиться.
Такого и быстрый в мыслях Петр не ожидал. Взглянул с вопросом. Помедлил. В то время царь горел мыслью: как можно больше русских людей отправить за рубежи российские для обучения необходимым державе ремеслам и наукам. Петр Андреевич выказал желание овладеть мореходным делом. Царь прошелся по палате, заложив руки за спину, пошевеливая тесно сплетенными пальцами, кашлянул.
Молчание царево затягивалось.
Петр Андреевич ждал решения.
Петровы каблуки стучали в дубовые плахи. Вот ведь как складывалось: против Петра звал стрельцов Софьин стольник Толстой, а ныне он от Петра ждал решения своей судьбы.
Царь остановился у окна, тень легла через всю палату. И Петр Андреевич подумал, что скажет сей миг Петр одно слово и тенью перечеркнет все его дальнейшие годы. Толстому стало сумно. Почувствовал: в виски молотками бьет кровь. Он поднял лицо, взглянул на царя. Что прочел Петр в его взгляде, о том он ни Толстому, ни кому иному не говорил, очевидным стало одно: задор он молодой перемог, отвердел губами, нахмурился и сказал раздельно:
– Добре. Поезжай.
И все. Не наставлял, как других отправляющихся за границы, не обещал ничего за успехи в науках и ремеслах и не грозил за знания плохие, кои выкажет по возвращении. Но и перечеркивать судьбу не стал. Такого греха на душу не захотел брать. Толстой запомнил: смотрел на него Петр, чуть наклонив голову к плечу, без укора, без раздражения и лишь раздумье читалось в глазах.
Возок тряхнуло. Филимон крикнул с досадой:
– Ну! Волчья сыть, шевели копытами! Толстой, отрываясь от дум, глянул в оконце. Подъезжали к Яузе.
Санная дорога напрямую через реку изломалась, и, хотя лед стоял, объезжать надобно было вкруговую. Филимон завернул коней, но Петр Андреевич все смотрел и смотрел на ледовую дорогу. Поднятая горбом над истаивающим льдом, желтая от навоза, она была хорошо видна с высокого берега. Тут и там дорогу перерезали трещины, напирали на нее клыкастые, изломанные льдины, дыбились, громоздились, и было очевидно, что еще день, другой – и дорога, преграждающая путь ледоходу, уйдет под воду, освобождая простор пробудившейся к жизни реке. Толстой, до рези в висках вглядывавшийся в оконце саней, неожиданно для себя понял, почему он так долго не может оторвать глаз от зыбящейся под напором весны дороги. В сознании ясно встало – это не дорога через речку Яузу, нет! Это Софьина дорога. Избитая, изломанная, с полыньями поперек хода, конской мочой залитая и навозом затолченная, та дорога, по которой веками Русь на карачках ползет, ломаными ногтями цепляясь и оставляя за собой алые маки кровавых пятен. И еще подумалось с душевной мукой – счастлив он, что выбрал иной путь.
Возок тряхнуло на ухабе, кучер взял правее, и Яузы не стало видно. Толстой отвернулся от оконца.
– Господи, – прошептал Петр Андреевич, – святые угодники, как воздать за то, что не оставили в замерзлом упрямстве! – Перекрестился и раз, и другой, и третий. И ему вспомнились итальянские солнечные дороги. Особый вкус кремнистой их пыли – пресный, щекочущий губы, но сладостный по воспоминаниям…
За изучение наук в Италии Петр Андреевич взялся так, что немало изумлял учителей въедливым умом и жаждой знаний. Бывал в библиотеках и госпиталях, в мануфактурах и академиях, изучил итальянский язык, познакомился с торговым делом и немало выказал способностей в знакомстве с искусствами, в коих итальянский народ был весьма сведущ. В Россию Толстой привез аттестаты, в которых говорилось: «…в познании ветров как на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев, парусов и веревок есть искусный и до того способный». Были и другие слова: «…в дорогу морскую пустился, гольфу переезжал, на которой через два месяца целых был неустрашенный в бурливости морской и в фале фортуны морских не убоялся, во всем с непостоянными ветрами шибко боролся». К аттестатам крепились на шнурах тяжелые печати, выполненные сколь затейливо, столь и искусно. Но Петр все же счел более полезным для России использовать Толстого не как моряка, но как дипломата.
На то нашлись причины.
По возвращении в Москву Петра Андреевича призвали к царю. По обыкновению, Петр сидел вольно на простом стуле, закинув ногу на ногу. Белые нитяные чулки царя были забрызганы грязью. Он только что вернулся во дворец с артиллерийского поля, где ему представляли отлитые московскими мастерами пушки, и лицо его румянилось от морозного ветра, как это не часто бывало. Петр слушал Толстого и покачивал носком башмака. У рта собирались морщины. За два года, которые Петр Андреевич провел в Италии, царь заметно изменился: жестче стали губы, суровее глаза, и ежели раньше в разговоре он только взглядывал на собеседника и тут же отводил глаза в сторону, то ныне он смотрел в лицо сидящему напротив подолгу, не мигая, и только зрачки то расширялись, то сужались, словно дыша. Не прерывая Петра Андреевича, царь потянулся к лежащим на столе аттестатам, взял в руки один из свитков, развернул, шурша жесткой бумагой.
Петр Андреевич прервался на полуслове.
– Говори-говори, – взглянув поверх бумаги, сказал царь. Петр Андреевич продолжил рассказ.
Царь отложил аттестат, взял трубочку, набил табаком, крепко уминая продымленным пальцем.
Секретарь Макаров поспешил к Петру с дымящимся трутом на медной тарелочке.
Царь взял уголек, не глядя, сунул в трубочку. Сильно втягивая щеки, затянулся, бросил перед лицом облачко дыма. Губы его по-прежнему морщились.
Макаров внимательно взглянул на царя: он понял – Петр задумался, и задумался крепко. Кабинет-секретарь, как никто иной, знал, что Петр не испытывал к бывшему стольнику Софьи особого доверия. Такое надо было заслужить, но то, что Толстой решительно отказался от старого и, не в пример многим московским сынам дворянским, сам выказал желание поехать за границы российские, и не только поехал, но вот и добрые знания привез, что подтверждалось лежащими на столе аттестатами, Петру понравилось. Он был человеком решительным и решительность в иных любил и поощрял.
– То зело похвально, – сказал Петр, притрагиваясь к аттестатам, – и поощрения всяческого заслуживает.
Пустил облачко дыма, сунул трубочку в рот, сжал зубами янтарный мундштук. И все смотрел и смотрел на Толстого. Петр Андреевич внутренне собрался, ожидая царева слова.
Петр, отведя ото рта трубочку, сказал:
– Знания практические в морских, горных или иных науках суть не только к употреблению в оных делах уместны, но еще более важны в понимании судеб человеческих, движении стран, яко разных людских семей: как и в чем находить им применение особенностей своих, как им в мире жить, где искать честь свою. Читать в сей книге дано немногим. Научился ли ты разбирать алфавит ее страниц?
И Толстой в другой раз удивил царя, показав такую осведомленность в европейских межгосударственных делах, что Петр отложил трубочку и впился глазами в Петра Андреевича.
– Ну-ну, – поторопил с живым интересом и даже стул к Толстому подвинул, – ну…
Петр Андреевич, почувствовав уверенность, сказал:
– Более иного ныне следует опасаться действий военных на юге. – Ему ехало легче дышать, словно воздуха в палатах царевых прибавилось, и он с определенностью закончил: – Из Стамбула вижу угрозу.
Петр сорвался с места, пробежал по палате, рассыпая искры из трубочки. Лицо царя, минуту назад спокойное и невозмутимое, переменилось. Задвигались, зашевелились короткие усы над губой, как это случалось у него в моменты волнения. Петр встал в углу, посмотрел оттуда на Толстого. Под обветренной кожей на скулах у царя обозначились темные пятна. Вернувшийся из-за границы Софьин стольник – а это Петр держал в памяти – ударил в больное место: заговорил о том, о чем он, Петр, и в близком кругу молчал, хотя и знал – молчи не молчи, а сказать придется. Но все же молчал. Испугать боялся. И так видел – напуганы нарвским поражением. И хотя были и победы – взятие мызы Эрестофер и иные успехи, – в Москве все одно головы гнули. Шептали по углам: «Ишь ты, победил… Колокола с церквей содрал на пушки, голь московскую согнал в солдаты… Левиофана снарядил, а убил-то муху… Эрестоферова мыза с ноготок всего… Было за что биться… Поглядим, как далее будет…» Разговоров было много. Вот и не хотел Петр свой голос к тому добавлять.
– Пошто так мыслишь? – спросил холодно и жестко.
Петр Андреевич, заметив перемену в царе, с минуту подумал и продолжил убежденно:
– Государь, слова мои, вижу, зело озаботили тебя, однако, ища лишь пользы России, должен сказать их, как сказать должен и другое. Россия сильная никому не нужна. Шибко – и я видел то – присматриваются к нам, россиянам, за рубежами нашими. С опаской присматриваются. У Европы сегодня много своих забот, и сильный сосед им не надобен. Османов, ежели они сами не похотят тревожить нас с юга, толкнут на то. Я мыслю – так Европе будет спокойнее.
Помолчали. Макаров перестал скрипеть пером. Понял: неуместно сей миг царю и столь малым досаждать. У Петра глаза округлились и явственно проступили налитые тяжелой кровью жилки у висков.
– Ну, – протянул он с напряжением в голосе, – остер ты умом… Остер… И зубаст. С таким надобно камень за пазухой держать, дабы зубы выбить, коли укусить захочешь… А? – повернулся всем телом к Макарову.
Секретарь над бумагой согнулся и ничем не выдал ни одобрения царевым словам, ни осуждения. Толстой же молча склонил голову.
Эта минута и решила дальнейшую судьбу Толстого. Царь увидел: знания из Европы стольник Софьин привез весьма дельные, смел, дерзок… Петр сопнул носом и вдруг вспомнил: «На крепостную стену в Азове Толстой лез со шпагой зело отчаянно».
Царь сел к столу и, как и прежде закинув ногу на ногу, сказал повеселевшим голосом:
– Зубаст, зубаст… Да мне такой и нужен. Поедешь в Стамбул. Вот там зубы и покажешь.
От неожиданности Толстой, словно ему горло перехватило, выдавил:
– Морским наукам учен, моряк я.
– А я царь, – не дал договорить Петр. – Но вот ныне за пушечных дел мастера работал, – протянул к Толстому раскрытые ладони, – видишь?
Петр Андреевич с удивлением разглядел свежие ссадины на ладонях и кистях царя.
– Инструмент был плох – оттого руки испортил, – пояснил Петр, – лафет пушечный никуда не годился. А я его поправил. Понял?
Так определилась судьба Толстого.
– Иди, – сказал Петр, – готовься и будь доволен, что России в работники нужен.
Возок завернул к воротам и остановился. Филимон степенно слез с облучка, шагнул к сбитой из тяжелых плах калитке, застучал нетерпеливо кнутовищем.
– Эй! Спите? – крикнул. – Кто там? Отчиняй ворота, барин приехал.
Ворота с режущим скрипом растворились. Через минуту возок подкатил к крыльцу. Поддерживая под локоток, Филимон высадил барина. Петр Андреевич поднялся по ступенькам отчего крыльца, взялся за мокрые, холодные перильца, глянул на небо.
Над Москвой ползли низкие, серые тучи, но у горизонта проглянула голубая полосочка, и такая яркая, ядреная, бьющая по глазам, что ясно стало: тучи тучами, но весне быть, и быть вскорости. У Петра Андреевича в груди вдруг помягчало, стало просторнее, полегче. Он ступил через порог.
На другой день, едва воронье с кремлевских башен слетело лошадиных яблочек на московских улицах поклевать или чего иного урвать, коли на то случай выпадет, Петр Андреевич объявился в Посольском приказе.
Приказ стоял под тяжкой гонтовой крышей, глубоко уходя замшелыми стенами в кремлевскую землю. Тесные окна храмины со свинцовыми прозеленевшими косыми отливами поглядывали хмуро. Трубы – толстые, не в обхват, – торчали, как стражи грозные. И на каждой трубе шапка теремом. Пугали трубы, грозили. Умели строить старые мастера – труба, торчащая на крыше, как перст предостерегающий себя выказывала. А много, ах, много дел было в Посольском приказе, и дела путаные. Тесно стояли под арочными, сводчатыми потолками в потаенных каморах, в подклетях, в подвалах шкафы с бумагами, да и не к каждому из них подходить посольским позволялось, не то что листать ветхие страницы. Дела были государевы, и тайны были государевы. Писцов и иной посольский люд держали в строгости. Баловать не давали. Чуть что не так, и батоги грозили приказному, а то и хуже – заплечных дел мастер ждал в застенке. А кнутобойцы кремлевские были ребята лихие. Иной с третьего удара душу вынимал. То было ведомо всякому. Бумаги же были в приказе древние, еще Ивана Грозного стариннейших времен, Годунова смутных лет. Вот бумага, писанная в Смутного времени дни хитромудрым думным дьяком Андреем Щелкаловым. Разгонистый, летучий почерк его сразу угадывался. Рядом листы, начертанные рукой его брата, тоже думного дьяка, немалый след на Руси оставившего, Василия Щелкалова. Борода была рыжая у Василия, крутого волоса, однако, видать, от забот многочисленных не крепок волос был, падал, и меж листов нет-нет, а встретится золотая нить. И так и видишь: коптит сальная свеча, бьется огонек, дьяк клонится над бумагой, перо скрипит и вот волосок за ним потянулся, намарал, напачкал да и лег на долгие годы. Из бумаг Посольского приказа можно было многое узнать. Петру Андреевичу царевым словом и распоряжением президента посольских дел, графа Федора Алексеевича Головина, разрешили бумаги те смотреть и прежнее все, что было между Россией и Стамбулом, ведать. Помогал ему в том великий знаток посольского дела думный дьяк Емельян Украинцев. Думный был стар, но памяти не потерял. В Стамбуле бывал и с турками мир сотворил на тридцать лет, однако ныне и он сомневался, что договора того турки будут придерживаться. Уж очень многим в Европе не хотелось, чтобы Россия вышла на Балтику. Нет, не хотелось. Там ганзейские купцы распоряжались, голландцы стремили паруса, шведы, англичане, и никому из них уступать место российским навигаторам было ни к чему. Балтику так и называли – морем Немецким.
Думный листал бумаги слабыми пальцами, щурился на плавающий огонек свечи и легких переговоров с турками Толстому не обещал. Говорил прямо: «Придется туго». Губы поджимал. Да Петр Андреевич легкого и не ждал, однако, вместе с дьяком копаясь в старых бумагах и вникая в суть их слов до самых мелочей – иначе было нельзя, – мыслил и о ином. Уезжал он в Италию из одной Москвы, а приехал в другую. В белокаменной открылись школы математических и навигацких наук, артиллерийская, инженерная и хирургическая. Введен новый календарь, начали работать книгопечатни, вышла первая русская газета «Ведомости», церковнославянский шрифт заменили светским. Попы тех книг не читали, бросали их в грязь, топтали, называя напечатанное ересью. Дворянам велено было брить бороды, ходить в кафтанах иноземных, детей учить разным наукам. И многие бороды брили. И не только дворяне, но и среди купцов можно было увидеть не того, так иного, щеголяющего босым лицом и голыми губами. Москва гудела, как колокол, в который с маху влепили многопудовую громаду языка, взявшись миром за веревку. Когда уезжал Петр Андреевич за границу, шипели только, недовольно косясь на новины, а ныне говорили в голос. Да что там говорили – кричали, вопили. Петр Андреевич видел, как на Варварке, где толчея всегда и неразбериха людская, рваный мужик, со впалыми глазами, окруженными чернотой, с прозеленевшим староверческим крестом на груди, забрался на крышу избы и орал оттуда непотребное.