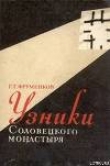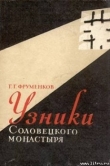Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Глава вторая

В посольском промысле есть особенность: лучше чего иного не сделать, нежели шаг ступить необдумавши. Ошибка потянет за собой другую, а там, глядишь, и беда пришла. И с Петром Андреевичем Толстым чуть было подобное не случилось… Карл-таки прибил короля Августа, хотя того и прозывали Сильным и Великолепным.
Подальше от любопытных глаз, в маленькой деревушке Альтранштадт, сей Август Сильный подписал отречение от польской короны. В секретных статьях договора говорилось, что он и как король польский, и как курфюрст саксонский разрывает союзнические отношения с Россией.
Август учинил пышную подпись и бросил перо. Помедлил мгновение, поднял глаза на короля Карла, но тот даже не удостоил его ответным взглядом. Да оно и смотреть-то было не на что. Крупная голова Августа, правда, по-прежнему гордо вздымалась на крепкой шее, и лицо, еще час назад словно резанное великим мастером Твошем из его, Августа, королевского Кракова, не представляло ничего значительного, а было неким жалким месивом. В прозрачных глазах Карла светило откровенное презрение. Коротким движением швед придвинул листы договора и, брызгая чернилами, единым росчерком подмахнул: «Карл». Как шпагу воткнул в соломенного болвана. Да, для него Август – король-шалун, король-баловень – и был соломенным болваном. И именно в эту минуту Август с отчаянием и болью почувствовал огромность своей потери. Однако, будучи натурой мелочной, он тут же попытался найти хотя бы малую лазейку для удовлетворения своего тщеславия. Не сводя глаз с узкогубого, серого лица шведа, Август с едкой иронией подумал: «Он, наверное, чудовищно нелеп и смешон в будуаре любимой им дамы, ежели таковая и есть у него». И улыбнулся. Он-то сам в будуаре был великолепен, и это было все, что оставалось у него за душой.
Карл, так и не взглянув на Августа, с грохотом отодвинул смазным ботфортом стул и поднялся из-за стола. Над местной кирхой тоскливо брякнула медь колокола, и это была самая подходящая музыка для завершения свершившегося акта.
Через минуты от замка Альтранштадта отъехали две кареты. Примечательно: за обеими каретами поспешили верхоконные и дождь враз намочил до неразличимости их мундиры, кожаные возки карет одинаково заблестели под хлещущими струями. Однако при всей похожести этих первых, бросавшихся в глаза примет была разница в том, как сидели в седлах всадники, сопровождавшие кареты, вскидывали вожжи ездовые, шли кони. Все потому, наверное, что одна карета везла победителя и короля, другая – побежденного и бывшего короля.
Над тощими, желтевшими бесплодным песком полями сгущались сумерки.
В Польше был провозглашен королем ставленник Карла, выученик ордена иезуитов и ненавистник России – Станислав Лещинский. Медлительный, в движениях, высокий, сухой, он занял королевский дворец в Варшаве и окружил себя шведами. В переулках Старого Мяста застучали крепкие каблуки здоровенных, розоволиких, уверенных в себе драгун короля Карла, и золоченый крест святого Яна, казалось, поблек от бесцеремонности, с которой чужие городу люди звенели шпорами у святой для каждого поляка гробницы князей Мазовецких.
Руки Карла в Польше отныне были развязаны, и он устремил взгляд на восток Но не только это обостряло положение на западных гранях России. Август, едва сойдя с кареты, привезшей его из Альтранштадта, ввязал в кашу на западных пределах российских прусский, датский, английский и голландский королевские дворы. Заваривалась большая свара, и в это время царю Петру стали известны тайные статьи Альтранштадтского договора о разрыве союзнических обязательств Августа с Россией.
Петр узнал об этом, сидя в избе у Меншикова, в недавно основанном на берегу Невы Петербурге. В избе, из меншиковского хвастовства величаемой дворцом, еще сочились смолой стены, крепко пахло непросохшим лесом, но зато весело горел камин, облицованный на голландский манер кирпичом. Петр, держа в одной руке поданную ему бумагу, другой взял щипцы от этого самого камина. И вдруг, выкрикнув с яростью: «Пес, пес поганый!», с силой влепил щипцами в камин. От пылающих поленьев брызнули угли, посыпались на пол. Меншиков бросился их подбирать. А когда разобрался, от чего гнев царский, сказал, успокаивая Петра:
– Господин бомбардир, брось, не горячись… Ну что Август… Бабник, сластена… – и все хватал, хватал пылающие угли голыми руками, швырял в камин. – Я всегда говорил: не царское это занятие – бабы. – Закинул последний уголек, выпрямился, отряхнул руки. – Ну что от такого было ждать?
И засмеялся.
А смеяться было вовсе ни к чему. Да Александр Данилович отлично это понимал. Дело было куда как худо. Смеялся он для того, дабы Петра утихомирить.
– Двести тысяч Августу ежегодно отваливали, – сказал Петр, – дабы он Карла за хвост держал. Двести! И куда он такую кучу девал, коли дела-то не было?
– Ну, так теперь они дома останутся, – усмехнулся Меншиков, – может, оно и к лучшему.
Сверкнул синими, веселыми глазами.
Но лучше не сталось. Верные люди из Варшавы донесли, что Станислав Лещинский явно сносится с Крымом и опять можно ждать «гостей» с юга.
Президент посольских дел Федор Алексеевич Головин отписал в Стамбул Петру Андреевичу Толстому, дабы тот был недремен. От посла потребовали новые сведения о состоянии Османского государства и его армии. Петр Андреевич поспешил с ответами Москве, и вот тут-то случилось неожиданное.
Толстой давно жил в Стамбуле, последовав за султанским двором, переехавшим из Адрианополя в древний город над морем. За это время разное случалось в посольской жизни, но одно оставалось неизменным: посольское подворье, как и в первый день в Адрианополе, было взято султанскими янычарами в крепкую осаду. Бывали дни послаблений, и тогда россиянам в Стамбуле дышать становилось полегче, но такое выпадало редко. Однако в том Петр Андреевич стал обвыкаться, хотя и писал Головину: «В великой тесноте живу, от которой, государь, терпим болезни великие… На двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже отовсюду видимо и чюрбачей у меня стоит с янычары, бутто для чести. И все для того, чтобы христиане ко мне не ходили».
Были, однако, за это время и радостные минуты для Петра Андреевича. Получил он из Москвы известие, что у него родился сын, названный Иваном, и растет крепким и зело разумным. Извещен был Петр Андреевич и о том, что брат его Иван вступил в царскую службу, послан воеводой в Азов. И это обрадовало Петра Андреевича не меньше вести о рождении сына. В тот же час он был в церкви и вознес горячую молитву за то, что в божественном промысле всевышний не забывает его, Петра Андреевича, семью и наставляет в выборе пути.
Дрожащей от волнения рукой Петр Андреевич возжег свечу и, ощущая горячий воск под пальцами, прилепил к святому образу. Но этим радостное, пожалуй, и заканчивалось. Остальное было работой, и работой тяжкой.
Изменения, произошедшие на западных рубежах российских, Петр Андреевич почувствовал тут же, как тому случиться пришлось. Вот и далеко сидел, но гром грянул, и раскаты его и в Стамбуле Толстой услышал. Правда, вначале об том Петр Андреевич разговором пустяшным пользовался, но в его службе всякий разговор смысл имел. Слова, случайно услышанные, Толстой на ус намотал, ну да вскоре они и явно подтвердились. В Стамбуле объявились люди из Варшавы и зашевелились крымцы. Толстой тех поляков зрел: бобровые шапки; богатые, еще дедовских времен перевязи; сабли, украшенные самоцветами. Лица надменные. Ну да Петр Андреевич видел – это порох, от которого больше дыма, чем силы. И все же за поляками и крымцами следил внимательно и оплошки в том не дал никакой. Ошибся он в другом.
Еще в первый год сидения в Адрианополе написал он для Москвы бумагу, в титле которой значилось: «Состояние народа турецкого». В бумаге сей с подробностями, которые говорили об остроте глаза, Петр Андреевич указывал, что в земле османской «утесняется правосудие мздой», «султан держит себя во обыкновенном поведении гордостно. и поступки ево происходят в церемониях по древним их законоположениям, а прилежание и охоту большую ни к воинским, ни же к духовным делам, ни же по управлениям домовым не имеет». Сообщал Толстой и о тогдашнем визире, что «человек он мало смышлен, а к войне охочь да не разсудителен». Большая же часть бумаги отдана была рассмотрению казны и войска османского. «Начальные люди, – писал Толстой, – морского их флота аще суть и босурманы, но не природные турки, все христоотречники, французы, италианцы, англичане, галанцы и иных стран жители, и суть в науке искусны, от них обучаются и самые турки». «Корабли турецкие суть крепки, яко и французские, сшиваны великими железными гвоздями».
Бумага давала полное представление об армии и флоте. Когда же Федор Алексеевич Головин попросил Толстого прислать новые сведения, посол решил перебелить черновик бумаги и после того дополнить ее всем тем, что удалось узнать в последнее время.
Перебелить бумагу он поручил подьячему Тимофею. Позвал его и сказал:
– Поспеши.
Тимофей протянул руку к бумагам на посольском столе, и Петр Андреевич отметил: пальцы подьячего пляшут. Толстой с неудовольствием взглянул ему в лицо, полагая, что сие дрожание рук происходит от чрезмерного употребления отнюдь не сладких шербетов, коими Стамбул, как никакой иной город, был богат. Выразительный цвет носа подьячего мысль эту подтвердил.
– Кхм-кхм, – кашлянул Петр Андреевич, сам весьма воздержанный в этой слабости человеческой. – Ты вот что, – сказал, словно откусывая каждое слово без удовольствия, – голову холодной водой чаще пользуй. Холодной.
Тимофей поспешил из палаты. И то, как он шел к дверям, Петру Андреевичу тоже не понравилось: шаг у подьячего мелок был, спотыклив. Так ходят, когда на земле не очень-то устойчиво чувствуют.
Человек, который на ногах стоит крепко, шагает вольно, у него каблук под пяткой не пляшет.
Дверь за подьячим притворилась. Петр Андреевич уперся глазами в стол. Тронул пальцами висок, и в лице у него явилась неопределенность. Пальцы на виске, чуть касаясь кожи, поглаживали ее, но видно было, что мозг Петра Андреевича не участвовал в этом движении, а был занят вовсе иным.
За подьячим худого вроде бы не замечали. Напротив, за короткое время он выучился говорить по-местному и был весьма полезен в разговорах, коли под рукой недоставало толмача. Но это, пожалуй, только и припомнилось Петру Андреевичу, а дальше мысль не пошла. Весь облик Тимофея расплывался в сознании, не образуя ничего явного, что смогло бы выявить его до конца. И Петр Андреевич вдруг подумал, что за годы, которые они были вместе, ему все недосуг было приглядеться к подьячему, все мешали дела, и он о том в сей миг пожалел и сказал: «Негоже, сие надо исправить».
Петр Андреевич взял перо и обмакнул в чернила. Дело торопило. Больше в этот раз о подьячем он не думал. Данное ему поручение – перебелить бумагу – было обыденностью, и ничего плохого от того Толстой не ждал. А зря.
…Французский посол Ферриоль восхищался парившим над плоскими желтыми крышами Стамбула куполом Айя-Софии.
– Это Византия, – говорил посол, – роскошная, великолепная Византия. – В галльских глазах Ферриоля горел почти неподдельный восторг. – В очертаниях купола вся ее история. Здесь византийская роскошь и византийский размах, но в этом есть и ущербность. – Посол искоса взглянул на Петра Андреевича.
Тот слушал, поджав губы, и глядел на рыжую плешивую собаку, переходившую тесную улицу. В Стамбуле, даже до удивления, было множество бродячих собак, по-особому облезлых и страховидных. Бродили они стаями, не боясь людей, но, напротив, наводя на многих страх. Французский посол, впрочем, на паскудную псину внимания не обратил.
– Да, – воскликнул он, – именно ущербность! Святая София только утверждает себя. В этом куполе мощь и сила, но нет движения.
«К чему эти рассуждения, – подумал Петр Андреевич, – зачем столько слов?»
– Взгляните на мечеть Сулеймана, – Ферриоль выкинул вперед длинный сухой палец, – это всплеск, целеустремленность ислама.
Петр Андреевич перевел взгляд на торчавший в небе обглоданной рыбьей костью минарет и в другой раз подумал: «К чему он клонит, что за словами?»
Беленые стены домов были ослепительны под солнцем, и Петр Андреевич поднял руку, заслоняя глаза от раздражающего света.
Но это была только хитрость. Свет ему не мешал. Толстой хотел подумать, а ему не нравилось, что Ферриоль уж очень внимательно вглядывается в его лицо.
В Европе пылала война за испанское наследство. Франции противостояли Англия и Голландия, австрийский габсбургский императорский двор. И усилия французского посла в Стамбуле были направлены на то, чтобы толкнуть Османскую державу на войну с Австрией и тем отвлечь австрийцев от европейских дел. Для успеха в этом можно было, конечно, порассуждать не только о достоинствах мечетей Стамбула. Здесь у Петра Андреевича была полная ясность, и он даже сочувствовал Ферриолю. Толстому было известно, что француз, стремясь разжечь войну между австрийцами и турками, не только слова тратил, но и швырял деньгами. Говорили, что Ферриоль роздал приближенным султана свыше ста тысяч реалов, но так и не подвинулся вперед. «Печь-то в избе, – подумал Петр Андреевич, – и то с умом растапливать надо. Можно под самый свод дров насовать, спалить разом, но от того тепла в избе мало прибудет. А можно по полешку, по полешку на угольки подкладывать. Глядишь – дров меньше уйдет, печь протопится и изба прогреется». Кашлянул – «кхе-кхе».
Ферриоль взглянул на него и замолчал. Больше о святых храмах разговора у них не было. Француз заговорил об османских чиновниках: жадны-де непомерно, изворотливы и понять их европейцу невозможно. Петр Андреевич на это ответил неопределенным:
– Да-а-а…
И руками развел. Жест его можно было понимать только так: а где, мол, они, чиновники те, хороши? Во Франции? В Италии? В России?
Петр Андреевич даже слегка хохотнул, пофыркивая:
– Хе-хе-хе…
На том пустяковый этот разговор и закончился. Однако смысл в нем был, ибо, расставаясь с российским послом, француз заметил, что видел на визирском дворе подьячего Тимофея. Мысль Петра Андреевича, как замок капкана, всегда готовая ухватить памятью нужное, слова эти удержала. Рассудил же он их так: Ферриоль ищет новых подходов к визирю для разрешения своих дел и, считая, что у российского посла – коли его работники свободно на двор визирский ходят – такие подходы есть, просит его, Толстого, помощи.
Задуматься над этим смысл был.
Француз хлопотал, дабы ослабить Австрию. Помыслы Толстого были устремлены на отвращение ятаганов янычар от России. Но в этих задачах было общее – война османов с австрийцами устраивала и Ферриоля, и российского посла. Вступив в войну, Стамбулу стало бы не по силам воевать российские пределы, а Вене – претендовать на испанское наследство.
Толстой, расхаживая по своей палате, сложность эту понял, но была закавыка, о которой француз, по всей видимости, не догадывался. Петр Андреевич подьячего Тимофея на двор визиря не посылал. Но он-то там был. А зачем?
Толстой сел к столу, уперся локтями в столешницу и положил подбородок на туго сплетенные пальцы. Лицо застыло в задумчивости. И стало вдруг видно, как оно изменилось за время, проведенное в Стамбуле. Прежде всего черты его стали острее, явственнее, ушла некая расплывчатость, округлость, и сейчас они являли определенность характера, в той мере, в какой лицо человека может выражать его сущность. Лицо Петра Андреевича не было одним из тех лиц, которые сразу же выдают силу, волю, властность, способность человека к решительным и смелым поступкам. Нет. С первого взгляда лицо Толстого казалось простоватым и ничем не выдающимся, но чем больше вы вглядывались в него, тем явственнее и даже с удивлением открывали, что лоб Петра Андреевича был высок, выказывая незаурядный ум; брови, углом поднимавшиеся к вискам, густы и мощны, что говорило о силе характера и воле; губы, сложенные твердо, свидетельствовали о способности Петра Андреевича противостоять слабостям человеческим, которые, как ржа железо, разъедают порой натуры небесталанные и крупные. Вместе с тем черты лица, охваченные единым взглядом, создавали неожиданное впечатление некоей иронической фигуры, а неопределенного цвета глаза – можно было приметить – разглядывали мир с едкой насмешкой. Но такое увидеть было дано не каждому, так как Петр Андреевич умел, и с годами искусство это совершенствовалось, придать лицу постоянное выражение добродушия и снисходительности, дабы не рядили, не судили, умен ли, глуп ли, а легко протягивали навстречу руку, ожидая такого же легкого, приветливого ответа. Но сейчас он был в палате один, это знал, да и известие о Тимофее было столь неожиданным, что лицо выдало потаенное, скрытое от посторонних, ненужных взглядов.
Петр Андреевич позвал Филимона и сказал, чтобы тот глаз с подьячего не спускал.
– И особливо, – сказал, – коли Тимофей с подворья пойдет. На базар или куда еще.
Тогда же Петр Андреевич встретился с Саввой Лукичом. Савва Лукич собирался в Москву.
– Все, – говорил, – пожил я среди басурман. Хочу так последние дни жизни своей устроить, дабы постоянно зреть лики христианские и в христианской земле перед престолом всевышнего предстать.

Решение его было окончательно. Но когда Толстой рассказал о сомнениях относительно подьячего Тимофея, Савва Лукич, сильно тому изумившись, отъезд отложил. Понял, какая опасность грозит российскому посольству. Всегда спокойный и уравновешенный, он разволновался так, что чашка с кофе заплясала у него в пальцах, расплескивая густой, темный напиток.
Он торопливо, так, что звякнуло блюдечко, опустил чашку и перекрестился.
– Господи, – взмолился, – вот не чаял, что придется видеть, когда россиянин христопродавцем станет. Господи…
– Постой, – остановил Толстой, – может, до того не дошло?
– Нет, – сказал Савва Лукич, – здесь так не бывает. В гарем султана только евнух войти может, и на двор визиря по-пустому никого не пустят. Это предательство.
Так слово страшное было произнесено, а, ударив по слуху, оно загремело, многократно повторяясь в сознании Петра Андреевича, как ежели бы его отбрасывало и отбрасывало назад эхо: «Предательство, предательство, предательство!»
Из дверей кофейни, где Толстой сидел с Саввой Лукичом, раскрывался широкий вид на море. Древний Босфор играл бесчисленными бликами ленивых, медленно катящихся к берегу волн. Они вспыхивали, как искры невесть кем разожженного прекрасного костра. Это была чудесная восточная сказка, расказываемая под тихий шелест ложащихся на горячую гальку волн, под убаюкивающие стоны чаек… И вдруг Петру Андреевичу вспомнилось: он стоит на крыльце Преображенского дворца, пронзительно бьет барабан и по снегу двора маршируют солдаты с синими от злого ветра лицами. Бух, бух, бух! – стучат каблуки в стылую жижу, и кричит, надрываясь, офицер. «Их-то за что он предал, – подумал, отводя взгляд от сверкающего под солнцем моря, Петр Андреевич, – солдат-то этих? У них-то доля тяжкая, куда уж там». Толстой положил руку на лоб и до боли пальцами сжал виски. Савва Лукич молчал.
Наконец Петр Андреевич отнял руку от лица и сказал глухо:
– Все вызнать надо доподлинно.
Тайное скрытым остается лишь до тех пор, пока вызнать о том не захотят. А особливо для такого человека, как Петр Андреевич. Отец Толстого – жесткий и властный – детям говорил сызмалу: «Ты хотя бы и дырку в стене пальцем верти, но без дела не сиди». В том был тверд и добился своего – Петр Андреевич минуту попусту не тратил. Подьячему Тимофею тягаться с Петром Андреевичем было трудно. А в деле таком, когда державе угроза была, Толстой, ни время, ни сил не пожалев, и из песка бы веревку свил. Петр Андреевич в те дни всех озадачил: и Савву Лукича, и Спилиота, и Луку Барка. И каждому указал: где и как измену подьячего искать. Да и знал он, что работники его за христианскую веру, за державу Российскую, на которую молились, как на святыню, связывая с ней все надежды и помыслы, не то что Стамбул, но и дно гавани Халич перероют. Когда Толстой о подьячем со Спилиотом говорил, у того лицо дрожало, а у Луки Барка глаза налились нехорошим светом.
Но как ни надеялся Петр Андреевич на своих работников, сам все же поехал к визирю. Знал: многого тот не скажет, однако для Толстого сейчас не только слова были важны, но и то, как их произнесут. Отъезжая с посольского подворья, он подтвердил Филимону:
– За Тимофеем гляди в оба.
Подьячий гнулся в каморе над бумагами. Филимон вошел, глянул. Перо в руках подьячего скрипело, буквицы из-под него объявлялись медленно, словно обиженные и за себя, что из-под такого скрипливого пера на бумагу ложатся, да и за писца, который, чувствовалось, занятие это – по бумаге пером водить, ежели бы не приказ строгий, вмиг оставил и приспособился к чему-либо иному, более приятному. Глядя на грустно и тяжко виснувший над бумагой синий нос подьячего, Филимон подумал: «И куда с такой рожей в басурмане? Они-то, басурмане, напитка этого злого не употребляют». Однако тут же вспомнил, как чюрбачей дузик греческий жрал, а ведь веру имел басурманскую. «Нет, – решил, – видать, это зелье поганое у всех народов негодных людишек забивает, к земле гнет».
Тимофей, оставив перо, взглянул на Филимона. И тот отметил, что лицо у подьячего еще молодое и гладкое. «Знать, сила есть, – решил, – и как эта порча в нем завелась, что он перекинуться на басурманскую сторону решил? Или червоточина такая с младых ногтей в людях объявляется?»
О том же размышлял и Петр Андреевич Толстой, разговаривая с визирем.
Визирь встретил его ласково, но ласкания эти не понравились Петру Андреевичу больше, чем сухость и неприязнь, которые постоянно выказывал к нему визирь. И Толстой, сидя на подогнутых ногах – выучился по-здешнему, а то все ноги-то затекали, ныли, никак подгибаться не хотели, – заговорил резко и, надо думать, о больном для визиря. Сказал прямо, что в Стамбуле люди из Варшавы объявились от Станислава Лещинского, а тот-де России враг и он – посол российский – должен заявить визирю, что негоже, коли Россия и Османская империя в дружбе между собой, османской стороне принимать врага иной стороны.
Визирь отвечал длинно и путано, что Стамбул город большой, стоит на торговых путях и здесь бывать никому не возбраняется.
– Вон, – показал гостю на гавань, – сколько флагов к нам приходит, и то процветанию торговли споспешествует и благу людей наших.
Над судами в гавани и впрямь ветер полоскал английские, голландские и многие иные флаги.
– У купцов наших в судах нехватка, хотя суда турецкие, слава аллаху, крепки, яко и французские, и сшиваны великими железными гвоздями.
У Толстого, услышавшего эти слова, горло спазмой сжало, и он едва удержал возглас удивления. Это были слова из его, посла российского, бумаги «О состоянии народа турецкого», которую он поручил перебелить подьячему Тимофею. Большего подтверждения измены Тимофея не требовалось. Визирь, того не желая, выдал его с головой. А через два дня Спилиот отыскал и мечеть, в которой должны были совершить тайный обряд посвящения в мусульманскую веру подьячего. Нашел он и муллу, который обряд этот обязался совершить. Все концы связались в тугой узел, и разрубить его предстояло послу российскому – Петру Андреевичу Толстому.
…Петр Андреевич знал, сколь много известно подьячему Тимофею о посольских делах и какую опасность несут те его знания для державы Российской. Бумаг через руки подьячего проходило много, и ему ведомы были и имена добровольных работников Петра Андреевича, и связи среди приближенных султана, и намерения посла. Сказать надо было с определенностью: подьячий Тимофей изменой беду принесет, и беду большую. Петр Андреевич, как чайка, голову под крыло лрятать не стал. Сказал без лукавства: опасен сей человек державе Российской, зело опасен. И первое, что решил, – тайно вывезти подьячего из Стамбула и переправить в Россию. Однако Савва Лукич возразил:
– Нет, сие невмочно. Турки увезти подьячего не дадут. Спилиот слова эти подтвердил. И Лука Барка сказал:
– Да, это так.
– Деньги и камни дробят, – настаивал Петр Андреевич, – особливо здесь. Восточный народ на сладкое падок.
– Верно, – ответил Савва Лукич, – однако подьячего тайно не вывезти. За российским посольством смотрят крепко, и янычары злы.
– Но ты попробуй, – упорствовал Петр Андреевич, – попробуй.
– Что ж, – ответил Савва Лукич, поглядев на Спилиота и Луку Барка, – попробуем…
Петр Андреевич теребил ворот камзола. Душно ему стало, и Савва Лукич понял, отчего вдруг воздуха послу не хватило. Опустил глаза, повторил:
– Попробуем.
– Тайно, в карете, – сказал Толстой, – вывезти с посольского подворья, купцам передать, а там хотя бы и в Венецию. Оттуда уже легче до России добраться.
– Хорошо бы и так, – взялся за бороду Савва Лукич, – только думаю, что такого не получится. Вот вам и чюрбачея нового к посольству приставили, и янычар сменили. То неслучайно. Тимофей им нужен, и визирь, думаю, обеспокоился. Но все же попробуем.
Савва Лукич оказался прав. Вывезти подьячего никто не решился. С купцами говорили, большие деньги сулили, но купцы качали головами и твердили одно:
– У султана Семибашенный замок крепок, подвалы в нем глубоки. Люди в них гниют заживо. Ай-яй-яй… Золото это хорошо, но…
Разводили руками. В подвалы султанской тюрьмы никому не хотелось. Напуганы были сильно. Знать, о том кто-то побеспокоился.
– На кол, – говорили купцы, – и не за такое султан сажает, – и округляли испуганно глаза.
Казалось, и Тимофей почувствовал, что его измена открылась, а может, ему о том шепнул чюрбачей или кто из янычар. Подьячий забеспокоился, и не было дня, когда не попросился в город. То одно ему надобно было, то другое, но Филимон все подносил и подносил для перебеливания бумаги. Принесет бумагу, положит на стол, выйдет за дверь и, остановившись, прислушается: как там подьячий? И слышно было, что тот не столько за столом сидел, сколько расхаживал по палате. Половицы под сапогами Тимофея стонали. Пробежит подьячий через палату и остановится у окна, шаги смолкнут, но вот опять запоют половицы, и вновь молчок. На вопросы Петра Андреевича Филимон отвечал так:
– Не сидится Тимофею на месте. Бегает, бегает по палате, и шаг у него боязливый, что у мыши. Только – шасть, шасть из стороны в сторону. Войдешь – в лицо не смотрит.
– Ступай, – отвечал на то Петр Андреевич и все тяжелее гнулся над столом.
Посольское подворье замерло в ожидании – что дальше?
Свои и ступать-то громко опасались, а говорили полушепотом, да и по нужде только. А так все больше молчком обходились. Чюрбачей насторожился. Торчал посреди подворья с утра до вечера и носом по сторонам водил, кривым, изломанным не то в драке, не то в сече какой.
Филимон о нем говорил:
– Гляди, как петух выглядывает. И перо-то в чалме торчит, словно гребень. Ну-ну…
Петр Андреевич сидел в своей палате и будто ждал чего или на что-то еще надеялся. Но всем на подворье было ясно – надеяться ему не на что.
Ввечеру скрипнула дверь посольской палаты. Филимон услышал, как Петр Андреевич пробормотал неразборчивое под нос, нужно думать вспомнив черта. В доме шага нельзя было ступить, дабы что-то не откликнулось на это движение. Стар, не обихожен, запущен был дом. Затрещали перила. Толстой спускался по лестнице. В другой раз скрипнула дверь, и Филимон догадался, что Петр Андреевич зашел в палату к посольскому священнику.
Вновь стихло.
Толстой, войдя к священнику, застал того у иконы. Слабый огонек лампады освещал согбенную черную фигуру молящегося, лаково отсвечивающую доску иконы. Святой лик был неразличим, икона, видать, была стара. Петр Андреевич молча ждал, пока отец Пимен окончит молитву.
Наконец тот поклонился, коснувшись лбом пола, поднялся с колен. Шагнул к столу, долго высекал искру, но справился и с этим, зажег от затеплившегося трута бумажку, засветил свечу.
Молча сели.
Свеча потрескивала, разгоралась не вдруг. Пламя качнулось в одну сторону, в другую, через край лунки, в которой плавал фитилек, перекатилась восковая слеза, и огонек поднялся повыше, осветил сидящих за столом. Стало видно, что говорить им трудно.
Отец Пимен прибыл в Стамбул недавно. Был он молод, и лицо его еще не тронули морщины. Белесым отсвечивали выцветшие под солнцем рязанские брови, и сквозила легкая, незаматеревшая бороденка, однако губы были сложены сурово, лоб нахмурен. Нет, трудно было ему прервать молчание. И все же, теребя трепетными пальцами крест на груди и не поднимая глаз на Толстого, он сказал:
– Един бог дарует жизнь человеку, и бог единый может ее отнять.
Толстой на те слова тяжело задышал и, только уняв волнение, сказал:
– А христопродавство? А измена?
Глаза Петра Андреевича уставились в упор на отца Пимена. Тот по-прежнему на гостя не смотрел. Рука попа все крепче и крепче цеплялась за крест и, наконец схватив его всеми пальцами, припала к груди, как ежели бы в этом обретя защиту. Едва различимо он ответил:
– Не судья тебе слабый, сирый священник… Не судья… Одно скажу – на тебе царское повеление державу Российскую оберегать, и богу дано тебя рассудить. Богу!
Толстой смотрел на пламя свечи, и зрачки его то расширялись, заливая чернотой весь глаз, то сужались до остро колющей точки. Слабый огонек колебался, и тени скользили по стенам, представляя причудливый и странный мир ни на что не похожих, мгновенно меняющихся фигур, в движении которых невозможно было уловить последовательность, и оттого двое у стола в своей неподвижности являли еще большую определенность и устойчивость. Так сидели они долго, и отец Пимен, теперь не пряча глаз, смотрел на Толстого, и понимая, и скорбя, и содрогаясь душой за муку, которую этот человек должен был принять на себя. И, наконец, не выдержал, всхлипнул, слеза поползла по его щеке. Толстой, услышав всхлип, вздрогнул и, будто очнувшись ото сна, резко поднялся, шагнул к дверям. Услышал за спиной:
– Господи, помилосердствуй, наставь его, прости и укрепи…
Петр Андреевич, не дослушав сдавленный шепот отца Пимена, шагнул через порог.
Филимон вновь услышал, как заскрипели половицы. Петр Андреевич ступал тяжело, и был он в эту минуту и походкой, и лицом, да и всей повадкой до удивления похож на князя-кесаря Ромодановского или на дьяка Украинцева, что наставлял его перед поездкой в Стамбул. Да, сходство это удивительное сказывалось не столько во внешних чертах, сколько в неотвратимости движения грузной фигуры, ощущаемой в ней силе. Вот в этом-то единое было точно, и объявилось оно не случайно, не вдруг, но день за днем и год за годом, так как и день за днем, и год за годом и князь-кесарь Ромодановский, и покойный к тому времени дьяк Украинцев, и посол российский в Стамбуле Петр Андреевич Толстой были связаны и невидимыми нитями, и явными делами, направленными на одно, все на одно – на шпагу взять или добыть иным путем успех и славу державе своей. А время было тяжкое, и на каждого из них оно накладывало печать этой похожести, которая определяла суровость трудного пути утверждения самостоятельности и достоинства народа российского.