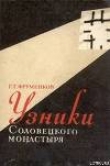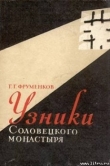Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
– Неаполитанцы – самый веселый народ в мире. То, вероятно, праздничный карнавал.
Сейчас же до них донеслись пение, радостные голоса. Кони сбавили шаг. Карету окружила толпа. Девушки в ярких нарядах, парни в широких шляпах, с гитарами, люди в плащах, с пылающими факелами. Все пели, плясали, шутили.
Алексей живо повернулся к Ефросиньюшке и, перекрывая шум и голоса, крикнул:
– Вот как кстати!
Громко засмеялся, но вдруг лицо его исказилось страхом. Упираясь руками в колени Ефросиньюшки, он сунулся вперед, затем отпрянул в угол кареты и даже не крикнул, а прохрипел, словно его схватили за горло:
– Назад! Назад! Домой!
Кейль с удивлением оборотился к нему.
– Назад, домой! – хрипел царевич.
В праздничной толпе Алексей отчетливо разглядел лицо офицера Румянцева. Офицер взглянул ему в глаза и исчез в толпе.
Меншиков покрутил носом, сказал:
– Вонища невпродых.
Толкнул дубовую, в полтора человеческих роста калитку. Навстречу ему, хрипя и задыхаясь в лае, бросилось через двор с полдюжины здоровенных кобелей. Черные, лохматые, из пастей языки вываливаются.
Светлейший глянул и шарахнулся назад, спиной чуть не сбив с ног идущего следом офицера. Захлопнул калитку. Кобели, навалившись на ворота, скребли когтями.
– Ну и зверье, – смущенно сказал Меншиков, – тигры алчущие…
За воротами послышался голос:
– Цыцте, проклятые!
Калитка приотворилась, и в щель вылезла борода. Мужик ругнуть хотел незваных гостей, но застыл. Да и любой глаза бы растопырил. Пугнуть-то собирался словами нелестными, а перед воротами фигура: через плечо лента голубая, на ленте звезда в бриллиантах, парик до пупа.
Меншиков покрасовался перед заробевшим насмерть мужиком, шагнул в калитку, сказал все же смущенно:
– Ты коблов-то попридержи. Где хозяин?
И без испугу пошел через двор. Офицер, поспешающий следом, за шпагу взялся. Кобели и впрямь были как звери. Того и гляди, задавят. Но кобели присмирели. Уж больно нагло пер через двор светлейший.
С крыльца навстречу князю кинулся детина с версту ростом, живот не в обхват. Бежал, однако, бойко.
– Александр Данилыч! Как же так, без предупреждений? Мы бы встретили!
– Встретили, встретили, – сказал Меншиков ворчливо, – коблы твои встретили…
Детина рыкнул на собак. Подхватил князя под руку. В глаза заглянул ласково.
Хозяин – купчина из новых. Миллионами ворочал. Царем обласкан. Умен – сквозь землю видел, но пройдоха был редкий и сейчас вот взял подряд на кожи для кораблей, строящихся на петербургской верфи, а с товаром тянул. Меншиков приехал взглянуть: что и как с кожами?
– Вот здесь, здесь ступай, Александр Данилыч, – заискивал купчина, – у нас и испачкаться недолго, а то и платье изорвать.
– Ты вот меня собаками едва не затравил, – начал Меншиков, усаживаясь в кресло, – а я к тебе с подарком дорогим. С кожами-то затянул?
– Э-э… Нет, князь, три дня сроку мне еще, а за три дня мы многое успеем.
– Успеете, успеете. Кожи в Питербурх доставить надо. А грязища по дороге?..
– Какая, князь? Солнце палит… Грязь высохнет…
И все крутился, крутился вокруг, по плечику гладил, а сам уже шепнул кому надо, и на стол потащили жареное и пареное. Но Меншиков сказал:
– Ты это, – ткнул пальцем в блюда, – оставь. Не до того.
– Александр Данилыч! – взмолился купец. – Хлеб-соли отведать – святое дело…
– Нет, – сказал Меншиков, как отрезал, – водки чарку выпью, и все. Я с делом к тебе.
Купец – жох, сразу же замолчал.
Меншиков, приехав в Москву, понял: одной таской за волосы многого не сделаешь. Купчишки поприжались: Петра Алексеевича скоро год как в России нет и нездоров, говорят. К тому же наследник в бегах… А просто так, сдуру, царские дети не бегают. Случись что с Петром, сынок-то, наверно, защитников себе нашел бы в землях дальних, а ежели придет, как дело повернет – неведомо. Ты капитал вбухаешь в петербургское ли строительство, в верфи ли корабельные, в суконное или кожевенное дело, а он и скажет: а кораблики те зачем? Сукнишко-то солдатам на мундиры, а новый правитель и армию разогнать может. Говорят, он более по церквам да монастырям ходок, чем по полям ратным. Задумаешься. Нехорошие слухи шли. А Москва слухи любит и прислушивается к ним. Битый здесь был народ. Всякое видел.
Меншиков и решил: нет, за волосы таскать не годится. Только напугаешь больше. Известно давно: правители лютуют, когда конец близок. Обласкать людей надо. Веры будет больше.
– Кильсей Степанович, – поднялся с кресла светлейший с улыбкой, – царь прислал тебе презент. Наградить решил за старание твое на строительстве корабельном, столь для державы важном.
За отворот мундира руку сунул князь и бухнул на стол мешочек кожаный.
– Сто червонцев от себя Петр Алексеевич тебе пожаловал.
Купчина от неожиданности назад отступил, сел на лавку.
Знал светлейший: сто червонцев для купца не деньги, – но знал и другое: царские рубли необычным счетом меряются. Им цена в тысячу крат дороже. Купец те червонцы скобой стальной крепости к вывеске своей приколотит, так как почет важен, а почет золотом не купишь.
И еще ведал князь: Москва весть о тех царем дарованных рублях по всем дворам пронесет, как на вороных. И многие в затылках почешут: «О царе, знать, болтают невесть что… Из-за границы, из черт-те каких земель французских, купчине презент прислал… Нет, не слаб он. Далеко смотрит… Слабого да хворого свои болячки беспокоят, и о завтрашнем дне он не думает…» И не одному захочется царю послужить и презент заработать. В душах человеческих князь разбирался. Жизнь помяла его, научила.
Купец с лавки сорвался.
– Да мы, да я… Схватил со стола четверть.
– Э-э-э… Нет, – придержал его Меншиков, – как сказано, чарку только и выпью. Дела, брат, дела.
Чарку князь выпил, а уходя, уже на крыльце погрозил пальцем:
– А кожи-то в срок чтобы в Питербурхе были.
Купец пополам согнулся:
– Что ты, что ты, Александр Данилыч! Да мы в лепешку расшибемся…
– То-то, – сказал Меншиков.
Кобелей во дворе не было. Увели куда-то, дабы князя не смущать.
Меншиков по двору прошел как петух, бриллиантовой звездой сияя. Говорят, ежели наголодается да нахолодается человек во младости, а позже судьба звездой его наделит, то он всенепременно на шею ее нацепит и не снимет, пока не натешится. А уж у светлейшего младые годы были самые что ни на есть лютые.
Федор Черемной в Суздаль притопал. В лаптешки сенца подстелил помягче и по холодку где лесочком, где овражком дошел.
Светало. Солнце еще не показалось, но за полем, за ельником темным купола суздальских церквей проглянули. И кресты золоченые разобрать можно было.
Черемной присел под березку, откинулся на ствол гладкий. Хоть и не спешил особо, а за дорогу намаялся. Чувствовал – ноги набил.
Перед тем как в Суздаль идти, ключарь, вьюн бескостный, свел Федора к отцу протопопу. Пьян, пьян был вьюн-то, а запомнил разговор в пристроечке, за купелью с водочкой сладкой.
Федор, как позвал вьюн, затоптался вроде от робости:
– Непонятлив я, не разберу чего.
– Разберешь, – засмеялся ключарь, – отец протопоп втолкует. Он чего хошь втолкует. У нас протопоп…
И, не досказав, еще раз засмеялся. С тем и повел.
Отец протопоп был в притворе. Молился. К вошедшим лика не оборотил. Но Федор понял: ждал их святой отец, оговорено, видать, все у них было с ключарем.
Стояли, пока протопоп молитву не закончил, долго, но сколь ни стояли, а свое выстояли. Отец протопоп подошел, руку для целования сунул. Посмотрел на Федора внимательно. Федор в лицо ему не смел взглянуть. На руки воззрился.
Кожа тонкая на руках у протопопа, просвечивает. Слабые руки, ветхие. Лежат вяло, не по-живому. Под ногтями сине, мертво. Не жилец был протопоп. Такими пальцами холодными за жизнь долго не удержишься.
– Сходить в Суздаль решил? – спросил протопоп. – Церкви пособить? – И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Дело не простое. Хоронись от глаз чужих. А ежели кого повстречаешь, об уроке своем не сказывай. На богомолье идешь, и все тут.
Федор головой кивал послушно.
– В монастырской церкви юроду поклон передашь. Скажи: ждем, мол. Помолишься в монастыре – обитель сия святая, – возвращайся. Не медли. Юрод скажет какие слова – запомни. Драгуны царские схватят – боль прими, пытку, но молчи. – Спросил твердо: – Понял, сын мой?
– Понял.
– Иди, – сказал протопоп, – иди с богом. Зачтется тебе. Поднял руку, перекрестил широко. На коленях Федор выполз из притвора.
На дорогу вьюн Черемному дал хлеба, две рыбины вяленых – так, ничего себе, крупненькие, – луковиц с десяток, соли в тряпочке. Не пожадничал. Черемной поскоблил подбородок: «Святые отцы корку хлеба не пожалели, неспроста то. Значит, очень уж нужно им человека в Суздаль послать. Печет, видать».
Посидел-посидел под березкой Федор, встал.
В монастырь пришел, народ только-только из церкви расходиться начал. Федор противу толпы не попер и на паперть не вылез. Стал в стороне, у кустика. И видно все, а сам и заметен-то не очень.
Народ из церкви валил серый: старухи из города в вонючих лохмотьях, старики с костылями, парни в разбитых лаптях да девки в линялых сарафанах. Потом уж монашки высыпали во двор. Великопостницы. Идут – глаза книзу, руки на груди сложены. «Племя мышиное», – подумал Федор.
И вдруг народ расступился. На паперть настоятельница вышла. Высокая, дородная, плечи крутые. За ней две монахини – тоже незаморенные, – и в руках у них на шестах сукно алое распялено.
Люди попадали на колени. Настоятельница потихоньку с паперти пошла. Монахини следом.
Федор Черемной на что уж повидал разного, но и то в диковинку ему эдакое было. Потянулся из-за куста получше разглядеть диво такое. И под сукнами в малую щель рассмотрел ножки женские, в легкие, узорчатые туфельки одетые. Все понял: за сукнами царицу бывшую ведут. «Не по сану так-то старице Елене ходить, – подумал, – да и грешно…»
Настоятельница рядом с Черемным прошла, и он лицо ее увидел близко. Глаза прикрыты веками – не доберешься, не заглянешь, подбородок как обух у колуна. На шее крест, и камень в нем с орех лесной. Тоже, видать, любила стадо свое, паству невест христовых. Все отдать им была готова.
За полотнищами алыми прыгал собакой, скакал, тряс башкой лохматый юрод. Народ ахал только. Волосья юрода по земле метутся. В лохмах репьи прошлогодние. Глаза врастопырку, нос до губы достает, а губа отвисла лопатой.
Федор глянул: «Милай, знаем мы, как те шутки делаются. Нехитрое занятие». И вдруг показалось: «А ведь видел я эту рожу!»
Черемной из куста вылез: «Знакомец-то старый!» Память у Федора была крепкая.
Петр Андреевич Толстой в Неаполь приехал почтовым дилижансом. Румянцев Петра Андреевича ждал.
Одним из последних из дилижанса вышел господин, фигурой на Толстого весьма похожий. Когда шагнул со ступеньки на землю, карету приметно качнуло, но, подавшись ему навстречу, Румянцев понял: ошибся.
Господин был в пыльном сером плаще до пят, в шляпе с широкими полями, что выдавало в нем торговца мелкого или вовсе музыканта, но никак уж не российского знатнейшего вельможу.
Румянцев в другой раз вгляделся и решил: наверное, музыкант.
Здесь, в Неаполе, офицер многому удивлялся. Ежели спросишь, кто, дескать, вон тот господин, неаполитанец сливовые глаза под лоб закатит, языком защелкает и с придыханием глубоким сообщит:
– О-о-о! Это великий маэстро!
Так что Румянцев был уверен, что здесь всякий, кто ни есть, хоть на тарелках медных, но всенепременно играет.
Ошибившись, Румянцев в сторону от дилижанса отошел.
Известно, как только русский человек за границу приедет, ему наговорят черт-те чего, он и ахнет: «Скажи, а нам, дуракам, и невдомек такое…»
Так и Румянцев:
«Неаполитанский залив… Цветочки благоухают… Пальмы разные и апельсины…»
А потом присмотрелся:
«Э-э-э… Да то, ребята, баловство одно. Цветики-то дурманом отдают, от которого и голова слабой становится. А море-то, море… При таком море и на забор неживой полезешь. С сучками. Вот народ и балованный тут. Знают только на мандолинах разыгрывать».
Серьезный был человек. В корень зрел. Узнал он и то, что цирки здесь были еще при римских императорах и в тех цирках мужиков, гладиаторами называемых, звери при всем народе терзали. И народ будто бы даже при том ликовал.
«И ничего странного, – решил Румянцев, – они еще больше натворят. Такие, жди, цирки соорудят, что не только звери людей, но и сами люди друг друга рвать начнут». А ему сказали: и такое, дескать, было.
К неаполитанцам Румянцев стал относиться подозрительно.
Народ между тем с площади разбежался, похватав корзины. Только один – тот самый, которого Румянцев музыкантом посчитал, – стоял у фонтанчика.
«Не приехал», – решил Румянцев и зашагал прочь. Но вдруг услышал голос:
– Господин офицер…
Румянцев обернулся. Из-под шляпы широкополой на него смотрели хитрющие глаза Петра Андреевича. И так вот удивлять мог Толстой.
Перво-наперво Толстой расспросил у Румянцева о наследнике. И наказал обсказывать все до мелочей, казалось бы даже и несущественных. Слушал внимательно. Интересовало его, и как ехали через Альпы, и где ночлег был или иные остановки, каких коней давали наследнику, кто встречал его в городах разных и как встречал: в городе ли самом или навстречу выезжали.
Разузнав все, Толстой некоторое время сидел в раздумье, потупив голову. Другой бы даже предположить мог, что задремал с дороги Петр Андреевич, утомившись, но Румянцев знал, что Толстой далек от сладкой дремы.
Наконец Петр Андреевич голову поднял и стал расспрашивать офицера о его житье в Неаполе. Румянцев и скажи о своих рассуждениях о неаполитанцах. Толстой выслушал его так же внимательно, но потом, избочив голову и взглянув снизу вверх, сказал:
– А суров ты, братец, суров. Удивил старика. – И усмехнулся криво, с мыслью едкой. – Поговорим, – сказал, – время будет, поговорим.
В дилижансе он приехал почтовом – проезд-то, почитай, и денег не стоил, – плащ надел с плеча торговца мелкого, а палаццо в Неаполе снял что ни было из богатейших.
– Суетен, – сказал Петр Андреевич, – чиновник местный и судить будет о нас по подаркам да по комнатам, в которых принимать станем.

Весь оставшийся день ездили они по городу в наемном экипаже неприметном. Толстой присматривался. И все больше просил останавливать у домов чиновничьих. Выходил даже из кареты и, не торопясь, прогуливался вдоль домов.
К концу дня, по обыкновению своему, Петр Андреевич поиграл губами, как на рожках игрывают, и выразил желание отведать неаполитанских блюд.
За столом, вкушая знаменитый суп из морских ракушек, рачков и диковинных рыбок, высказал несколько наблюдений в форме весьма категорической.
– Что касательно государств, то они с годами дряхлеют, как и люди. Империя Германская корнями восходит к временам римским, и лучшие ее годы отцвели, – говорил он, поглядывая на Румянцева, но не забывая и о тарелке своей.
К рассуждениям Петра Андреевича за столом Румянцев уже привыкать стал.
– Власть предержащие люди империи больны давно, – говорил Петр Андреевич, – и главный недуг происходит от их неуемной жажды богатства. Посмотрите на них: они обзаводятся домами, которые дворцам подобны, приобретают экипажи для себя и домочадцев своих, драгоценным деревом и золотом изукрашенные, предаются страстям чрезмерным. Другая пагубная болезнь – неслыханное честолюбие. Иной из властью распоряжающихся увешивает себя знаками отличия так, что и лица не видно, а замечаешь только золотое свечение звезд и регалий. Не имея возможности укрепить все полученные звезды на груди, готовы уж и к заду пристроить.
Толстой замолк, покивал носом задумчиво, склонился над супом.
– Из-за тех и многих других недугов, – продолжил Петр Андреевич, с видимым сожалением положив ложку, – высокие посты в государстве сем занимают люди недостойные, потрафляющие порокам власть имущих или подвигаемые по лестнице чинов благодаря связям родственным. Взяточничество процветает в Германской империи, и золото здесь – бог. – Петр Андреевич поднял глаза на Румянцева: – Рассказываю вам анатомию сию не ради удовлетворения праздного любопытства, а токмо из соображений практических. В делах наших знания те зело пригодны будут, ибо королевство Неаполитанское, где находимся мы сейчас, подвластно империи Германской. Известно же, если хозяин плох, то слуги его трижды худы.
Толстой встал, одернул камзол, взлезший горой на чреве, и, с огорчившимся вдруг лицом, отошел от стола.
Что явилось причиной сего огорчения: то ли, что от стола было время подниматься, или же мысли о недугах, государствами переживаемых, – Румянцев, по младости нужно думать, не понял.
Петр Андреевич повернулся к офицеру, сказал:
– Что же касательно ваших наблюдений, могу заметить: богата история земли сей неаполитанской и была она за многие годы светочем мысли лучезарной и сеятелем мрака. И думаю, преподнесет еще миру немало сюрпризов. Среди них, боюсь, и орешки горькие…
На том ужин они закончили, и Петр Андреевич соизволил отправиться к вице-королю неаполитанскому, графу Дауну. Письмо у него было к лицу тому высокому, и письмо крепкое.
Лист, украшенный гербами и замысловатыми виньетками, сообщал, что Петру Андреевичу Толстому, доверенному лицу его величества царя Великая, и Малая, и Белая России Петра Первого, разрешается аудиенция с наследником престола его высочеством царевичем Алексеем, ныне пребывающим в замке Сант-Эльм в Неаполе.
Даун прочел бумагу, заканчивающуюся подписью графа Шенборна, которую можно было счесть и за редкой красоты миниатюру, склонил голову. Улыбнулся умно. Голова его, однако, при всем при том напомнила Петру Андреевичу почему-то место, что ниже спины его отдаленной родственницы из Твери. Он еще подумал: «И надо ж… Человек-то в Неаполе живет». Перекрестился Толстой незаметно, сказал себе: «Господи, прости меня, грешного, за мысли мои».
У Петра был счастливый день. Первый счастливый день за минувший год.
Утром, сидя за столом, царь повертел в руках забавный каравай черного хлеба – французы, узнав, что это любимый его хлеб, выпекли буханочку, – неожиданно рассмеялся звонко и весело. Денщик даже голову вскинул, как лошадь от удара. Всяким видел Петра, но таким никогда.
Царь отрезал от каравая ломоть, посыпал солью и, откусив добрую половину, жевал с очевидным удовольствием.
Переговоры в Париже, которым отдано было столько сил, завершились благополучно. И Петр был по-настоящему радостен. Французский двор согласился на все требования русских. Франция брала на себя роль посредника в переговорах между Россией и Швецией, а главное, обязывалась воздержаться впредь от выплаты субсидий шведскому королю и оказания ему иных видов помощи. Карл оставался без французского золота.
Легко было представить, что случится в Стокгольме, когда там узнают сию новость.
Но то было не все, чего добились в Париже. Франция готова была признать приобретения России на Балтийском море, которые отойдут ей по договору со Швецией.
Вот то было победой. Петр наконец-то собирал урожай, зерна под который были брошены еще на Переяславском озере, когда он поднял парус своего смешного потешного ботика.
Петр положил ломоть с солью на стол.
«Победа, победа, – подумал, – да вот Алексей, эх, Алексей…»
Петр вспомнил проповедь, произнесенную в Москве рязанским митрополитом Яворским Стефаном. С яростью, так, что слюна в углах губ закипала, святой отец говорил о неугодных церкви новинах и, высоко воздев руки, возопил: «Надежда наша – царевич Алексей, душе которого старина любезна! И он нам люб».
Быть бы тогда Яворскому Стефану сосланным в монастырь дальний черным монахом, но Петр школу военную горестью и терпением проходил – не до того было. Руки лопатой ломал, апроши и бастионы строя и солдат своих тому воинскому делу обучая. По ноздри в глине жидкой ледяной ходил, сна не знал, а если и выпадало соснуть, то спал в обозе, под тулупом на крестьянской телеге, ежели и телега еще была, а то и так, приткнувшись где ни есть – в овраге, у костра.
«Но теперь неприятель, – подумал царь, – от которого трепетали, сам еще более трепещет, а эти всё скалятся…»
– Что стоишь? Перо, чернила подай, – сказал Петр таращившему на него глаза денщику.
Когда здесь, в Париже, переговоры были окончены, Петр решил обратить все свои силы на исправление Алексеево, считая дело то первостепенным после одержанной виктории в переговорах. Как камень тяжкий Алексей на шее висел. И камень тот надо было снять.
Понимал Петр: врага за рубежами державы Российской здесь победили, но остался враг, сидящий в дому, – и сказать не враз можно было, кто страшней.
«В войне-то проще, наверное, – подумал Петр, – враг виден. Вот он, перед тобой, на противоположных холмах стоит да еще и в барабан бьет. Смелость имей и иди на него со шпагой. А враг, что в доме твоем, в барабан не ударит и в горн не затрубит. Он как туман серый, и шпагой его не достанешь. Алексей – игрушка в руках чужих, воск. Но вот кто воск тот мнет, знать надобно».
Царь написал:
«Мой сын! Понеже всем известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но, наконец, обольстяся и заклинаясь богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых поданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил.
Того ради посылаю ныне сие послание к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господа Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властью проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чем бог мне поможет в моей истине».
Писал Петр, не отрывая пера от бумаги. Писал быстро, но с каждым словом, казалось, из него уходили силы. Когда положил перо, боль в низу живота была нестерпимой. Казалось, воткнули под ребра тупой нож и ворочали в теле без жалости.
Денщик присыпал написанное песком, стряхнул бумагу. Петр сидел, прижав ладони к животу, словно дыру зажимал. Так было полегче. Когда приступ стих, царь взял в плохо слушающиеся пальцы перо, сказал сквозь зубы:
– Положи письмо. Я подпишу.
И криво и косо черкнул внизу листа: «Птр». На большее сил не хватило. В тот же день царя отвезли в Спаа на лечебные воды. Петр был совсем плох.
За монастырскими стенами спать ложатся рано. Вечерний колокол отзвонит, и, перекрестивши лоб, смирный человек глаза закрывает. Будет еще день, и богу молитву отдаст.
Колокол отзвонил. Тишина разлилась над монастырем. Травы побелели. Упала вечерняя роса.
Черемной у монастырской стены дрожал от холода. Руки ходуном ходили. От земли тянуло сыростью. Продрогнешь. Где-то осина скрипела, лопнувшая от лютых морозов зимой. Ни звука больше.
И вдруг: тук-тук… Застучало металлом о камень под аркой монастырских ворот.
Тук-тук-тук… И ближе, ближе. Черемной навострился. Но черно у стены. Ничего не разглядишь.
И опять: тук-тук-тук…
Федор качнулся, шагнул на тот стук. Увидел: из ворот монастырских тенью скользнул человек. И по камню клюки звонкие: тук-тук-тук.
Черемной пошел следом. Человек впереди поспешал. Федор хмыкнул: «Эх ты… Голый Иван. Достиг все же я тебя».
Взбодрился. На ходу-то потеплее стало. Да и дождался своего: значит, не зря дрожал под стеной. «Долго же ты бегал, Иван Голый, – подумал, – а поди ж ты, встретиться все же пришлось. Верно говорят: сколько ни виться веревочке, а конец будет».
…Лет десять назад на Ярославской дороге шалить начали неведомые люди. То одного купчишку встретили – деньги отняли и коней, то другого. Ну, думали, уйдут шалуны. А воровство росло. В одну из ночей тати, совсем страх потеряв, приступом взяли богатый целовальников двор, добро растащили, а людей побили. И детей, совсем малых, тоже побили.
Ярославская дорога к Троице ведет. Места святые, а тут такое кровопролитие. Разбойный приказ на Ярославскую дорогу послал стрельцов, и они изловили татей. Привезли в Москву, и воровскому делу был назначен розыск. Федор Черемной в розыске том был. Записывал воровские речи.
Татей ломали без пощады. Детей побитых простить не могли. Но воры держались крепко. Особой дерзостью при пытке отличился Голый Иван – мужик, невесть откуда под Москву явившийся и татей тех собравший. Визжал Голый на дыбе, харкал кровью в лица ведущим розыск, но так ничего и не сказал. Установлено все же было, что детей побил он своими руками и деньги целовальниковы он же спрятал.
Стали готовить для него колесо со спицами – орудие пытки страшное. На спицах и железные говорили. Но когда пришли за Голым в подвал, лежал он бездыханный. Колесо было ни к чему.
Голого бросили в сарай к побитым сотоварищам. Но наутро мертвое тело татя не нашли. И вот Голый объявился. В монастырском юроде Федор его признал.
Юрод впереди клюками стучал. Шел смело, в тень не хоронился. Поперек согнутый человечишка-то, но клюки перебирал ловко. Вдруг Голый в сторону подался. Домишко стоял у дороги. К нему юрод и шагнул. Хозяином калитку отворил, вошел во двор. Заборишко вокруг дома плохой: курица перешагнет. Федору все было видно. Да Черемной еще и к самой огородке приткнулся, стал у столбика.
Юрод потоптался во дворе, дверцу какую-то отворил, и Федор услышал, как клюки по ступеням застучали. И так тише, тише и смолкли. Черемной понял: Голый в подпол спустился.
Баба на крыльцо вышла. Помои выплеснула из ведра. Зевнула на луну. Рот перекрестила, ушла. Черемной еще постоял и перевалился через забор. Прошел к подполу. Ступеньки вниз Вели, и там, внизу, в щель дверную свет пробивался. Федор неслышно шагнул на ступеньки. Умел Черемной и так ходить. До дверки спустился и чуть ладошкой мягкой дверку толкнул. Не знал, однако, что петли ржавые. Они и скрипнули.
Голый у свечи сидел согнувшись. Не поднимая головы, спросил ясно:
– Ты, Прасковья?
Федор не ответил. Ждал, пока Голый поднимет голову.
– Чего тебе? – повернулся тот.
– Ошибся ты. Не Прасковья к тебе пришла, – негромко, но со значением сказал Черемной.
Юрод вскинулся:
– Кто таков?
Рукой глаза от свечи заслонил. Так же тихо Черемной сказал:
– Ты не признаешь меня, а я тебя признал, Голый Иван. И словами теми как палкой ударил. Юрод к клюке метнулся.
Черемной остановил:
– Сядь. Я сломаю тебя. Силы у тебя не те, что были. Сядь… И юрод сел. В глазах у него вспыхнул огонек свечи. Дикие глаза были, кошачьи. Но Черемной на то внимания не обратил. Обошел свечу и стал напротив Голого:
– Поговорим.
Взглянул: что там, у свечи, юрод ковырял? Вокруг свечи лежали медяки. Но много, горкой.
– Что? – спросил Черемной. – Все копишь деньгу-то? – Скривил рот: —А зачем?
Голый молчал.
– Ладно, – сказал Черемной, – привет я привез тебе от отца протопопа церкви Зачатия Анны в Углу.
У юрода по лицу судорога вроде пробежала, и он клюку швырнул в угол. Хохотнул, как всхлипнул:
– А напугал-то, напугал… Вот напугал…
– Ты не веселись прежде времени, – сказал Черемной, – спроси лучше, откуда мне имя твое известно? Ярославскую дорогу помнишь? Целовальника помнишь? Детей его, тобой побитых, помнишь?
Юрод попятился в угол. Крестом обмахиваясь, зашептал:
– Свят, свят…
– Не гнуси, – оборвал его Черемной, – то для глупых оставь. Садись! Спрашивать тебя буду, а ты отвечай.

Голый Иван рассказал, что старица Елена живет в монастыре не по обычаю монашескому и иноческих одежд не носит. Сказал, что ходят к ней люди разные. Дворяне окрестные наезжают. И которые издалека также бывают. И еще сказал, что старица Елена многажды к себе пускает, днем и по вечерам, Степана Глебова.
– А то зачем? – спросил Черемной.
– По бабьему делу, должно.
– Тьфу, – плюнул Черемной. – Ты говори, кто тот Степан Глебов?
– Капитан. Послан в Суздаль для рекрутского набору.
– Так, – протянул Черемной, – а письма, письма в Москву старица посылала?
– Носили письма.
– Об Алексее, царевиче, сыне своем, какие речи говорит?
– Не ведаю.
Нагнул голову, пряча лицо. Понимал: то похуже целовальникова воровства. Здесь за спицы сразу возьмутся. Тянуть не будут.
– А ты что кричал у церкви Анны в Зарядье, что здесь, в Суздале, на паперти выл?
– Не помню, без памяти был. Позвонки у меня поломаны, мысли заходятся.
– Вспомнишь, – сказал Черемной и поднялся, – все вспомнишь. Позвонки мы тебе враз вправим. – Шагнул к лестнице. Сказал еще: – Сиди. И из монастыря не высовывайся. Протопопу от тебя я слова передам.
Погрозил глазами и вышел. Решил так: Ивана Голого отдавать сейчас власти, чтобы заковали в железа, рано. И так будет сидеть молча. Напуган вдосталь. Клубок же весь – и монастырский, и протопопов – не его, Черемного, дело шевелить. То большим людям под силу. К светлейшему князю Меншикову идти надо, и идти не мешкая.
Царевич Алексей встретил Толстого стоя.
Петр Андреевич неловко зацепился в дверях шпагой, но поправился и шагнул к царевичу бодро. Согнулся в поклоне низком. К наследнику пришел престола российского, спину жалеть не приходится. Румянцев у дверей застыл и по чину офицерскому руку к треуголке поднес.
Петр Андреевич выпрямился и только тогда в лицо наследника взглянул. Где-то в чреве у Толстого жилка малая дрогнула: черты Петровы он угадал в Алексее сразу.
– Здравствуй, ваше высочество, – сказал Толстой совсем по-домашнему, мягко, как если бы те было говорено в Москве, а не в далеком замке Сант-Эльм у неведомого многим Неаполитанского залива, в чужом городе.
Но наследник промолчал. Петр Андреевич прочистил завалившее горло, сказал:
– Имею честь передать, ваше высочество, письмо батюшки твоего, царя Великая, и Малая, и…
Осекся. Царевич шагнул к нему и протянул руку.
От дверей грохнул ботфортами капитан Румянцев. Из-за отворота мундира выхватил конверт, передал Толстому. Петр Андреевич полнее конверт царевичу. Румянцев отступил к дверям.
Толстой, глаз не поднимая на Алексея, слушал, как шуршала у наследника в руках бумага, как перебирал он хрупкие листки, на одном из которых стояла дрожащей от боли рукой начертанная косо подпись «Птр».
Письмо царевич прочел. И голосом неуверенным – Толстой отметил – сказал:
– Сего часу не могу ничего ответить, понеже надобно мыслить о том гораздо.
– А что же, – осторожненько начал Толстой, – вводит тебя в сумнение, ваше высочество?
Алексей толкнул стул, сел. Сказал покрепче:
– Возвратиться к отцу опасно и перед разгневанное лицо явиться небесстрашно, а почему не смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству.