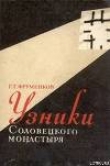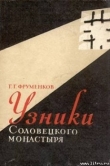Текст книги "Поручает Россия"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Задумался. Лоб наморщил и еще отведал рыбки.
Стали подносить дичь. Петр Андреевич ни одного блюда не пропустил, не откушавши. Велел квасу подать. Испив жбанчик изрядный, посетовал, что за рубежами державы Российской каш мало подают.
– А каша столу особый аромат приносит, – заметил, – к тому же солидна и фундаментом как бы в еде является.
Обмахиваясь салфеткой, высказал еще одну серьезную сентенцию Веселовскому. Добро-добро глаза прищурил, молвил:
– Авраам Павлович, ты на меня не сетуй, но должен я тебе сказать. Едок из тебя небольшой, и поверь – быть может, оттого и не все дела у тебя ладны.
На том они застолье закончили, и Петр Андреевич, велев подать карету, с офицером Румянцевым поехал по местам, которые в Вене хотел осмотреть.
Офицер Румянцев уже рассказал Петру Андреевичу, что отыскал он в Вене русского человека, записанного в городской книге, куда вносят имена всех приезжих, как Иван Афанасьев, сообщил и о том, что Иван Афанасьев на рынке венском неоднократно покупки делал и расплачивался петровскими золотыми. А далее сказал, что он проследил за ним, и Иван Афанасьев привел его к Шварценбергову императорскому дворцу. Тут офицер замялся, но Толстой поторопил его:
– Ну-ну…
– Да я девицу себе разыскал из дворца, – и вовсе смутился тот, – славная девица.
– Что же, – сказал Петр Андреевич и рукой огладил подбородок, – дело молодое. Понятно.
– Так вот девица та, – ободрился Румянцев, – рассказала, что во дворце остановилась неизвестная особа, которую ото всех скрывают. При ней паж и слуги. Один из них Иван Афанасьев.
– Хорошо, – сказал Петр Андреевич, – очень хорошо.
– Узнал я от башенного дознайщика, – продолжил Румянцев, – что особа эта, до того как во дворец Шварценбергов переехать, по приезде в город останавливалась в гостинице «Под золотым гусем». И имя особы записано у башенного дознайщика – кавалер Кременецкий. С ним слуги означены.
– Хорошо, – с большим удовлетворением повторил Петр Андреевич.
– Однако вот недавно, – сказал Румянцев, – особу эту со слугами и пажем из Шварценбергова дворца перевезли за город в замок Эренберг. Я за ними проследил. Девица моя в том помогла. – И, прямо глядя в глаза Петру Андреевичу, закончил с твердостью: – Наверное сказать могу – царевич это, наследник, а паж уж больно пышен в заду и узок в плечах для юноши. Баба это, в мужское одетая.
– Ладно, – ответил Петр Андреевич, – поглядим. Перво-наперво побывал он в гостинице «Под золотым гусем», где наследник, приехав в Вену, ненадолго останавливался. У гостиницы с кареты сошел и, несмотря на грузность и немалую одышку, по ступенькам поднялся в комнаты, что квартировал царевич.
Комнаты оглядел внимательно. Столик золоченый даже пошатал рукой, присел на диванчик, посмотрел в окно. Спросил хозяина, сколько времени гость из Москвы здесь пробыл. Ему ответили, что час-два, не более. Поинтересовался Петр Андреевич, что стоит постой в сих апартаментах. И на то ему дали ответ.
– Угу, – промычал Толстой в нос и пошел к лестнице.
В карете, расположившись свободно, Петр Андреевич сказал офицеру Румянцеву:
– А с деньжонками у наследника, ежели, конечно, это он, туговато. Иначе бы он апартаменты снял побогаче.
Взглянул на офицера со значением. Велел везти к Шварценбергову дворцу. Подъехав, расспросил Румянцева дотошно, в какую дверку Иван Афанасьев – слуга наследника входил и из каких ворот карета с наследником выезжала. Просил показать окна комнат дворцовых, где жил наследник и которые венка – дружочек сердечный офицера – ему указывала.
Сказавши все то же «угу», распорядился ехать дальше. Пояснил Румянцеву:
– Комнаты непарадные царевичу отвели, а по ним и почет видно, выказанный его особе. Спрятаны к тому же апартаменты в глубине дворца: видно, огласку приему царевича давать не хотели. – Поднял толстый палец. – Немаловажно.
На городской ратуше часы пробили полдень. Выслушав бой курантов, Петр Андреевич пожелал перекусить. Расспросил Румянцева, где и что можно покушать, какое вино подают и сколько денег за то спрашивают. Румянцев назвал харчевню, где впервые встретил Ивана Афанасьева.
– Хорошо, – сказал Толстой, – но ты мне, голубчик, дознайщика башенного приведи, что запись о кавалере Кременецком тебе показал. Расстарайся, голубчик. Отобедать с ним я хочу.
В харчевню Петр Андреевич вступил величественно. И не то чтобы на нем ленты или драгоценности какие сверкали, Свидетельствуя о богатстве и знатности рода, – нет. Но походка, чрево, взор выдавали вельможу. Хозяин, и слова еще от него не услышав, низко склонился. Толстой тушу, подвешенную над огнем, оглядел внимательно. Повеселевшими глазами глянул на Румянцева: – Изрядно, изрядно…
Голову к плечику пригнул, разглядывая тушу, как редкую парсуну.
Взяв железную вилку, потыкал мясо, потянул носом и указал, какие куски для него срезать. Сел за стол, но мясо не велел подавать, пока не придет дознайщик. Сидел молча, многодумную голову опустив на руку. Даже глаза веками прикрыл.
Вошел дознайщик. Редкие волосенки, порыжелый камзол, пыльные башмаки. Затоптался у порога, робея. Видно было, место свое человек знает. Скромный. Глаза в пол уставил. В Вене чиновный люд помельче по головке не гладили. Больше по-другому поступали: нет-нет да и стукнут. Сиди, есть повыше тебя, им вот вольно.
Петр Андреевич, не чинясь, бойко поднялся от стола и, расцветя улыбкой, как родного брата, подвел дознайщика к столу, усадил и, осведомившись о здоровье, об успехах служебных, выказал радость вместе отобедать.
Австрияк приткнулся на краешке стула неловко, отвечал невпопад.
Петр Андреевич, угощая австрияка, расспрашивал, как выглядел кавалер Кременецкий, записанный в книге приезжих иностранцев, что говорил он и что говорили люди его. Веселым ли кавалер показался дознайщику или видно было – печален тот путешественник?
Шутил много и выдавил-таки улыбку на бледных губах перепуганного австрияка. Смеяться заставил. Дознайщик, уже не смущаясь, рассказал все, что знал.
Отобедав, Петр Андреевич галантно проводил дознайщика до дверей. Раскланялся. Вернулся к столу, сел, раскинув пошире полы камзола, сказал Румянцеву:
– А теперь, голубчик, венку мне представь, дружка твоего сердечного. Сам поезжай к графу Шенборну. О моем приезде ему уже доложено. Ты же засвидетельствуй только мое к нему уважение.
Пальцами пошевелил неопределенно. Сказал еще:
– Если вице-канцлер станет спрашивать, для чего я прибыл в Вену, без лишних слов скажи: интересуется фуражом для корпуса российского, что в Мекленбургии стоит. – Улыбнулся хитренько, переспросил: – Понял, голубчик?
Румянцев вытянулся, щелкнул шпорами.
«Экий молодец, – подумал Толстой, глядя на него с удовольствием, – нет, не зря царь ломал стрельцов, головы рубил, не зря. Вот с такими многое можно сделать. А то не войско было, а квашня квашней. Только и знали, что лбом об пол трескать. Да воровать горазды были».
– Завтра, – сказал Толстой, – к замку Эренберговскому поедем. Поглядим, как стоит и чем славен.
К замку выехали поутру. Коней Петр Андреевич гнать не велел. Ехали не спеша.
День выдался славный: солнце, ветерок не сильный гонит легкие облака. Видно далеко. Петр Андреевич оконце в карете опустил, смотрел на земли незнакомые с интересом.
Показал на деревья, посаженные вдоль дороги, сказал, что неплохо и им такое в России завести. И для глаза приятно, да и снег в зимнюю пору задерживать будут.
В долинах деревеньки просматривались ясно. Деревеньки нарядные: крыши красные, черепичные, стены беленые.
Заметил Петр Андреевич:
– Трудолюбив народ сей. – Повернулся к Румянцеву, спросил неожиданно: – Как Шенборн, господин офицер, встретил? Что говорил?
– Вице-канцлер, – ответил Румянцев, – просил передать, что счастлив будет лично повстречаться с знаменитым дипломатом.
– Угу, – сказал на то Петр Андреевич. Отвернулся к окну. Карета катила все так же не спеша.

И больше ни слова не сказал Петр Андреевич, пока до замка не доехали. Сидел уютно, губами издавал звук, который можно было принять и за барабанную дробь, и за гудение рожка. Потом и вовсе задремал. Всхрапывал легонько. Но когда на горе показался замок и Румянцев хотел было сказать, что, дескать, приехали, проговорил внятно:
– Вижу, голубчик, вижу.
Завертел головой, оглядывая замок, и соседний лес, и деревушку под горой.
– Так-так, – протянул. – Вот что, голубчик, ступай к коменданту. Скажи, иностранец-де знатный замок осмотреть хочет. Деньги посулил. И говори с ним погромче, голоса не жалей, дабы каждое слово в замке слышно было.
Румянцев выскочил из кареты и зашагал к замку, пыля ботфортами. Здесь, в горах, солнышко подсушило землю, и дорога уже пылила по-весеннему.
Офицер остановился у рва. Внизу плескалась вода, последние тающие льдины вызванивали о камни. В ров была отведена горная речонка.
– Эй, стража! – крикнул офицер. – Стража! В ворота высунулся солдат.
– Коменданта мне, – сказал Румянцев.
Солдат оглядел его недоверчиво. Перевел взгляд на стоящую чуть поодаль карету. Петр Андреевич из кареты к тому времени вышел и стоял пышный, в шубе, в шляпе с необыкновенно ярким пером.
И перо то, и как стоял гость – вольно, представительно – солдата смутили.
А Толстой, широко улыбаясь, глазами по стенам замка шарил. Отыскал окошечко небольшое в башне угловой и взглядом в него уперся. Ждал, что будет.
Солдат ушел. Румянцев во весь голос зашумел:
– Стража! Эй, стража!
Вышел комендант. Румянцев треуголку снял и по всем правилам политеса заплясал на дороге, кланяясь и расшаркиваясь. Крикнул:
– Знатный иностранец желает замок сей осмотреть! За то пожалует он охрану вознаграждением щедрым!
И второй раз комендант отрицательно помахал рукой. Румянцев в сердцах крепкие русские слова сказал.
А Толстой все смотрел и смотрел на окошечко зарешеченное. В окошечке мелькнуло белое. Вгляделся Толстой – лицо и широко распахнутые глаза. Мгновение только и смотрел человек из башни на офицера, на Толстого в собольей шубе. Откачнулся, исчез.
Толстой медведем полез в карету. Сказал кучеру:
– Поди уйми господина офицера. Голос надорвет. Хватит. Свое мы увидели.
В человеке, что выглянул из маленького оконца на башне, узнал царевича. Зоркий был глаз у Петра Андреевича Толстого.
В Петербурге хоронили князя-кесаря Ромодановского. Похоронная процессия растянулась на версту. Впереди шли преображенцы с черными лентами на треуголках, за ними семеновцы с черным же на рукавах мундиров. Месили тающий снег дипломаты. Шла старая знать. В шубах, в горлатных высоких шапках, вытащенных из сундуков. Словно забыто было царево указание о ношении платья венгерского или саксонского.
Повозку с гробом везли черные как сажа кони с пышными султанами на чепраках. Ставили точеные копыта в снежное месиво. Процессию замыкали пушкари. Сорок пушек на черных лафетах приказал выкатить для погребального салюта светлейший.
Меншиков, в парике, без шляпы, с заплаканным, опухшим лицом, шел за рясами митрополита, дьяков, дымивших ладаном служек.
Лица у знати кислые, но загляни в глаза – радость так и прыгает наружу. По домам родовитым крестились:
– Прибрал бог… Оно и ладно… Давно пора… Шептались:
– Ишь ты, в Питербурхе хоронят… В гнилой земле.
– Да сам вроде распорядился. Куда там… И после смерти царю хотел угодить… Вот теперь и ляжет в болото, в топь…
А еще говорили с надеждой:
– Царева рука… Пыточных дел мастер… Царь теперь послабже станет… Пес, князь-то Федор, самый злой был и рыкающий.
Процессия двигалась медленно. Ветер с Невы рвал полы шуб и плащей, срывал шляпы. Выжимал слезы из глаз. Локотками, плечиками загораживалась от ветра знать, но где уж загородиться – ветер чуть не с ног валил.
Дьяки, шедшие за гробом, медноголосо ревели.
Простой люд, встречая погребальный поезд, падал на колени в грязь, в снег, не разбирая места. Повалишься, ежели по шее не хочешь получить.
– Кого хоронят-то? – спросил мужик в рваном армяке. Лицо голодное, сквозь прорехи видно тело.
– Князя.
– Знамо, князя… Тебя двенадцать коней не повезут на погост.
– Царевой дубинкой, бают, князь был. Столп подпирающий. Вот и коней много.
Третий сказал смиренно:
– Да оно без разницы, сколько коней на погост везут. Один ли, десять ли… Все одно к яме тащат.
– Эка, скажи, столп, – хмыкнул рваный армяк, – а смерть не спросила.
– Она никого не спрашивает.
Процессия подошла ближе. Говоруны на всякий случай ткнулись головами в снег.
Меншиков слез не вытирал. Шагал потерянно. Думал: «Ах, Федор Юрьевич, князь дорогой… Сколько вместе-то пережито? Тяжко без тебя будет… И царя не дождался…» Понимал: Ромодановский хоть и болел давно, но, и во дворце своем сидя, был силой грозной. «Где найдешь такого верного человека, – думал Меншиков, – где? Среди тех вот?»
Глянул недобро на бредущую толпой знать. Увидел: первыми идут Лопухины, Вяземский, Кикин. В душе закипело. Сцепил зубы, удерживая рвущуюся наружу злость. Опустил голову, чтобы не видеть ненавистные лица: «Слетелись, как воронье. Вот радость-то у них».
Семеновцы и преображенцы шагали мерно. Морды красные, плечи – косая сажень. Из-под ботфорт ошметья грязи летели в стороны. Дипломаты поглядывали на солдат с завистью неподдельной.
– Крепкие солдаты у русского царя, – говорили, – князь-кесарь Ромодановский и к этому руку приложил. В потешном Петровом войске имел титул генералиссимуса.
– Да, славного слугу потерял царь Петр.
– Все не вечны.
– Так-то оно так, но Петр Алексеевич пожалеет о нем особо. Александр Кикин шагал, выбирая дорогу посуше. Слышал, как сзади покашливали, переговаривались свои негромко. Но те уже по-другому разговор вели:
– Погодку-то бог послал. Ветер да дождь со снегом. Застудишься.
– По покойнику и почет…
Из каждого слова желчь сочилась.
«Одно к одному, – хмурил брови Кикин, – царевич в чужие земли укатил, а этот к праотцам отправился. Так-то славно выходит…» И вдруг вспомнил, как глядел на него Федор Юрьевич в пыточном застенке. Страшно глядел, листая корявыми пальцами страницы свидетельских сказок, Ромодановский спросил тогда: «Ну, о воровстве своем сам говорить будешь или тряхнуть тебя?» Вскинул глаза.
От стены шагнул в свет свечи малый в короткой красной рубашечке. Рукава подкатаны высоко, чтобы удобнее было. У Кикина от одного его вида испарина лицо облила. «Погоди, – сказал Ромодановский, – твое время придет». Тот отступил в тень…
Вспомнив такое, Кикин поскользнулся, чуть не упал. Старший Лопухин поддержал его:
– Ты что?
– Ничего, – буркнул Кикин. Не говорить же: увидел-де эдакое, что в страшном сне причудится – мамку крикнешь.
Пошли дальше. Все та же грязь, навоз, лужи нахлюпанные. Ногу поставить негде.
Дорога свернула к погосту. Увидели: две сотни крестов деревянных, сосны редкие, чахлые – какой уж лес на болоте гиблом, – часовенка, невесть каким доброхотом поставленная. Ни благолепия, ни торжественности, ни скорби… Глина развороченная, истоптанная земля, испоганенная, истолченная.
«Так-то Петр и всю Русь перекопает да истопчет, – подумал Кикин, – плюнуть бы, да неприлично. Кости все же православные лежат».
У часовенки мужики в армяках, замызганных глиной, стояли с лопатами.
Могилу заливало желтой водой со снегом.
Остановились. Повозку с гробом с трудом протащили к часовне. Колеса вязли по ступицу в грязи. По одному стали подходить прощаться. Дьяки взревели пуще прежнего.
Меншиков шагнул к гробу, оперся руками о край, взглянул в лицо боярина. Горло сжала спазма: «Федор Юрьевич, сердцем болел ты за дела отечества, помнить за то о тебе будут вечно».
Тяжелая голова Ромодановского была приподнята на подушке высоко, и показалось светлейшему, что полуоткрытые глаза князя упорно смотрят ему за спину.
Меншиков оглянулся. У могилы стояли бояре. Лица словно на пудовые замки закрыты: ничего не прочтешь, ничего не узнаешь.
«Псы, – с яростью подумал он, – вот так бы всё в глину, в грязь уложили. Третий Рим!»
Лицо светлейшему залило до зелени бледностью. Глаза бешено сузились. Под обтянувшимися губами зубы проступили: сейчас укусит. Известно было князю, что шептали, говорили по домам, как улыбались криво, хоронясь за спины. «Псы, псы алчные, собаки!» Качнулся от гроба, сжав кулаки. К нему по грязи кинулся князь Шаховской.
– Что ты, что ты, Александр Данилович! – запричитал торопливо. Видно, увидел в глазах Меншикова: не в себе тот. – Очнись! Не время, не место!
Махнул рукой пушкарям. Ахнул залп. С сосенок сорвалось воронье, забило крыльями.
Меншиков, как шапку, стащил парик, мазнул по глазам и, не разбирая дороги, по лужам пошел к карете. Дипломаты зашептались, закивали головами:
– Чем это любимец царя недоволен?
Из-за боярских спин вышли мужики в армяках, подошли к гробу.
– Ну, – сказал один, – давай, ребята. На лямки бери. Подняли гроб и, скользя по грязи худыми лаптями, шагнули к могиле.
Пушки били не смолкая. Стая воронья то взмывала в небо, то падала вниз. Металась над зеленой луковичкой кладбищенской несчастной часовенки.
Погост заволакивало белым пороховым дымом. Гроб опустили в глинистую жижу.
Сидя в карете, Меншиков увидел плывущее меж редких сосенок белое облако. Подумал: «Порох плохой. Селитры много или подмочили? В арсенал съездить надо да рожи набить». И еще: «Много, ох, много в эту землю людей ляжет, пока поднимется город».
Ударил кулаком по сиденью:
– А все же поднимется!
…Посольский поезд Петра, на удивление дипломатам французского короля, подвигался быстро. Французы, изнеженные легкой придворной жизнью, жаловались даже:
– Его величество царь Петр заморить нас пожелал непременно.
А поезд и впрямь поспешал бойко, хотя дороги были размыты весенними дождями. По пуду грязи наматывало на колеса, и лошади тянули из последних сил.
В путь отправлялись, едва заря поднималась, и останавливались только по крайней нужде.
Петр говорил:
– Отсиживаться дома будем.
Зады у русских, на что привычные ко многим невзгодам, и то уставали при такой езде. Французские же дипломаты, не стесняясь, заголялись и показывали синяки и шишки.
Но улыбались при том по политесу, а жалобы оборачивались вроде бы шуткой. Любезники они были известные, московскому или тверскому облому – сыну дворянскому – и думать нечего было в улыбках и ласканиях разных их перещеголять.
Петру сказали, что главное сопровождающее его лицо – дворянин самой почтенной фамилии – на ночь велит укладывать себя в постель непременно задней частью кверху, дабы отдохнуть от дневных неудобств. Также велит сие лицо употреблять греческое масло и притирания разные для смягчения плоти на зашибленных местах.
Царь посмеялся, но коней сдерживать не велел. Сам он ехал во всегдашней своей двуколке и не испытывал видимых невзгод.
Сказал все же:
– Лампадного маслица ему передайте от меня. Оно задницу-то подсушит быстро.
Выходит, знал: не только горький лук слезу вышибает.
Петр в пути был хмур и, не в пример прошлым поездкам, меньше интересовался раритетами. Разговоров избегал.
Торопился царь, понимал: времени нет. В Москву надо. Неспокойно на душе было. И в Париж-то поехал от великой нужды.
Шафиров – калач тертый в дипломатических делах – приладился в карету свою приглашать главное лицо, что больше всего от неудобств поездки страдало, и, распорядившись, чтобы сенца на сиденье подбрасывали побольше да помягче, говорил о торговлишке России на Балтике через новый порт и столичный град Петербург.
Выходило из разговоров так: ежели Россия замирится со шведами, французы наверное через торговлю ту по горло в золоте ходить будут.
Главное лицо радостно улыбалось. Видно было, что першпектива такая приятна ему была во всех отношениях. Шафиров и сам цвел от счастья. Но хмурился вдруг:
– Но вот когда мира не найдем…
Тут он незаметно давал знак вознице, и тот гнал коней, не разбирая дороги. Главное лицо только вскрикивало, придерживая старательно столь дорогое ему место, для которого оно и греческого масла не жалело.
Возница коней осаживать не спешил. Шафиров, сморкаясь и покашливая, говорил назидательно:
– На Балтике мира не найдем – всем придется страдать. Через неделю главное лицо стало самым верным поборником мира. И считало всенепременным, чтобы Франция на сие ежели не живот, то какие ни есть силы положила. Молилось о том искренне своему католическому богу.
На такой способ ведения переговоров Петр много смеялся. Говорил Шафирову, похлопывая поощрительно по спине, так, что у того моталась голова.
– Презент, презент ты заслужил. То верно, на всякий случай надо иметь маневр.
В Париж поезд царев пришел ярким весенним днем. Встречали Петра пышно. Народу сбегалось посмотреть на русских тысячи, но Петр и лица не показал. Шляпу надвинул низко и в карете задернул штору на оконце.
В Лувре, в королевской резиденции, были отведены для российского царя богатые покои. В двухсветной зале, где в высокие окна широко, рекой лилось благодатное солнце, был накрыт стол на восемьсот персон. Сверкал хрусталь.
Петр вошел в зал, отщипнул кусочек бисквита, поднес к губам бокал с вином и вышел со словами:
– Я солдат, и когда найду хлеб да воду, то и буду доволен.
Скромность такая французских придворных обескуражила. Многие терялись.
Но еще больше удивил Петр парижан, когда, в нарушение придворного этикета, при встрече с королем вместо жеманных поклонов и приветствий подхватил семилетнего Людовика XV на руки и, поцеловав, сказал:
– То не поцелуй Иуды.
Придворные, едва найдясь, радостно зашумели.
Празднества по случаю приезда русского царя были большие. В вечернее небо запускали невиданной красоты фейерверки, плясали много, волшебно звучала музыка. Казалось, вот так и петь, и плясать, и игры заводить забавные при французском дворе могут день за днем. Женщины здесь были легкомысленны, а мужчины – мотыльки, перелетающие с цветка на цветок. И уже наплясались вроде. На иного кавалера взглянешь – неведомо, в чем душа держится, но улыбается, любезен, галантен и днем и ночью готов вести даму за руку под нежные звуки. У другого, смотришь, волос уже не седой, а даже какой-то зеленый пробивается. Ему бы богу молиться, но и он туда же – пляшет.
Петр на балу спросил:
– А куда детей девают? При плясках, наверное, их немало рождается?
Хозяева не ответили. Но Петр и не настаивал.
Бал давали в парке Версальского дворца.
Шафиров, вырвавшись из шумного, благоухающего круга придворных, нашел царя у темной беседки, увитой молодой, яркой листвой. Петр стоял один, по лицу его текли разноцветные отсветы горящих в небе ракет. Глаза царя были устремлены на танцующих придворных. Заметив Шафирова, он повернулся к нему и голосом совсем не праздничным сказал:
– Вольно им скакать и прыгать. Мы же прибыли сюда по наиважнейшему делу для государства Российского. Извольте завтра же начать переговоры.
Помолчал. Ракеты погасли, и лицо царя, теперь уже в тени, было почти черным. Глаза неспокойно блестели.
– И поспешайте, – сказал Петр, – поспешайте с делом сим.
В тот же вечер Петр написал в Россию: «Визитовал меня здешний королище, который пальца на два более любимого карлы нашего Луки. Дитя зело изрядно образом и станом и по возрасту своему довольно разумен».
За теми словами нетрудно было угадать боль за своего сына.
Петр писал при свече, фитиль потрескивал. Царь положил перо и надолго уставился на летучее узенькое пламя.
Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн был разбужен, противу установленных правил, на час раньше. «Да, – подумал он, – все свидетельствует о том, что я впал в полосу потрясений».
Граф сел к туалетному столику и, печально глядя на свое изображение в зеркале, слабым голосом сказал слуге:
– Просите.
Гремя шпорами, величиной чуть ли не с тележные колеса, в комнату вошел комендант Эренберговского замка. Был он в медной кирасе, в боевом шлеме, со шпагой у пояса. Лицо странно.
Комендант рассказал, что находящийся под его охраной высокородный граф (так величали в целях скрытности царевича Алексея) требует карету и желает немедленно покинуть замок. Дабы задержать отъезд, комендант приказал солдатам поднять выездной мост, опустить осадную решетку на воротах, но ручаться не может ни за что, так как высокородный граф в бешенстве.
– Еще опаснее, – заявил комендант, – дама, сопровождающая высокородного графа.
Комендант поднял руку в боевой перчатке к лицу, и Шенборн разглядел на его щеках кровавые борозды, происхождение которых было понятно без слов.
Шенборн сломал гребешок итальянской работы, крикнул слуге, чтобы подавали платье. Оделся граф как никогда быстро, даже пренебрегая некоторыми деталями туалета, и незамедлительно выехал в замок Эренберг.
К наследнику граф вошел с массивной канцлерской золотой цепью на груди, но был вышиблен из залы неистовыми воплями царевича и его дамы. Круглые глаза стоящего за дверями коменданта в начищенной кирпичом кирасе свидетельствовали, что он готов умереть за особу императора, но сейчас бессилен что-либо сделать.
Вице-канцлер поправил на груди цепь и сделал вторую попытку разрешить конфликт. Дверь перед ним распахнул комендант.
На этот раз все обошлось почти пристойно. Наследник русского царя, правда, еще кричал, топал ногами, метался по зале, но страсти его уже остывали. Царевич беспрестанно повторял:
– Они уже здесь, здесь… В Рим! К папе, упасть к его трону… Они здесь…
Голос царевича срывался. Из выкриков и воплей Шенборн не без труда уяснил, что у ворот замка был Толстой с русским офицером и наследник, перепуганный тем обстоятельством, больше не желает оставаться в Эренберге.
– Я царевич и имею право отправиться куда пожелаю! – кричал Алексей. – И когда пожелаю! Еду в Рим. Извольте приготовить карету!
– Подожди, Алешенька, – сказала сопровождающая его дама. – Нужно ли нам в Рим? Что найдем мы там? Кто защитит нас?
– Папа, – сказал Алексей. Но видно было, что его смутило замечание дамы. Он взглянул на нее искоса, отошел в сторону, встал у окна.
Из окна замка видна была вся долина. Снега уже сошли, и чувствовалось: вот-вот, еще день, два – и долина вспыхнет всем буйством весенних красок.
Алексей засмотрелся на открывающуюся перед ним картину. Яркое солнце, летящие облака, уходящие вдаль горы… Покой и тишина царствовали над долиной. И наследник вдруг забыл и о замке Эренберг, и о Шенборне, и о коменданте в медной кирасе, который не то охраняет его от кого-то, не то стережет, как пленника.
Стоял он так минуту или две.
За спиной раздались голоса. Шенборн говорил что-то Ефросинье, и та отвечала ему. Царевич повернулся, сказал:
– Замолчите!
Шенборн вздрогнул: так сильно, властно, повелительно прозвучало то слово. Вице-канцлер почтительно склонился, понял: перед ним наследник престола великой страны, а он забылся, дав ему комедиантский, нелепый титул высокородного графа.
Ефросинья прижала руки к груди. Ни она, ни Шенборн не узнали о мыслях, промелькнувших в голове у наследника в ту минуту.
А увидел царевич Меншикова с сияющими глазами, в камзоле с распахнутым воротом, со шпагой в руках на крепостной стене под пулями мушкетов; Ромодановского, спускающегося с дворцового крыльца, и гудящую толпу, – под взглядами боярина Федора Юрьевича головы никли, как трава под косой; Толстого с грамотой о заключении мира с турками. И во всем том был восторг, сила, размах. Дела великие.
И, глядя на прекрасный вид долины, открывающийся из окна, подумал Алексей, что на стену крепостную со шпагой он не полезет, в толпу, враждебно гудящую, не войдет и султана на свой лад не настроит. Ему любезнее с Алексашкой Кикиным кривобоким; протопопом Алексеем, гнусившим о боге, а думающим о застолье хмельном; с Лопухиными, алчущими богатства. Среди них он повелитель. И они перед ним головы клонили. Стелились мягко.
Алексей расслабленной походкой отошел от окна, сказал потухшим голосом:
– Уезжать отсюда надо. И уезжать немедля. Куда – не ведаю.
И показалось – не он только что, от окна повернувшись, бросил властное и сильное слово. Нет, не он. Другой человек. Совсем другой. Но того – другого – лишь на мгновение хватило.
Петр Андреевич с годами по утрам подниматься ото сна стал нелегко. Фыркал, чмокал губами, вздыхал, ворочался. Потом все же вылезал из-под перины. Слуга подавал обширнейшие панталоны. Петр Андреевич норовил еще свалиться в подушки, но панталоны кое-как водружали на него, и Толстой восставал к дневным трудам.
Первой заботой был завтрак. Петр Андреевич предпочитал утром, прежде чем откушать чего-нибудь плотного, поесть щей. И не просто щей, каких ни попало, а выдержанных день или два и подогретых в глиняном горшке.
Когда подавали горшок на стол, Петр Андреевич подвигал его поближе и, склонившись, вдыхал пар. Вот тут-то лицо его окончательно после сна разглаживалось, глаза разгорались, и видно было, как кровь восходила по жилам.
Оживившись, Петр Андреевич брал в руки ложку.
По объявившейся у него привычке, любил он во время еды высказывать вслух приходившие вдруг мысли, даже если рядом с ним никого и не было. Случаи такие были, правда, редки, так как Петр Андреевич считал, что за стол одному садиться глупо. Мысли рождались у него за столом разные. По поводу щей Петр Андреевич, например, говорил такое:
– Щи непременно надо варить загодя и выдерживать на холоду. Ежели подавать их с пылу с жару, то это вовсе не щи, а так – одна видимость, вроде бабы по первому году замужем. Пороху много, а толку чуть.
Впрочем, частые гастрономические рассуждения Петра Андреевича были все же не столько выражением натуры гурмана, сколько лукавством. За словами, которые он так охотно рассыпал, сидя за столом, был не только восторг по поводу подаваемых блюд, но прежде желание разговорить вкушающего с ним хлеб. Петр Андреевич был убежден, что человек нигде не бывает столь откровенен, как за столом.
Откушав, Петр Андреевич приказывал закладывать карету. И собирался к выезду так же не торопясь и ничем не омрачая приятные воспоминания о завтраке.
Наконец, выйдя во двор, он быстро подходил к карете, как если бы гнались за ним, и останавливался подле нее словно вкопанный.
Далее торопить его было нельзя. Петр Андреевич осматривал карету. Примечал все: и где потертость какая или трещинка, где камушком ударило или щепочка, отлетев от копыт на ходу, зацепила. Не скрывались от него и мелочи.
– Здесь вот навозец прилепился, а там, – он смотрел на кучера, – недогляд вышел. Голуби у тебя в конюшне-то. Видишь?
И он показывал перстом на некое пятнышко. Выражал сомнения, не скажется ли то пагубно на прочности всей кареты.
– А то может от того, – разводил руками, – и беда случиться.
Так, осмотрев все не спеша, садился в карету и приказывал трогать, махнув рукой на возможные незамеченные порчи и неисправности. Карета ехала не то чтоб уж быстро, но к концу дня оказывалось, что Толстой успевал побывать во множестве мест.