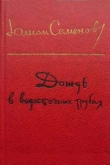Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Да что ты?! С ума, что ли, сошел, дурачок? – она обняла его крепко. – Это ты меня не разлюби…
– Ну, ладно! – высвободился Семенов из ее объятии.
Всплыла вдруг в нем старая злость…
– Значит, вернулся ты, бедненький… Может, и к лучшему… Что дальше-то было?
72
– Дальше что… еще хуже стало мне дальше! Стыд-то какой – пойми! Кто меня просто жалел, кто смеялся, кто злобно обзывал шпионом – всякое было… Некоторые вообще ни черта не понимали, радовались, что вернулся, верной смерти избег… Барило старался не видеть меня, на работу не звал – боялся, что буду приставать к нему с овцой да с пшеницей, которые отдал ему за старые тряпки. Пока я отсутствовал, он уже полностью отоварился. Да не такой я был человек – приставать к нему, хоть меня Эмилия и подговаривала. Противно мне было на Барило смотреть, да и стыдно, что ни с чем вернулся. Так я в тоске еще одну зиму прожил, а весной отдал меня Барило тракторному бригадиру Гинтеру – подале от глаз своих, – и здесь мне опять призрачно улыбнулась удача: Гинтер назначил меня учетчиком. Я сначала духом воспрял: все-таки умственный труд! Привилегия… Не понял только сразу, что выбрал меня Гинтер неспроста, а преследуя свои особые цели.
В работе этой я ведь тоже новичком был – бухгалтерских курсов не кончал, – а тут надо было с ведомостями заниматься: дебет, кредит, учитывать выдаваемые членам бригады продукты, смазочное, керосин… Вот этот самый проклятый керосин чуть меня под монастырь и не подвел!
Заправлял я трактора так: один конец шланга в бочку – другой в рот – потянешь воздух – и в бак: керосин и потечет туда… наглотался керосину, хуже водки! Заправляю, запишу, сколько литров, – и так день за днем. А потом подсчитываю остаток: и все больше у меня керосину не хватает. Уж я и на пролив сбрасывал: ведь, когда ртом заправляешь, часть наземь проливается – все равно не хватает. Сижу ночами в бригадной будке – подсчитываю – недостача! Все на меня косятся, Гинтер успокаивает – но вижу я: назревает скандал…
Один раз Гинтер отослал сторожа до утра в село – в бане помыться, – а мне дал фонарь «летучая мышь» и велел бочки с керосином охранять. Лежали они у нас неподалеку от будки – опаханные трактором – прямо на земле. Взял я фонарь – тулуп мне сторож свой дал, там и летом холодно бывало, – сел наземь, прислонился спиной к бочке, фонарь рядом поставил. Сижу, думаю, Москву вспоминаю, на звезды смотрю – небо над степью широкое, края не видать – сверчки поют… и заснул! Проснулся перед рассветом – нет фонаря! Я туда – я сюда – в такие минуты всегда кажется, что ты его, может, еще где поставил или вообще не брал, – заглянул в будку – там трактористы и прицепщики на нарах храпят – нет фонаря…
Еле солнца дождался – когда все встали, – говорю Гинтеру: так, мол, и так… Он смеется – ржет прямо! – а за ним и все остальные…
– Вот, – достает Гинтер фонарь из-под будки. – Я его взял, когда ночью за нуждой выходил. Чувства ответственности у тебя нет.
Посмеялись надо мной все да разъехались по полям: кто боронить, кто пахать. А Гинтер говорит:
– Пойдем, бочки проверим…
Стали мы керосин в бочках замерять – железной такой линейкой с делениями – триста килограммов не хватает!
Я совсем духом пал…
– Это тебе урок! – весело говорит Гинтер. – За это тебе знаешь что может быть? Очень даже просто: тюрьма! Но ты не унывай, я тебя выручу. Поговорю с трактористами, что ты еще у нас неопытный, много наземь проливаешь, ошибаешься, – распишем на всех недостачу… ты только молчи.
Так и сделали вечером, когда все опять в будке собрались. Поворчали, конечно, трактористы, но Гинтер их урезонил. Я уж не знал, как его благодарить…
Через несколько дней наезжает к нам на своей тачанке директор МТС Либединский.
– Студент! – встречает он меня. – Подойди-ка поближе!
Сначала он долго смотрит на меня, все более краснея, самовозбуждаясь, как рак в кипятке, а потом спрашивает:
– Кто ты? Отвечай!
Я растерялся: действительно – кто я? Думаю и не знаю, что ответить. Какой ответ нужен Либединскому? Кто я здесь? Колхозник не колхозник, рабочий не рабочий, студент не студент, мальчик не мальчик, мужчина не мужчина… кто я?
– Кто ты? – орет Либединский и неожиданно сам отвечает: – Фашист ты! Ведь знаешь, а молчишь! На фронт хотел пролезть! А теперь тут саботажничаешь, вредительствуешь! Керосину, говорят, у тебя не хватает? А? – Я молчу. – Смотри у меня! Художник!
Так же внезапно, как начал, он кончает и идет к тачанке. Гинтер провожает его. Остальные – трактористы, прицепщики, маленькая, как девочка, повариха Домаха, всегда заспанный сторож Балута, задумчивый возчик горючего Анцобай Увалиев – смотрят на меня, кто ехидно, кто с сожалением.
Улучив момент, отзываю в сторону Гинтера.
– Что ж ты, – говорю. – Нажаловался?
А он злой, смотрит волком – неладно что-то:
– Трактористы, видать, нажаловались! А ты молчи! Не знаю – и все! – И пошел в поле, к тракторам…
И я ухожу – в степь.
Когда мне бывало очень тяжело, я всегда в степь уходил – к маленьким кустикам возле речки: здесь я находил спасительное одиночество. Особенно хорошо было здесь, когда светило солнце, – в затишье под невысоким крутым берегом – тепло и уютно…
Я снимаю на солнцепеке брезентовые штаны и куртку – остаюсь совсем голым, овеваемый нежным дыханием ветерка, – думаю о Либединском… и вообще…
Да, не один Либединский обзывает меня фашистом – Гинтер тоже. Но Гинтер – в отличие от других – произносит это слово с какой-то непонятной примесью то ли юмора, то ли поощрения – в изогнутой улыбке красных, всегда измазанных салом губ… Что на уме у Гинтера? Я не люблю его, и это тоже странно: ведь оба мы с ним на одной ступеньке… Гинтер – чувствую я – ненависти ко мне не испытывает, он просто презирает меня: за принадлежность к городу, за интеллигентность, за абсолютную бедность, за вшей. Он порой и кусок мне подбросит от своего обеда, но в то же время – понимал я – может меня в любой момент посадить – с таким же презрением, как бросает куски. Посадить, выгораживая себя, если надо будет… как с этим керосином, например.
Либединский другое дело: он ненавидит меня! Ненавидит как-то театрально, выспренне, с наигранной страстью, будто я сам Гитлер, и тоже, конечно, посадить может: не себя выгораживая, а просто так, ради театрального действа, в котором он призван быть режиссером…
«Да, приходится мне тут жить с типами, – тоскливо думаю я. – Хотел от них на фронт удрать, да не вышло. Навязали мне тут роль фашиста. Как когда-то в школе играл, в самодеятельности. Отец – помню – рассердился на меня страшно: «Чтоб ты мне никогда не играл таких ролей!» – «Так то же искусство, театр!» – «Никаких таких театров!»
«Что бы отец сказал сейчас? – думаю. – Про этот театр?»
И хотя все нутро мое восставало против навязанной роли, но я уже невольно свыкся с ней, покорно откликался на кличку, не спорил, не возмущался – ибо это было бессмысленно, недоказуемо, – вот в чем был ужас! «Называй человека верблюдом – долго и упорно, – у него горб вырастет!»
Конечно, если бы Либединскому кто-нибудь все объяснил, – кто-нибудь очень большой, авторитетный, непререкаемый – товарищ Ленин, например… Если бы товарищ Ленин вдруг приехал сюда, в этот глухой поселок под Семиз-Бугу, сошел бы в степи с тачанки – или нет, лучше с легковой машины, – сошел бы и сказал товарищу Либединскому:
– Ну, как вам не стыдно, батенька! Какой же Семенов фашист? Он же сын старого большевика, комсомолец, хороший парень! А вы его фашистом называете! Его место на фронте, это вы верно сказали: И я сейчас, сию минуту, отправляю Семенова на фронт! И его отец ведь уже на фронте, и мать… я знаю их: прекрасные коммунисты. Все это архинесправедливо, что тут творится, это недоразумение… Опомнитесь, батенька!
«О, если б так вдруг случилось! – с наслаждением мечтал я. – Либединский сразу бы все осознал. Перековался бы сразу, возлюбил бы меня – и вообще: сразу бы все вокруг стали бы настоящими коммунистами… все? О, нет, не все! – сам себе тут же отвечаю. – Далеко не все. Вот Гинтер, например…»
И я вспоминаю, как несколько дней назад в тракторной будке – кроме меня и Гинтера никого не было: трактористы и прицепщики пахали, повариха со сторожем уехали в поселок за продуктами, – Гинтер признался мне, что ждет сюда Гитлера… Спьяну признался, раздавив за обедом пол-литра…
73
Так Семенов рассказывал Лиде свою одиссею – по вечерам, или ночью, или днем, иногда сутками напролет, и чувствовал Он себя тогда самозваным Гомером. Она любила слушать – лежа ли в кровати, сидя ли за столом, позируя ли ему обнаженной или для портрета. А он полюбил ей рассказывать.
Иногда, лежа рядом с ней, он закрывал глаза – и ему казалось, что он лежит со всеми женщинами в мире, а не с одной Монной-Лидой. Вон ведь какая досталась!
– Загадка ты моя! – шепчет он.
– Уж ты ска-ажешь! – лукаво улыбается она.
Она всегда говорила: «Уж ты ска-ажешь».
– Честно! Никогда не знаю, какой ты завтра будешь… или через десять минут…
– Да я тебя ведь тоже не знаю, Петя! Кто тебя знает – что у тебя на уме – как ты говоришь: «в высшем-то смысле»… ну, ладно! Что дальше-то у тебя там было – в твоем колхозе… интересно…
Иногда – когда она, утомленная, засыпала, – он продолжал рассказывать мысленно – глядя в потолок или на нее – спящую…
74
– Ты о себе расскажи, – спрашивает он. – Как твоя-то жизнь складывалась…
– А что мне рассказывать, – задумчиво отвечала она. – Как захочешь что рассказать – и нечего… Тихая моя жизнь… короткая… на опилках росла…
– На каких опилках? – удивляется он.
– А в Мезени, на Белом море, – там весь наш поселок на опилках вырос. И дом наш стоит на опилках. По улице идешь – под ногами опилки, тротуары деревянные… Курить где захочешь нельзя – только возле бочек с водой. Деревья только распиленные в детстве видела, зеленых нету. Пожары часто бывают…
– Чего же так?
– Дак лес же у нас пилят! Доски. Уже много лет. А опилки остаются. Однако трава на них уже кой-где проросла.
– Интересно, – удивляется Семенов. – Посмотреть бы интересно…
– А поедем! У нас красиво! – воодушевляется она мечтательно. – Солнце летом не заходит – ночи белые-белые! А Белое море? Вот все Черное море хвалят, а по-моему, дак наше в сто раз лучше…
– Ты видела, что ли, Черное море?
– На картинах только… синее оно. А наше море летом всеми цветами горит! Будто мониста с неба упали! А зимой небо сверкает – от полярного сияния…
– Надо бы съездить когда-нибудь, – соглашается Семенов. – С кем ты живешь там?
– А с мамой… отец на войне пал… трое братишек школу кончают. Я им деньги посылаю, посылки…
– Что ж ты их бросила-то?
– Дак тепла захотелось, Петя… Да и денег я здесь больше заработаю, чем дома… Уж такая моя судьба – птицы перелетной…
Они лежат молча.
– Бедненький ты мой, – бормочет она, засыпая, – никто-то тебя там не любил, в колхозе… мужика такого… дураки они были…
– Самому мне не до того было, – отвечает Семенов. – Грязен был, вшив, подавлен… – Но она уже спит…
А Семенов вспоминает: Анцобая Увалиева он вспоминает – странного казаха, работавшего с Семеновым в тракторной бригаде. Кто его там действительно любил – так этот самый Анцобай Увалиев…
75
Под командой Увалиева была бричка и пара лошадей – на них он привозил из МТС горючее, отвозил туда пустые бочки и отчеты, которые составлял Семенов. Иногда они ездили в МТС вместе, когда Семенову почему-либо надо было наведаться в бухгалтерию.
Со своими лошадьми Увалиев обращался умело и заботливо, как настоящий потомок скотоводов. На самом деле он был учитель… странный учитель! – который добровольно бросил школу и пошел в колхозную бригаду простым возчиком. Увалиев был коренным казахом, родившимся здесь, под Семиз-Бугу. Вместе с тем он был чем-то непохож на других местных: казался Семенову мягче, добрее. Кто знает, – может, он потому и полюбил Семенова, что был, как и Семенов, белой вороной…
На фронт Увалиева не брали по болезни. Он всегда возил с собой в бутылках кумыс – хмельное кобылье молоко: им он от чего-то лечился. Но Семенов его никогда не расспрашивал: просто был ему благодарен за сочувствие и жалел его. И Увалиев Семенова тоже никогда ни о чем не расспрашивал. Иногда Семенов просто ему сам о себе рассказывал, и он всегда молча слушал. Но странно: его молчание имело силу утешения.
Что он болен, видно было по всей его фигуре и по лицу. Лицо Анцобая было желтым, и не росли на нем ни борода, ни усы. Кожа покрыта была мелкими сухими морщинками, особенно возле глаз, а на крутых выпуклых скулах она была гладкой и блестящей. И шел по правой стороне лица со щеки на шею странный розовато-белый шрам. И от этого ли, но всегда держал он голову склоненной на правую сторону, будто шея у него подрезана: он всегда повязывал ее косынкой. В глазах – коричневых, глубоко запавших – всегда горел затаенный огонь, смысл которого Семенов так до конца и не разгадал. Казалось, что это был огонь любви – к лошадям и людям. Семенов тоже всю жизнь любил лошадей – со времени тех самых своих прогулок в ночное, в детстве, на даче… С Увалиевым Семенов подружился тихо и незаметно, как-то между делом.
Один раз Гинтер опять послал Семенова в МТС с отчетом. Вместе с Увалиевым погрузили они на бричку пустые бочки, запрягли лошадей и покатили.
Степь вокруг незаметно и вместе с тем явно меняла зеленый цвет на рыжий, переодеваясь в осеннее, и гора Семиз-Бугу тоже меняла свою шкуру – она серела, чтобы скоро стать совсем белой, как и все вокруг. Степь шевелилась: это ветер гнал к Семиз-Бугу стайки курая – сухие колючие растения, в виде шара. Осенью они всегда срывались и скакали по степи, как живые, и оживала степь…
Увалиев сидит рядом с Семеновым на облучке, склонив голову набок, как нахохлившаяся птица, вполголоса понукает по-казахски бегущих лошадей: из МТС они всегда бежали весело – потому что домой, – а сейчас трусили лениво, хотя и порожняком. Пустые бочки гулко переругиваются между собой, колеса то шипят по песку, то стучат по мелким камешкам, то ровно катят по солончаку, лошади екают селезенками, фыркают, хлещут себя хвостами по бокам.
Дорога впереди пустынная, широкая и вольная – настоящая степная дорога – и сейчас, осенью, покрыта тонкими оранжевыми струйками пшеницы, осыпающейся с прошедших на элеватор хлебных обозов. Поэтому на пустынной дороге все время встречаются гуси: они выходят далеко за деревню, подбирая красными клювами оранжевые зерна. Большие, белые, жирные гуси, они медленно двигаются вперевалочку и, когда ты проезжаешь мимо, сердито шипят, выгибая толстые змеиные шеи.
Воздух над степью прозрачен и небо неуловимо далекое, как бывает только ранней весной и осенью. Ветер посвистывает в ушах, бричку потряхивает, Семенов думает о далекой Москве, и ему вдруг кажется, что едет он в детстве по Арбату – вместе с мамой на извозчике… Он едет в суете городской улицы, полной лихачей и прохожих, сверкают по обе стороны витрины магазинов с разными вкусными вещами, с красивыми одеждами – костюмами, кофтами, шубами… а извозчик покрикивает почему-то по-казахски…
Вдруг лошади останавливаются. Семенов открывает глаза. Впереди по ручью торчит саксаул…
– Костер будем делать, – сказал Увалиев. – Чай пить.
Он распряг и пустил пастись лошадей, а Семенов пошел за дровами к саксаульным кустикам, и скоро маленький костер в большой степи уже бесцветно горел в лучах осеннего солнца. В котелке над огнем нагревалась вода. Они сидели рядом на земле, подстелив ватные телогрейки – самую популярную одежду тех лет.
И тут Анцобай Увалиев совершил свой первый, от сердца, дружеский жест. Он развернул трогательный узелок – синий платок с рогатым казахским орнаментом – и разложил перед Семеновым удивительную еду: румяные казахские лепешки домашнего приготовления, баночку желтого масла и баурсаки – коричневые комочки сваренного в кипящем жире теста. Еще он достал две бутылки кумыса. Все это было в те голодные годы роскошью.
В первый момент Семенову стало неловко и он хотел было отказаться от угощения, тем более что и у него была с собой еда – просто кусок хлеба, который выдала перед отъездом повариха Домаха. С тех пор, как он приехал из Москвы, его еще никто не угощал подобными лакомствами. Местные украинцы потчевали иногда друг дружку в бригаде, но это нельзя было назвать угощением, потому что у них всех всего было вдоволь – и молока, и яиц, и масла, и сала с хлебом, – все это передавалось им из дому, и можно было сказать, что они в бригаде просто ели вместе, ничего взаимно не теряя. А тот, кто угощал таких вот бездомных одиночек, как Семенов, терял свое угощение безвозвратно, ничего не получая взамен. Этих полуместных украинцев Семенов называл «остепенившимися», но не в том смысле, что они стали серьезными и спокойными, – вовсе они не были уже такими серьезными и спокойными, если не считать подобных Барило, – они остепенились в том смысле, что стали степными: сначала долго ехали откуда-то из вишнево-яблочной Украины, с ее садочками, гаями, прудами и реками, потом бродяжили здесь, унавоживая собой солончаковую степь, подыскивая место возле редкой воды, переняв уже прочно во втором и третьем поколении обычаи и черты этой степи, сроднившись с ней. Украина осталась у них в песнях. Постепенно они обросли хозяйством, все опять завелось, кроме одежды, которая была здесь дефицитом, но вот – нет худа без добра! – одежду эту привезли им в войну москвичи, и киевляне, и люди других военных городов, конечно, не за так – за те же сало, масло и хлеб.
А тут эти неожиданно свалившиеся из рук Анцобая масло и хлеб лежали перед Семеновым – а он стеснялся их брать!
Но Увалиев мог обидеться – Семенов сразу увидел это по его грустным глазам, – а Увалиев увидел по глазам Семенова, как тот голоден. И тогда Семенов положил на расстеленный платок и свой кусок хлеба…
Белые гуси, роняя важное гоготанье, цепочкой проходили мимо по дороге, подбирая драгоценные зерна и косясь на людей злыми глазами. И тут Увалиев совершил свой второй благородный поступок.
Он захотел было заварить в котелке чай – и это было роскошью, потому что чая Семенов уже давно не видал, пил вместо него кипяток, заваренный листьями дикой степной земляники или поджаренными зернами ячменя, но, посмотрев на гусей, Анцобай вдруг улыбнулся, кивнув на птиц:
– Хочешь мяса?
Этого предложения Семенов никак не ожидал! Он мог ждать такого от какого-нибудь приезжего – от Юры Грека, например, с которым квартировал… Но от Увалиева! Конечно, Семенову хотелось гусятины. Но он ее боялся. Это ведь была не простая гусятина, не безымянно-колхозная. Эти гуси принадлежали казахам и украинцам. Каждый гусь был лелеем и холим, его растили, чтобы съесть в теплой зимней хате, каждый был на учете, у каждого была какая-нибудь метка: клочки разноцветных тряпочек или шнурков на лапках, или просто на белом оперенье чернильные полосы – хозяйское тавро, так сказать… За кражу такого гуся могли избить, и выгнать из дому, и посадить за решетку…
«Был бы я один, еще куда ни шло», – подумал Семенов, но тут же устыдился этой мысли, почувствовав к странному казаху необъяснимое доверие. И тот угадал его мысли.
– Ты не бойся, – сказал Увалиев. – Они имеют, а ты нет! Это несправедливо. Должен же ты тоже поесть мяса. Ты молодой. Я учитель, я знаю. Никто не увидит.
Он встал и оглянул степь зорким привычным взглядом. Но только Семиз-Бугу их видела, больше никто, а Семиз-Бугу не скажет, подумал Семенов с внутренней усмешкой. Много чего видела эта Семиз-Бугу – от Чингисхана до наших дней – и молчит!
Во рту сбежалась слюна. «А как поймаем?» – подумал Семенов, ведь гуся не так-то просто поймать.
– А как мы его поймаем? – спросил он взволнованно.
– Я знаю, – спокойно повторил Увалиев, глядя куда-то в сторону, в направлении саксауловых кустиков. – Я тебя научу.
– Учитель? – засмеялся Семенов, не переставая волноваться от принятого решения. Даже в животе заныло.
Анцобай тоже засмеялся.
– Учитель! – кивнул он, вскочил и побежал, почему-то к кустикам.
Там, возле саксаула, рос еще тал – длинные, с закрученными в колечки полусухими листьями прутья. Такой прут Увалиев и срезал и шел теперь с этим прутом легкой, пружинящей походкой навстречу гусям.
Подойдя к стае, он выбрал глазами самого жирного гуся и вдруг, взмахнув длинным прутом в воздухе, сильно ударил свою жертву по ногам – гусь кувыркнулся, – Увалиев схватил его, как коршун, и тут же свернул ему голову… о, какой поднялся возмущенный крик! Это гуси, очнувшись от удивления, медленно пошли за Увалиевым, оглушительно гогоча, вытягивая по земле шеи и хлопая крыльями. Они были возмущены до крайности и долго еще орали вокруг прокурорской толпой.
Потом они опять побрели вдаль подбирать зерна – когда их голый обезображенный товарищ уже заглядывал в кипящий котел, прежде чем нырнуть туда с головой…
76
– С тех пор я очень люблю гусятину! – громко говорит Семенов.
– А… что? – не понимает Лида спросонья.
– Гусятину люблю, – повторяет Семенов. – Жареную…
– Ладно, – бормочет она сонно. – Куплю завтра… на базаре… – и опять проваливается в сон.
– Да я не о том, – говорит сам себе Семенов. – Не о том я вовсе сейчас думаю…
Монна-Лида на его согнутой руке мерно дышит – ей, наверное, тоже снится какой-нибудь сон про белую ночь на Севере – в окно гримуборной смотрит непроглядная, усыпанная звездами, ночь Самарканда – а Семенов думает о сыпном тифе – как он тогда выжил? Ведь никакого лечения не было, никаких лекарств… «Здоровье мое железное, – гордо думает Семенов. – Иначе бы не поднялся…»
На другой день после того достопримечательного гусиного супа в степи, когда они с Увалиевым вернулись в бригаду, Семенов свалился в сыпном тифу… И не только он свалился, а многие, – началась эпидемия. Больницы в колхозе не было, и под нее заняли клуб – небольшое глиняное здание, где то кино показывали, то ссыпали пшеницу, когда места на складе не хватало. Больные лежали на набитых соломой матрасах – вдоль стен под окнами и в глубине – на маленькой узкой сцене…
77
Семенова поднимают ночью – он еще спит…
Фельдшер-усач тут – тоже из эвакуированных – и две местные новоиспеченные санитарки: маленькая повариха Домаха из тракторной бригады и высокая Ганна – из-под снега вырытая, – которая была с Семеновым в замерзании. «Вот ведь – живучая! – смутно думает Семенов, ворочаясь на тюфяке. – Замерзнуть могла, ан нет!
Даже тиф ее не берет…»
– Куда его такого, – строго говорит Ганна. – Умрет еще там… Хиба ж так можно…
– Нехай сходит, – говорит Домаха.
– Надо, надо, – суетится возле фельдшер-усач. – Вы не рассуждайте, поднимайте, как приказано… Держите его крепче, ведите…
Его повели к выходу – по узкому проходу меж торчащих голых ног. Больные лежали головами к стенам, страшные в накинутых простынях, – среди них, наверно, были мертвецы – к утру всегда находили мертвецов. Из глубины, от двери, выползали длинные дрожащие лучи коптилки: разбросанные по полу слабые жизни привязаны были, казалось, к этим тончайшим лучикам.
Поддерживаемый санитарками, Семенов медленно ковыляет на далекий огонек. Правая его рука повисла где-то внизу – на плече Домахи, левая торчит вверху – на Ганниной шее. Руки ломит. И ноги тоже. И кружится голова.
«Куда ведут?» – думает он с удивлением. Но и это удивление смутное, как и вообще все мысли. Его подташнивает от усилий, с которыми он передвигает ноги. Холодные струйки текут с головы – по шее – между лопаток…
– Мокрый-то какой, – говорит сверху Ганна. – Мысленно ли дело…
– Легче цыпленка! – отзывается снизу Домаха.
– Скорей, скорей! – слышен из-за спины Семенова – издалека – голос фельдшера. – Я сказал: не рассуждайте! А то не дойдет…
Приблизившись к выходу, они поворачивают влево – к бывшему кабинету завклубом – просто отгороженный угол. Теперь здесь кабинет фельдшера-усача. Из-за прикрытой двери пробивается свет поярче, но тоже колеблющийся, красноватый, живой…
Усач заходит вперед и распахивает дверь. На маленьком колченогом столе горит свеча, и за светом сидит кто-то, и в углу кто-то сидит. Пляшут тени, и тепло – от нагретой, пылающей в углу печки. Огонь гудит, потрескивают поленья.
Семенова сажают в середине малюсенькой комнаты на табурет. От ходьбы он устал, но и сидеть тяжело – болит позвоночник. Фельдшер-усач, загородив свечу от Семенова, говорит что-то сидящему за столом. Оказавшись в тени, Семенов разглядел в углу человека… да это же Гинтер! Тракторный бригадир! Семенов улыбается, хочет что-то сказать, хотя бы «здравствуй»… но Гинтер вдруг отрицательно мотает головой… Он тоже сидит на табурете, на нем пляшут отсветы от печки: губы сжаты, глаза впиваются в Семенова с непонятным вызовом, красный острый нос торчит – и опять мотает головой. Зажмурит глаза – мотнет – и опять смотрит… и опять мотнет… странно…
«Что это он – с ума сошел?» Гинтер в сапогах, в ватных брюках, в телогрейке, в руках шапка – не как Семенов: в одном белье… «Значит, Гинтер не больной…»
Фельдшер отходит в сторону, и свеча осветила Семенова и сидящего за столом, и Семенов видит, что это седой и худой казах с интеллигентным лицом… Красные щеки, белые усы и волосы… да это же прокурор!
– Фамилия… Имя… Отчество… Место рождения…
Семенов на все ответил с трудом, будто забыл самого себя.
– Предупреждаю, что за ложные показания будете нести ответственность по статье…
Семенов смотрит на Гинтера: тот опять мотнул головой, а потом стал глядеть в потолок.
– …заявления, поступившие от некоторых членов колхоза, трактористов первой бригады – Бариловой, Стрюковой, где вы работали учетчиком…
«В чем дело? Какие заявления? О чем это он?»
– «…и тогда Гинтер отвез эту бочку к себе домой, а на нас списал недостачу по договоренности с учетчиком Семеновым…» Вы слышите?! Вы признаете, что были в сговоре с бригадиром Гинтером и вместе с ним присвоили бочку в 300 килограммов горючего и списали недостачу на трактористов? Отвечайте!
«О чем это он? В каком сговоре? – Семенов вспомнил, как глотал керосин из шланга, заправляя трактора… он судорожно глотнул… во рту было сухо… – Керосина всегда не хватало, это точно! А-а-а, вот оно что!»
– Вы что – не слышите?
– Я…
Гинтер в углу отчаянно мотает головой…
– Я слышу… я… я не помню… керосина всегда не хватало…
– Не хватало?! Что вы хотите этим сказать? Вы долили его с Гинтером?
– Как – делили? Ничего мы не делили…
– Интеллигент, москвич… а до чего докатились!
И вдруг перед Семеновым возникает ощипанный гусь… которого они сварили в степи с Увалиевым… «А если ему и про гуся сказали?»
– Никакого гуся не было! – быстро заговорил Семенов. – Никакого гуся! То есть – был гусь, но мы не знали, чей он… То есть – знали: это был гусь Увалиева… Нет, не Увалиева…
Прокурор вдруг вскочил и ударил кулаком по столу – пламя свечи испуганно заметалось:
– Какой еще гусь? При чем тут гусь? Я вам говорю про керосин!
И тут Семенов падает с табурета…
Прокурор еще что-то кричит – на Семенова, и на Гинтера, и на фельдшера-усача, торчащего возле двери, но Семенов уже не слышит, о чем они там кричат… или шепчут…
Опять входят Домаха и Ганна, поднимают Семенова и волокут в холодную темноту клуба, пронизанную нитями коптилки, на его место – на сцене… и там он сразу проваливается в тяжелый, мучительный сон…
…Свистит ветер… Семенов скачет верхом в заснеженной степи… Он скачет от стада на ферму, прижимая к груди – за пазухой – мокрый дрожащий ком только что родившегося теленка. «Скорей бы успеть к дояркам!» – думает. Лошадь несется галопом по заснеженному ковылю. Холодно… но хорошо, потому что на холоде вши не кусаются.
Лошадь летит, воет в ушах ветер.
– Ты брось теленка-то, – говорит лошадь. – Быстрей поскачем!
– Как же я его брошу? А доярки? Да и посадить могут за это!
– Посадить – все равно посадят, – говорит лошадь. – Слышишь: мотор сзади рычит?
– Да… что это?
– На машине за тобой гонятся! Керосин у тебя отобрать… Да и на фронт ты хотел пролезть – шпионом…
– Я не шпионом… я с Гитлером драться хотел…
– Так тебе и поверят! Уж мне-то не ври…
– Что же делать?
– Теленка бросить!
– Не могу я его бросить! Жаль мне его! – Семенов крепче прижимает к груди скользкий ком новорожденного.
Мотор сзади все громче, лошадь ржет, стучит по мерзлой земле копытами…
– Давай, давай! Дорогая! – орет Семенов – и вдруг падает, взмахнув руками, пытаясь удержать теленка…
– Петя! Что это ты? – ворчит спросонья Монна-Лида. – Орешь… дерешься…
– Приснилось мне, – извиняется Семенов.
– Спать с тобой, Петя, трудно… вечно ты так…
– Говорю же – приснилось!
– «Дорогая» кричал… кто это, интересно, дорогая?
– Ну, ладно! Не твое дело!
Он поворачивается на другой бок, забывается… Звезды за окном подмигивают, кровать под Семеновым опять улетает куда-то…
– Подвинься, – говорит гора Семиз-Бугу, – а то мне места мало.
– Ты сама подвинься, я и так у стенки лежу.
Гора заполнила собой весь клуб – от дверей до сцены, – загородила окна, в клубе темно… Но он видит ее: огромную, задыхающуюся в тесных глиняных стенах. Гора наваливается ему на грудь в углу сцены.
– Тяжело, – говорит гора. – И у меня тиф. Вши замучили. Ползают, пашут, сеют, боронят, плодятся… сил моих нет! Вот и тиф…
– Тут нету вшей, – возражает Семенов. – Тут больница, – он отпихивает гору, но его руки тонут в мягком теле…
– Да ну хватит же! – сердится Лида. – Опять толкаешься…
«Слабы стали руки, – думает Семенов. – Разве ее спихнешь – гору? Странно, что она такая мягкая. Никогда бы не подумал!»
– Петя! – окликает кто-то, и Семенов видит, что это Эмилия Яцентовна. – Что ты так в угол прижался, Петенька? Ложись свободнее… отдохни…
– Тут гора Семиз-Бугу, – шепчет Семенов. – Все заполнила, разве вы не видите?
– Какая гора? – удивляется Эмилия Яцентовна. – Какой-то ты чокнутый! Я тебе тут поесть принесла… гусятины жареной… покушай…
– О! Спасибо… но разве это гусятина? Это же баранина…
Семиз-Бугу со всех сторон усмехается, мотает головой, как Гинтер, подмигивает – чтобы молчал!
Эмилия улетучивается.
– Ты не слушай, – говорит гора. – И не ешь! Это же тебе твою овцу принесли, которую ты на трудодни получил… Неужели ты своего друга есть будешь?
– Я ж ее Бариле отдал, когда меня в военкомат вызывали… Это он ее потом заколол, а мне прислал кусок жаркого с картошкой…
– Ну да! А это тебе еще остатки прислали… Как ты только можешь есть своего друга!
– Какой она мне друг – овца! На трудодни дали, да на черта она мне нужна. Кормить нечем было, я ее Бариле и отдал…
– Вот так бы тебя! – не унимается гора. – Хотя чем в тебе поживиться – одна кожа да кости!
Гора щупает его, наваливаясь.
– Пусти! – хрипит Семенов.
Ему душно.
– Ты скажи лучше, – спрашивает у горы Семенов, – что мне теперь будет? За керосин? – он перешел на шепот.