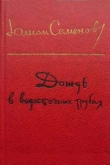Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Он уже был возле фонтана. Разноцветные струи воды шумели, поднимаясь к зацветающим звездам и падая обратно к своему подножию. Вокруг бетонного озерца вертелась нескончаемая пестрая толпа. Воздух над ней наполнен был водяной пылью. Она незримо ложилась на и без того мокрый костюм Семенова. Из глубины парка доносилось мелодичное танго с танцплощадки, резкие звуки кино под открытым небом, из которых ничего нельзя было понять, блестело между деревьев Комсомольское озеро – дрожащими отражениями фонарей… там орали на лодках песни. Еще слышал Семенов гулкие удары своего сердца. Он кружил в этом гуле, ища глазами ее лицо…
…Нежные пальцы тронули его сзади за локоть… он обернулся… большие глаза смотрели взволнованно, темный рот влажно улыбался… «Какая красивая, однако, – подумал Семенов. – И фигура!»
– Ну, вот, – сказала она. – Я пришла. Немного опоздала. Надо было от старика удрать…
– Молодец, – сказал он с колотящимся сердцем и взял ее за руку.
– Ты какой-то мокрый, – сказала она.
– Дождь, – сказал он глупо. – Я попал в дождь…
– От фонтана?
– От фонтана, – сказал он.
– Наверно, ветер был…
– Ну да. – Семенов облегченно кивнул, – Ветер как дунул – и весь фонтан на меня…
– Ты давно ждешь? – спросила она.
– Да нет… не очень…
Они шли от фонтана по оживленной аллее. Народу полно было: брели навстречу, обгоняли, стояли в очереди возле шашлычной.
– Куда пойдем? – спросил он.
Он не знал, что с ней теперь делать. Ходить просто так как-то глупо было. Семенов подумал о Грюне с женой, но денег на ресторан у него не было. В кармане мелочь: хватило бы только на кино.
– Может, в кино?
– В кино не хочу, – сказала она. – И на танцы тоже. Я в рабочем платье…
«Тактично не сказала, что другого нет», – подумал Семенов. Его рука во влажном рукаве согрелась от ее руки… Ему вдруг дико захотелось схватить ее, поцеловать, обнять, прижаться к ней, зарыться лицом в ее волосы, в грудь… и она вдруг прижалась к нему…
– Пойдем туда, – шепнула она, кивнув на темные заросли в стороне – за Летним театром. – Пойдем, посидим… посидим одни…
Она потащила его за руку… они пролезли сквозь кусты на краю аллеи, вступили на траву под деревьями. Здесь было уже совсем темно. Это была окраина парка: серела стена. Никакие звуки почти не доносились сюда. Она выпустила его руку, пошла вперед и уселась под деревом. Семенов сел рядом. Он был вне себя. «Ну, что ж ты, – сказал он себе мысленно. – Ну, что ж ты…»
– Что-то холодно, – сказала она вдруг.
– Холодно?
– Ну, да… осень ведь уже. Земля холодная. И ты – мокрый…
И тут Семенова осенило!
– Это мы сейчас наладим! – быстро сказал он, вставая. – Надо фуфайку принести! Как это я не подумал!
Ее глаза в темноте засветились удивлением.
– Фуфайку принести! – повторил он, осененный своей гениальной мыслью. – Это рядом… я сбегаю! Пять минут! Ты подожди!
Семенов нырнул в кусты и помчался по аллее. Все больше становилось людей, он вилял между ними как вихрь. Мгновение – и Семенов очутился за воротами. На улице было совсем пусто, и он понесся еще быстрее…
– Кошечкин! – влетел Семенов во двор училища. – Ко-о-шечкин!
Кошечкин испуганно вскочил с койки.
– Фуфайку давай! – заорал Семенов. – Холодно! Ей нужна фуфайка! Жди меня скоро!
Выхватив из-под Кошечкиной подушки фуфайку, Семенов помчался в обратный путь… мокрые плиты – арык – ворота – гравий хрустит под каблуками – фонтан – Семенов летел в черную глубину… вот это место! Он нырнул в кусты, прижимая к себе фуфайку… пробежал еще несколько шагов к заветному дереву… что такое? Под деревом никого не было! Темно и пусто… темно и пусто… вот тут же она сидела, вот тут, еще трава примята – Семенов потрогал рукой траву, и она показалась ему теплой… Он оглянулся: темные стволы деревьев молча окружали его, и ему показалось, что они улыбаются… Сквозь черную листву просвечивали подмигивающие звезды… Сердце Семенова упало куда-то в ворох осенних листьев… он потерял его… сердце потерял…
«Как ее звать-то? – спохватился Семенов. – Не знаю, как звать!»
– Эй! – позвал от тихо. – Тут фуфайка…
Ответа не было…
– Охламон! – шипел Кошечкин, когда Семенов вернулся. – Зачем ты за фуфайкой-то побежал? Дело в шляпе, а ты за фуфайкой… Надо было на месте оставаться и действовать… Тем более – в темноте! Балда ты! Ни натурщицу не достал, ни просто бабу!
– Ты только не говори никому, – попросил Семенов.
– Ладно уж… Найдем ее завтра, сходим в ларек… я за это отвечаю!
Но ни завтра, ни послезавтра они ее нигде не нашли. Или выгнал ее старик узбек, или спрятал, или она сама ушла – неизвестно. Узнать они ничего не смогли, потому что старик перестал с ними разговаривать.
23
Семенов щелкнул зажигалкой и раскурил трубку, глядя в потолок палатки, по которому все еще дождь постукивал. Посмотрел на часы, в прошлом году в Швейцарии купленные, в загранкомандировке: 8 часов… Он вспомнил, как покупал эти часы в маленьком уютном магазинчике. Художник-башкир, который был с ним вместе в делегации, ужаснулся цене часов – четыреста франков! «Ведь четыре пары сапог можно купить! А сколько рубашек!!!» – «Мне нужны лучшие в мире часы, – возразил ему Семенов. – И теперь они у меня есть». Семенов любил хорошие вещи: после долгих лет нищеты. Но об этом он ничего не сказал башкиру… На другое утро, за завтраком в гостинице, башкирский художник сказал Семенову: «Я всю ночь о ваших часах думал… и знаете что: я решил, что вы правильно поступили, купив их. Вы большой художник, наш советский классик, и вы здесь всюду ходите и смотрите на часы, и вам не годится по дешевке время сверять… Пусть швейцарцы видят! Я это понял».
«Хороший парень этот башкирец!» – улыбнулся Семенов. Он затягивался сладким дымом, следя за синими струйками, поднимавшимися к потемневшему, намокшему от дождя потолку…
«И трубка тоже прекрасная, – подумал Семенов, любовно оглядывая ее. – Тоже лучшая в мире».
Это был английский «Данхилл», ее он в Лондоне приобрел.
– Да, поездил я в последние годы немало! – сказал он. – Знают меня в мире… Имя я себе сделал, теперь только работать.
Он вспомнил, как в начале карьеры, когда он окончил институт, знакомый поэт-переводчик Фима Гробнер, муж первой семеновской любви – не Лиды, а совсем другой женщины, с которой он в начале войны расстался, а потом опять встретился, когда она уже за Фимой замужем была, – так этот Фима говорил ему: «Имя тебе надо сделать! Это в искусстве главное!» Этот Фима считал, что у него-то оно есть, это имя. И страшно воображал. Но Семенов еще тогда понимал, что никакого имени у Гробнера нет и не будет… Его, конечно, знали в писательских кругах, но был этот Фима плохим поэтом и плохим переводчиком: ни одного языка не знал, переводил по подстрочникам… «Это все равно что я копировал бы картины с закрытыми глазами, – подумал Семенов. – Халтурщик он, этот Фима! Имя мне тоже! Фима – Фима и есть!»
Семенов засмеялся злорадно. Сейчас Фима совсем на нет сошел, переводит, правда, как электронная машина, и денег кучу заколачивает – но никто его всерьез не принимает. И жену Гробнера – первую семеновскую школьную любовь – тоже смешно звали: Сима… «Сима и Фима – два сапога пара!» – подумал Семенов. Имел он против них многое, да ладно, неохота вспоминать…
Он положил горячую трубку в пепельницу возле изголовья постели – переменил положение – лег головой на правый локоть, ноги поджал – и опять задремал под усыпляющий звон капель. В последнее мгновение он подумал о том, что надо бы занести в палатку пару полешек – от дождя, – но тут же забыл об этом…
24
Рядом с ним, по длинному полутемному коридору, шел Альбрехт Дюрер – великий немецкий художник. Дюрер был и выше, и стройнее, и казался моложе Семенова, хотя был старше на два года. Не говоря уже о тех веках, которые прошли после смерти Дюрера. На нем был коричневый камлотовый кафтан, отороченный черным бархатом и блестящими собольими шкурами, на голове красный берет с белым страусовым пером, колыхавшимся от ходьбы. И волнистые локоны из-под берета тоже колыхались, падая на широкие плечи, отливая золотом. Горящие глаза Дюрера и его «четырехугольный» – как выражались древние – нос смотрели вперед, куда они оба шли.
С одной стороны коридора были полукруглые окна в глубоких нишах, стены толщиной в метр. И оконное стекло было толстое, зеленоватое, сквозь него ничего не было видно, только струился снаружи рассеянный мягкий свет. Окна напоминали пчелиные соты из-за частых металлических переплетов. С другой стороны вздымались – через равные промежутки – высокие двустворчатые двери, и стояли меж ними, прислоненные лицом к стене, холсты на подрамниках.
«Мастерские, – понял Семенов. – Огромный, видать, дом. Как у нас в Москве на Масловке».
Проходя мимо полуоткрытой двери, Семенов мельком заглянул в нее – мелькнула темная фигура у мольберта, коричневые пейзажи на стенах…
– Хороший художник? – спросил Семенов.
– О, да! – громко ответил Дюрер. – Очень! Очень хороший художник!
Он произнес эти слова отчетливо, почти по слогам. Но когда они миновали эту дверь, а до другой оставалось еще много шагов, Дюрер наклонился к уху Семенова и быстро прошептал:
– Отвратительный художник! Бездарь! – и опять пошел вперед как ни в чем не бывало, с беспечной улыбкой на губах.
«Как мало изменилось за эти века!» – тоже улыбнулся Семенов.
Они остановились перед темной дубовой дверью, за которой тускло светился медью знак Дюрера, каким он подписывал свои картины, вот так:
– Я не помешаю? – на секунду замешкался Семенов.
– Прежде всех и во всякое время, любезнейший Семенов! Вы можете доставить мне одно только счастье! – Дюрер широко распахнул дверь. – Разопьем, по-дружески, бутылку рейнвейна!
Они вошли и присели к огромному столу посреди комнаты. На голой, грубой поверхности его стояли вазы с кистями, плошки с растертыми красками, лежали листы толстой бумаги с набросками карандашом. Еще на столе стояла темная бутылка вина и два бокала. В комнате был все тот же рассеянный свет. Окно было справа, на противоположной стене за длинным столом темнели картины в золоченых рамах. Шкафы и мольберты нежно тонули в глубине комнаты. На стене слева от себя Семенов узнал Носорога в узкой раме. Семенов любил этого Носорога…
Дюрер налил тягучего красного вина в гравированные хрустальные бокалы и, широко улыбнувшись, поднял свой – Семенов подивился изящным пальцам Дюрера, – они чокнулись и выпили.
– Как это странно – что мы дружим, а вместе с тем вы мне только снитесь! – сказал Семенов. – Я вам, интересно, снюсь или нет?
– Вы мне не можете сниться, – вежливо сказал Дюрер, и в голосе его звучало глубокое сожаление. – Живой из нас – физически – только один: вы, и поэтому только вам мы оба и можем сниться. – Дюрер и не думал упоминать слово «умер». – За эти сны я вам сердечно благодарен, маэстро! – продолжал он. – Но не все ли равно, кто кому снится: важно, что я вижу вас в вашем сне и что мы оба вместе! И разговариваем! И мне не так скучно, дружище!
– Это верно, – кивнул Семенов. – Но вы жили пятьсот шесть лет тому назад… как все-таки возможна наша дружба? И свидание?
– А потому что в вашем сне и проходит вся эта разница лет! – рассмеялся Дюрер. – Очень просто!
– Действительно, – сказал Семенов. – Но в дальнейшем-то…
– А черт с ним, с дальнейшим! – махнул рукой Дюрер и тут же быстро перекрестился. – Живите мгновением, мой друг, но работайте для вечности!
Они опять чокнулись и выпили.
– Между прочим, – таинственно сказал вдруг Дюрер, наклонившись из кресла к Семенову и глядя на него пристально – обеспокоенным взглядом. – Между прочим, и я часто вижу сны… которые меня очень мучают… Я их тогда зарисовываю, чтобы они меня не так мучили, вот – взгляните…
Дюрер взял со стола и протянул Семенову продолговатый лист бумаги. Внизу что-то было написано мелким готическим шрифтом, от руки, а сверху был зеленоватый пейзаж акварелью – пологие пустынные холмы с редкими домиками в зелени деревьев и надо всем этим какой-то темный столб, уходящий в небеса, с растекающимся клубами по земле основанием… вокруг были еще столбы, идущие сверху и не доходящие до земли, наподобие гигантских сосулек…
– Вчера ночью я видел этот вот сон, – сказал Дюрер. – Нарисовано точно…
– Атомный взрыв? – удивился Семенов.
– Вода, – сказал Дюрер. – Я видел, как хлынуло с неба множество воды. И первый поток коснулся земли в четырех милях от меня с великой силой и шумом, и расплескался, и затопил всю землю… Вода низвергалась с такой высоты, что казалось, она течет медленно. Но как только она коснулась земли и стала приближаться, она стала падать с такой быстротой, и бурлением, и ветром, что я страшно испугался и задрожал всем телом… тут я проснулся от страха. Когда я встал утром, я все это точно зарисовал, – он опять перекрестился. – Боже, обрати все к лучшему!
«Крестится не по-нашенски», – отметил Семенов, внимательно разглядывая рисунок.
– Это атомный взрыв, – повторил Семенов свою мысль. – И нарисован он совершенно точно! Конец света, который вы ожидали в тысяча пятисотом году, наступит, очевидно, в двадцатом веке… вы пророк, Дюрер!
– Ну а что это такое, если не вода? Какой взрыв? – спросил Дюрер со страхом. – Разве он уже был?
– Первую атомную бомбу взорвали американцы над Японией в 1945 году. Это только прелюдия… о принципе атомного взрыва я могу вам рассказать потом, не в этом дело… Дело в том, что таких бомб сейчас у человечества десятки, и весьма возможно, что в них и скрыт пресловутый «конец света»… и вы предугадали все это! Поразительно!
– Отвратительно! – сказал Дюрер. – Счастье, что я до этого не дожил, но все равно отвратительно! – Он сунул рисунок в кипу бумаг. – Не будем об этом говорить.
– Не будем, – согласился Семенов. – Тем более что я давно хотел попросить вас об одолжении…
– Охотно исполню, – откликнулся Дюрер. – Если это, конечно, в моих силах…
– Я хотел бы, чтобы вы подарили мне одну из ваших кистей, которыми вы пишете локоны…
– О! – улыбнулся Дюрер. – Пожалуйста!
Он встал и, протянув обе руки к вазе с кистями, вынул их и протянул Семенову.
«Какую же взять, – подумал Семенов. – Все кисти прекрасны!»
– Что это за волос? – спросил Семенов.
– Куница. Красная куница, как раз для писания волос, – пояснил Дюрер и тут же добавил: – Возьмите любую, даже две… но не в этом дело. Каким бы волосом ни писать волосы, – улыбнулся Дюрер, – необходимо еще кое-что…
– О, разумеется! – тоже улыбнулся Семенов. – Но хорошая кисть – это вещь! Я возьму две… – он выбрал две кисти – круглую и плоскую – и продолжал слушать Дюрера, держа кисти в руке.
– Вы берите на кисть сразу несколько красок, – говорил Дюрер, отставив вазу на стол. – Подбирать тон на палитре и класть потом на холст все время не следует. Вы старайтесь писать свет живописным тестом, смешивая краски на холсте… или на бумаге, если хотите… Вы, кажется, любите акварель?
– Люблю, – кивнул Семенов.
– Тогда смешивайте краски на бумаге, но берите их на кисть раздельно… И здесь краски в дальнейшем как бы спаиваются, входят одна в другую. Каждый мазок и все мазки в целом приобретают единство. Вот еще интересно: цвет картины со временем изменится, достигается единство большого цвета, его мощное, материальное звучание… краски живут! И мочите бумагу, работайте на мокрой, впитавшей влагу бумаге. Больше воды! Ну, а теперь выпьем!
25
– Давайте! – согласился Семенов.
Он протянул руку с бокалом, чтобы чокнуться, и вздрогнул… перед ним был вовсе не Дюрер в его шикарном камзоле, а преподаватель живописи Гольдрей – в грязной, помятой клетчатой рубашке с закатанными на волосатых руках рукавами, в тюбетейке на лысой голове. На красном выпуклом лбу Гольдрея блестел знакомый лиловый блик. Откуда-то доносился плач муэдзина, в большое окно заглядывали узорной тенью виноградные лозы. После тяжелой лихорадки, которой заболел Гольдрей, Семенов перетащил его к себе, и они временно зажили вместе…
Айзик Аронович Гольдрей – старый ребенок, он красен, как новорожденный, хотя ему уже шестьдесят лет. Такой красный он оттого, что постоянно пьет гематоген – концентрат бычьей крови, продающийся в аптеке. Семенова поражает это пристрастие к бычьей крови. Но Гольдрей хочет быть здоровым, тем более что у него никого нет и заботиться о нем некому: он старый холостяк. Лицо Гольдрея выражает безграничную мировую скорбь. Он окончил Ленинградскую Академию художеств, преподавал в ней, а в начале войны эвакуировался с академией в Самарканд. Когда академия опять уехала, он стал преподавателем Самаркандского училища. В Самарканде солнце, тишина и отрешенность. Запад опротивел Гольдрею, он не хочет туда возвращаться. В свободное время Гольдрей пишет композицию – как немцы повесили на оккупированной Украине его мать и сестру. Уже несколько лет пишет и никак не кончит. Семенов думает, что Гольдрей ее никогда не кончит. Так и уйдет со своей композицией в могилу.
– Вы опять разговаривали во сне с Дюрером, – осуждающе говорит Гольдрей. – Лучше поговорили бы с Рембрандтом, вам это было бы полезнее… Но вы же любите Дюрера.
– Люблю, – соглашается Семенов, садясь в одних трусах на кровати.
Гольдрей переступает перед ним с ноги на ногу. Он всегда переступает с ноги на ногу – и в классе, и дома, и когда его на улице встретишь. В этом раскачивании есть какая-то нерешительная решительность. И еще этот театральный жест.
– Вы опять проспали, Семенов, – говорит Гольдрей, указывая жестом на осенний натюрморт на столе. – Я не хотел вас будить, но освещение скоро уйдет…
– Что вы, Айзик Аронович! Я готов!
Семенов вскакивает, натягивает штаны и рубаху, залезает ногами в брезентовые туфли.
Они уже неделю пишут по утрам натюрморт – с шести часов утра до занятий в училище. Натюрморт поставлен обильный, как это любили малые голландцы. И Гольдрей тоже любит. Чего только нет в этом натюрморте: ваза с красными и белыми астрами, килограммовые гроздья желтого и черного винограда, зелено-розовые яблоки, киноварные помидоры, лиловые баклажаны, репчатый коричневый лук, взломанные бомбы граната с красными зернами осенней иллюминации внутри – и перед всей этой грудой – наклоненный к зрителю чугунный казан с темной водой и перед ним две ржавые селедки; все это разбросано посреди ниспадающих сверху складок золотисто-коричневой драпировки. Соответственно красуется все это – уж вроде бы законченное – на двух огромных холстах, закрепленных на мольбертах, принесенных Семеновым из училища.
Наскоро сполоснувшись во дворе, в прохладной утренней тени виноградника, Гольдрей и Семенов усаживаются за мольберты. С вечера у них все приготовлено: вычищены середины палитр, вымыты кисти, налито масло в масленки.
Семенов искоса смотрит на гольдреевский холст, потом на свой, думая: с чего бы продолжить?
– Вы бы поели, Семенов, своей овсянки, – полуехидно, полусочувственно говорит Гольдрей.
От этих слов Семенову становится тошно: вон его овсянка – на саманной плите в углу комнаты – синяя каша в чугуне…
– Я еще с вечера сыт, Айзик Аронович. Вечером хорошо поужинал…
– Вы напрасно, Семенов, так презрительно относитесь к овсянке, – говорит Гольдрей. – Вот вы смотрите: лошади едят овес, и какие они сильные!
– Я пока подожду, – отнекивается Семенов. – И натощак я лучше цвет вижу…
– Ну, ладно! – обрывает его вдруг Гольдрей. – Давайте сосредоточимся…
И Семенов пытается сосредоточиться на лессировках – но Гольдрей сбил его своим напоминанием об этой проклятой овсянке. Нехорошо так ругать еду, но очень уж она противная – без масла. И почему она к утру становится в чугуне такой синей? Как берлинская лазурь! Ее можно есть, только когда уж совсем невтерпеж от голода, и то тошнит. Гольдрей остроумен, спору нет, и вместе жесток. Сам-то он пойдет перед занятиями в закусочную: «мустафу» трескать… Это такой густой узбекский суп, называемый «мастава», но Гольдрей зовет его «мустафа». Смешно! Гольдрей вообще любит переиначивать слова, вместо «кошма» он говорит «корчма»: «куплю я себе корчму, – часто повторяет он Семенову, – на ней очень удобно спать». На поправки Семенова Гольдрей не реагирует. Со временем и Семенов стал называть кошму корчмою, а маставу – мустафою. Да это и не важно в Гольдрее: в нем важно, что он действительно живой Бог Живописи! Это счастье, что Гольдрей заболел и Семенову удалось взять его к себе. Нет худа без добра. Для Семенова. А может быть, и для Гольдрея. Все студенты завидуют Семенову: жить с таким учителем хотел бы каждый! Но Гольдрей не стал бы жить ни с кем другим, он это сам Семенову сказал. «Вы, Семенов, культурный человек, – сказал Гольдрей, – хотя вас уже и здорово попортила жизнь. В этих ваших разных Карагандах. Но чувствуется, что у вас были интеллигентные родители. С вами, Семенов, есть о чем поговорить. Потому что вы талантливый человек…»
– Ну, и о чем же вы говорили с вашим Дюрером? – прерывает Гольдрей мысли Семенова.
– Да так, – улыбается Семенов. – О живописи говорили. И об атомном взрыве…
Гольдрей с удивлением смотрит на Семенова – его волосатая рука с зажатой в пальцах кисточкой повисает в воздухе.
– У Дюрера есть такой рисунок, – поясняет Семенов, – низвержение воды с неба. Очень похоже на атомный взрыв, и вот я…
– Удивительный вы все же человек, Семенов! – сердито перебивает Гольдрей, опуская кончик кисти на холст и колдуя над изображением воды в чугуне. – Вы мне это объясняете, как будто я не знаю этого рисунка Дюрера…
– Я вовсе не хотел… – бормочет Семенов.
– Нет, вы меня слушайте, Семенов, – говорит Гольдрей, кладя мазок на селедочный хвост, и, откинувшись назад, вертит, как индюк, головой; Семенов давно заметил, что Гольдрей похож на индюка. – Вы меня слушайте и не перебивайте! Ваш Дюрер, конечно, очень хороший мастер, но суховат… и не спорьте!
Семенов вовсе не собирается спорить. Он тоже внимательно кладет мазки на холст – на селедочный хвостик, на ржавую чешую.
– Ваш Дюрер, конечно, гений, – Гольдрей долго смотрит на селедку из-подо лба и, прежде чем положить мазок, несколько раз взмахивает кистью в воздухе. – Но вы знаете, что я не люблю немцев…
– Но Дюрер… – пытается вымолвить Семенов.
– Я знаю! – повышает голос Гольдрей. – Дюрер гений! Но он немец. А после того, как немцы повесили в оккупации мою мать и сестру – я вам показывал их портреты, – после этого я ничего не могу с собой поделать… немцы вызывают у меня… вызывают у меня…
– Я вас понимаю, Айзик Аронович, – говорит Семенов.
Ему жаль Гольдрея. И мать Гольдрея жаль. Сам он в этот же момент думает о том, что его – Семенова – матери конец тоже печален. Она умерла одна, без него – в 41-м году… Но Семенов никому о ней не рассказывает…
– Ну, если вы меня понимаете, то пишите! – сердится Гольдрей. – И вообще: за работой не болтайте! Думайте о цвете. У вас еще много работы.
Они умолкают, подбирают кистями краску на палитрах, кладут мазки – и опять молчание нарушает Гольдрей:
– Почему вы не пишете селедку, Семенов? Оставьте яблоки в покое!
– Но я не знаю, что с ней еще делать, с этой селедкой! – говорит Семенов. – Я ее, по-моему, кончил…
– А по-моему, вы ее не кончили! И вообще: что значит для вас – кончить? Я вон и то еще не кончил, а посмотрите, какая у меня селедка? А?
– У вас прекрасная селедка, – искренне говорит Семенов. – А у меня не получается…
– Это вы бросьте, Семенов! И у меня не замечательная селедка, а материальная! Это потому что я взял правильные соотношения цветов! Теплых и холодных! Видите?
Семенов кивает.
– Между прочим, ваш Дюрер, Семенов, достигал на холсте такой материальности, что возникала полная иллюзия того, что он изображал! Один раз он так тщательно написал на картине паутину, что служанка долго пыталась стереть ее тряпкой! И чем он этого добился, ваш Дюрер, как вы думаете?
– Цветом… – робко говорит Семенов.
– В том-то и дело! А в другой раз он так живо нарисовал жука, что, когда поставил картину сушить на солнце, слетелись птицы и захотели этого жука склевать! – Гольдрей торжествующе поднимает кисть. – Вот какой это был виртуоз! Но вы мне опять мешаете, черт возьми, Семенов! Пишите и не болтайте! Вы мне не даете сосредоточиться!
Опять наступает гробовая тишина.
– А в отношении – кончить, – говорит Гольдрей, – вы тоже ошибаетесь. Ваш Дюрер, например, умел писать картины без конца и всегда находил, что там еще можно сделать! А вы говорите, что вам нечего делать! Позор!
Семенов уже ничего не отвечает. Он кладет мазки на эту чертову селедку – почти бессмысленно – и только начинает тихо насвистывать…
– Ну, вот! – Гольдрей с остервенением кидает кисть в этюдник. – Теперь он свистит! Этого еще не хватало! Нет, с вами определенно нельзя вместе работать!
Гольдрей встает. Он весь красный, еще более, чем всегда.
– Ну, ладно, – успокаивается он. – Пора в училище. Я пойду вперед, мне надо еще… кое-куда зайти… А вы смотрите не опаздывайте на занятия!
Обтерев руки, он сразу же уходит. Семенов знает куда: в закусочную на базаре – есть свою «мустафу». А Семенов берет табуретку и подсаживается к плите, на которой стоит его синяя каша. Ничего не поделаешь. Он глотает медленно, запивая водой: ест, сколько может выдержать.
Завтра утром они опять будут писать. С Гольдреем кончить не так-то просто: иногда он пишет натюрморт целый месяц, уж когда и фрукты завянут… Странный человек этот Гольдрей: и кричит, и жадный – но его нельзя не любить. Семенов знает, что Гольдрей его тоже любит. Иначе он не писал бы с ним натюрморт…
26
– Пойду искупаюсь, – решил Семенов. – А потом уж ловить…
Он вылез из палатки: светило солнце и побрызгивал редкий дождичек. Он посмотрел на часы: 9 часов 45 минут…
– Нет, сразу же спиннинг возьму! Искупаюсь – и ловить.
Семенов вытащил чехол со спиннингом из-под крыла палатки, где он лежал в траве, развязал на чехле шнурки, вынул четыре колена, соединил их и взмахнул удилищем – оно упруго просвистело в воздухе тонким кончиком. Отличная вещь! «Мой ветеран борьбы за семгу», – подумал он.
– Сколько рыбин я им вытащил? – спросил себя вслух Семенов, хотя прекрасно знал.
В боковом кармане рюкзака лежал заветный альбом, который он всюду возил с собой: в альбоме описана была каждая пойманная семга; некоторых, особенно крупных, он зарисовывал акварелью.
– Двенадцать семг! – вслух, наизусть подсчитал Семенов. – Маловато за всю-то жизнь! Хотя, с другой стороны, и немало, если подумать, сколько я провел здесь, на Севере, месяцев… По месяцу в год – восемь лет – восемь месяцев… неплохо! Если б я всю жизнь сюда ездил, а то ведь сколько времени потеряно вдали от России! Почитай, полжизни. И вся юность. Вот так. Так что не плачь! – упрекнул он сам себя. – На этот раз поймаю тринадцатую семгу! И еще должен поймать. Надо перевыполнить план, не говоря уже о хариусах… сколько хариусов я выловил – и не подсчитаешь…
Говоря все это, Семенов оснащивал спиннинг: прикрепил катушку с леской, продел ее сквозь агатовые кольца до конца удилища, прицепил блесну. Она серебряно затрепетала, отражая солнечные лучи. Прислонив спиннинг к палатке, Семенов положил в карман железную коробку с запасными блеснами – для семги, – большой поплавок и прозрачный конверт с поводками и искусственными мушками – для хариуса, – взял в левую руку, под мышку, свернутый резиновый комбинезон и пошел по высыхающей траве к реке, неся спиннинг в правой руке кончиком вперед. Все это он проделал размеренно, хотя внутренне спешил, удерживая себя от этой спешки. Он всегда так делал: спешил, удерживая себя от спешки. В сознательные моменты, конечно. В этом была своя прелесть: во внутренней спешке, и в желании, и в тормозе, и в предвкушении того, к чему спешишь. Так и сейчас. Его правая рука уже чувствовала грядущие поклевки, мышцы невольно напрягались, сердце стучало сильней, перед глазами мерещились бьющиеся в траве хариусы, мощная спина семги над водой… круги по воде от ударов хвоста… черт возьми, скорее бы!
Река навстречу ему ревела все громче, пряча в этом монотонном реве всех своих рыб, солнце припекало в спину и уже немного сбоку – передвинулось к югу – несколько оводов ударились в лицо, защекотались комарики – но мало их было сейчас, чепуха! Сейчас и купаться-то намного проще: в июле, как только разденешься, сразу комары и оводы облепляют – страшно раздеваться и потом из воды вылезать. Сейчас, осенью, – одна прелесть!
Семенов присел возле самой воды на большой камень, положил рядом в траву комбинезон и спиннинг – прислонив его кончиком к валуну, – быстро стащил блестящие от дождевой влаги сапоги, снял штаны, трусы, куртку, рубаху – все он бросил, как попало – и побежал голый в воду – уже без тормозов! Тут тормозить нельзя было: во-первых, вода как лед, во-вторых – комары и оводы: хоть мало их, а все-таки.
Семенов перепрыгивал в ледяной воде с ноги на ногу – хотел поскорее нырнуть – уже ломило колени от холода – вот она наконец, голубая яма! Семенов нырнул в нее, глядя под водой, стараясь выдержать подольше, – у него захватило дух – он выскочил как ошпаренный и поскакал к берегу…
С трудом добежав до своего камня, уселся на него, блестя на солнце мокрой розовой кожей. Он с трудом переводил дыхание, не обращая внимания на комаров: в груди ломило. Семенов нашарил в кармане брошенной куртки ампулу, дрожащими пальцами открыл ее. Просыпав половину зернышек в траву, он закинул три под язык.
– Купальщик из меня стал никудышный! – сказал он свистящим шепотом, стуча зубами, и стал одеваться. – В этой воде никто долго не выдержит…
Он когда-то выдерживал в ледяной воде по четыре минуты. Надо бы опять достичь, постепенно…
Вместо сапог он натянул на мокрые брюки и рубаху резиновый комбинезон – доходивший до груди, – закрепил его на подтяжках и сверху надел куртку… вот так! Отдохнем немного…
Семенов смотрел на мчавшуюся по камням реку, в которой только что барахтался. Пережидая в груди боль, он искал глазами на водяной поверхности мгновенные изломы, которые, возникнув, должны быстро уплывать и таять кругами: от играющих рыб. Но таких живых трещин не было. «К погоде, что ли, не играет она», – он оглянулся на верхушки гор: остатки туч еще висели на них, но вид у них был обреченный.
27
Боль в груди кончилась, а Семенов все сидел, ждал чего-то. Он думал о внутреннем тормозе и внутренней спешке – о желании и о тормозе. Не только в рыбалке он себя так вел, не только в живописи – перед новой картиной, – но и в любви тоже… Любовь та же охота! Сейчас он охотится только в живописи да здесь, на рыбалке. В любви он охотиться перестал. Фима и Сима говорили: «Всегда надо в кого-то снова влюбляться. Жена женой, муж мужем, а влюбляться надо. Иначе закиснешь, работа не пойдет…» Бред какой-то! Он уже давно ни в кого не влюблялся, а работа идет – лучше не надо! Пошляки! Он любит свою жену, детей – мальчика и девочку, жаль, маленькие еще… Мать свою любит, хотя ее давно уже нет. Можно ведь любить и того, кого давно нет!