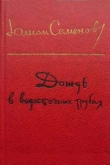Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Но ведь есть и самая простая свобода: свобода передвижения в пространстве – так сказать, внешняя, – с ней-то как быть? Если ты куда-нибудь не волен пойти или поехать, то уж ничего не поделаешь, и никакая внутренняя свобода тебе не поможет, и никто не поможет. Будешь сидеть! Имеется в виду: на месте.
Семенову как-то более по душе были слова Гёте: «Необходимость – это Бог», – но ведь и этот Бог соткан из случаев! И Семенов боготворил случай – преклонялся перед ним, заигрывал, заискивал – жизнь научила, – но не любил. Ведь боготворить – еще не значит любить. Порой Семенов покорялся случаю с радостью, порой в меру необходимости, порой боролся со случаем – но всегда верил в его величие…
146
Семенов уже взобрался на первую скалу и сидел на ней под кривыми, измученными вечными ветрами елочками – отдыхал от крутого подъема.
Вершина этой первой скалы и вершина второй – ниже по течению – над поворотом реки – были ярко освещены лучами спускающегося к горизонту солнца, а в глубокой впадине между скалами – где бурлила вокруг скального обломка река, вымывая в гранитном дне семужную яму, – там уже наполнилось все прозрачной тенью, и тянуло оттуда сырым речным холодом.
Еще заметил сверху Семенов, что вода в яме уже не такая ярко-зеленая и пена не такая чисто-белая – помутнел Вангыр от прошедшего ливня. Зелень воды отдавала желтизной, и пена отдавала желтизной, будто отражала небо, – но это было не отражение, а горная муть…
Было тихо – как часто к вечеру – ни ветерка… И Семенов забылся на солнцепеке…
147
…Мастерская полна народу: сидят за длинным столом вдоль окон, стоят, группами, прохаживаются вдоль увешанных картинами стен. В воздухе гул голосов…
Приглядевшись, Семенов увидел, что все здесь свои. Даже враги свои. Мирно беседуют в углу Гольдрей, Барило, Лев-Зайченко, директор МТС Либединский… смешно! Бичи в конце стола пьют водку, что-то орут. «Странный какой вернисаж, – подумал Семенов. – К кому бы подойти? »
Он увидел Дюрера – в бархатном камзоле и панталонах, в сапогах с отворотами, в широкополой шляпе с пером – Дюрер сидел в рабочем кресле Семенова, заложив ногу за ногу, и держал на коленях Монну-Лиду… в чем мать родила! Семенов направился к ним.
– Петенька! – вдруг выросли перед ним Сима и Фима, оба розовенькие, толстенькие, чистенькие и вместе с тем какие-то неопрятные. – Дружок Петенька! Мы так обрадовались этому вечеру, понимаешь! И какой ты стал у нас знаменитый! Прости – мы не верили в тебя…
– Петр Петрович! – перебивает их высокая старуха, и Семенов узнает в ней Ганну, из-под снега вырытую. – Петр Петрович! Я же в замерзании с вами была! В тифу за вами ухаживала! Пенсию мне бы схлопотать надо, посодействуйте!
Но Семенов отмахнулся: в его глазах светилось прекрасное, гибкое тело Монны-Лиды в объятиях Дюрера.
– Что это ты тут сидишь, обнаженная? – спрашивает он, подходя. – Ты же замужем и давно не натурщица…
– Ей нельзя быть замужем! – строго говорит Дюрер, поднося к губам бокал вина; другой рукой он продолжает ее обнимать. – Она теперь Вечная Женственность!
– Остановилась в своем Прекрасном Мгновении? – весело спрашивает Семенов, хотя на сердце кисло.
– Вот именно! – смеется Монна-Лида.
– Ну, и как? – глупо спрашивает Семенов.
– Ах, все равно скучища! – пьяно морщится Монна-Лида. – И в Вечной Женственности счастья нет!
– В чем же оно, наконец?
– В любви! – Монна-Лида говорит это серьезно, глубоко заглянув в глаза Семенову. – В любви и обязанностях перед близкими.
– Общие слова! – возражает Семенов.
Ситуация начинала его непомерно злить. «Ревную!» – пронеслось у него в голове.
– Я-то тебя любила, – говорит Монна-Лида. – И в этом не было общих слов…
В ее голосе звучит боль.
– А ты продал меня, миленький. И теперь я ничья!
– Что это она говорит? – бормочет в пустоту Семенов.
– А ты вспомни – разве не так? – спрашивает она с бесконечной грустью.
«Никогда она так не говорила, – подумал Семенов. – И тогда – когда жили в Летнем театре, и потом – когда я жениться приходил…»
– А за что его любить-то было? – вмешивается вдруг подошедший Барило; в зубах он держит непомерно большую козью ножку и пыхтит ею, как паровоз. – Работал он у меня, знаю: лодырь он, Петька! Ни скирдовать не хотел, ни пахать! Сколько у меня хороших работников померзло! А энтот остался! Квартиру вон какую занимает… Правда что говорят: зерно ветер унес, а полова осталась…
Из-за спины Барило возникает вдруг остроносая, красная рожа Гинтера.
– Чувства ответственности у него не было! – кричит Гинтер. – Вот посмотрите, – он выставил в руке керосиновый фонарь «летучая мышь».
Все с интересом уставились на ровный огонек фонаря.
– Вот этот самый фонарь я у него из-под носа унес, когда он заснул на посту, охраняя керосин! Я тогда из-за него чуть в тюрьму не попал! Триста литров украли!
Семенову кровь ударила в голову.
– Да ты же сам и украл, сволочь! – заорал Семенов, кидаясь с кулаками на Гинтера, но того и след простыл…
Семенова обступили. Директор МТС Либединский сует ему в руку ампулу с нитроглицерином.
– Он наш большой советский художник! – заискивающе, высоким бабьим голосом воркует Либединский. – Я ведь его еще там – в степи – художником называл…
– Напрасно вы волнуетесь, – подходит Гольдрей. – Плюньте, Семенов! В прошлом это все.
– Действительно! – подтверждает Дюрер. – Да и к чему Семенову пахать или керосин охранять! Рисовать ему надо!
– Вот эт-то точно! – радостно всплескивает руками его друг летчик. – Товарищ Семенов! Дайте я вас расцелую, мать дорога! Гордость вы наша! Вот я за вами прилетел – пора на Север!
– Да что вы все прилипли к нему! – возмущается Монна-Лида. – Мне его отдайте. Миленький ты мой, – она гладит Семенова по голове. – Я ж все равно тебя люблю!
«Какие руки нежные!» – думает Семенов.
Он взглянул на нее внимательно и вдруг увидел, что это вовсе не Монна-Лида – а мать его: в том же сереньком старом платье, в котором тогда уходила, седая…
– Мама! – несказанно обрадовался Семенов. – И ты здесь?
– Здесь, здесь! Ты только не волнуйся, тебе нельзя… приляг вот на тахту… Теперь мы никогда не расстанемся…
Семенов ложится: это же Эмилия!
– Привет, старик! – говорит Эмилия странным голосом.
И Семенов видит, что лежит вовсе не на тахте, а в прохладных струях Вангыра – голова на камне – и в лицо ему заглядывает знакомый скелет…
– Как это ты здесь очутился? – удивляется Семенов. – Ты же в Самаркандском училище стоишь, я по тебе анатомию изучал…
– Какая там анатомия! – скалится скелет. – Я Двойник твой – не узнал?
– Врешь! – крикнул Семенов.
– Сам знаешь, что не вру! – лязгает скелет. – И этот вернисаж тоже я устроил – напомнить тебе кой о чем… Хоть ты меня и убил, а живой я, курилка! Назло тебе!
– Проклятый! – прохрипел Семенов, силясь подняться из Вангыра. – и очнулся… он с удивлением увидел темную полосу бурлящей реки далеко внизу…
148
Он все еще сидел на скале, глядя в уходящий день: провожал взглядом красный диск солнца, скатывавшийся по склону горы, – солнце уходило в ночь. И все уходило в ночь: освещенные снизу облака и тайга, освещенная сверху, и горы, побледневшие от разлитого света – как за розовой занавеской. Все уходило в ночь. И Семенов уходил в ночь, сидя на освещенной лучами скале…
«Многое мне тут вспомнилось… и еще больше надо вспомнить… Времени-то впереди много: месяц! Сегодня ночью еще вспоминать буду – во сне – и завтра… Все вспомню, обдумаю, отдохну. А потом вернусь – и за работу! Главное – вперед!»
«И с Лидой все-таки увидеться надо бы, – подумал он еще. – Вернусь в Москву – позвоню ей… а то нехорошо как-то…»
149
«Странно, что я вижу во снах не тех, кто сейчас со мной в Москве, – продолжал размышлять Семенов. – Ни жену не вижу, ни детей… И из Союза художников – никого… Только тех, кто уже умерли или потерялись на моих дальних дорогах», – он стал мысленно пересчитывать…
Умер его отец – наивный коммунист – член партии с 1905 года, – погиб где-то здесь, на Севере, неизвестно даже в котором году; умерла мать – в противоположном конце страны, в тюрьме номер один города Фрунзе, о чем он знает точно, ибо так написано было в справке о реабилитации; умерла его набожная тетка Фруза Гавриловна; потерялся после войны лучший друг детства, который отбил у него первую любовь, за что он ему сейчас заочно благодарен; умер ложный бог искусства Беньков, а подлинный – Гольдрей – застрял где-то в залитой солнцем Средней Азии; умер Барило – еще когда Семенов был в командировке в колхозе: под конец Барило присылал за ним проститься и сказал перед смертью только одну фразу: «Прости, Петя, зверем был»; исчезла бесследно рыжая дама, которая дважды не принимала его в МИПиДИ, – а ее-то он так хотел повидать; потерялся по тюрьмам бригадир Гинтер – сел-таки за свои темные махинации… и Эмилия Яцентовна в своей Литве умерла… никого не осталось. А те, которые еще живы, которых он даже в Москве иногда видит – как, например, Сима и Фима, – те, еще живые для самих себя и для других, давно уже умерли для него…
– А Лиде надо будет позвонить! – сказал он опять.
150
Семенов встал: дышалось легко, без боли… Он посмотрел вдаль и увидел своих коней на лугу – они кланялись ему тонкими головами – трава бежала волнами к горизонту – и Семенов лежал в ней – на спине – раскинув руки – смотрел в небо.
Цепляясь рукой за редкие елочки и выступы скалы, он стал скользить вниз по хвойной тропинке…
151
– Надо всех в одной картине написать, – разговаривал он с собой вслух. – И себя тоже. И назову я эту картину «Реквием». Обнаженными всех напишу… или в простынях, как в бане… и всех в движении, в разговоре друг с другом… и себя напишу тоже…
– Вот это хорошо! – говорит сзади Дюрер. – И надо все это написать в серебристых тонах.
– Я и хочу в серебристых, – кивает Семенов. – Ну, а тех, кого я не люблю, – предателей – вписывать?
– Вписывать, – говорит Дюрер. – Это жизнь…
– И я так думаю, – соглашается Семенов. – Но тут у меня еще одна мысль… о матери…
– Какая?
– Я вам уже, кажется, говорил: как мне ей поклон передать? Как ей передать, что я жив, победил! И что сбылись все ее мечты обо мне?
– Дорогой мой Семенов, – странно глядя на него, говорит Дюрер. – Я уверен, что вы скоро встретитесь… и все ей сами расскажете…
– Но… – сказал было Семенов – и не кончил.
Он хотел сказать, что не верит ни в Бога, ни в черта, ни в загробную жизнь, но решил вдруг, что это будет бестактно…
– Эх, я бы и сам написал такой «Реквием»! – сказал с завистью Дюрер. – Идея идеальная! Как она мне в голову не пришла? Давайте вместе напишем?
– Нет уж, – возразил Семенов. – Это моя вещь… я ее сам напишу…
152
Он уже спустился к реке и шел теперь вдоль плоского каменного берега между скал – обходя одинокие камни – к своей семужной яме. Большой шар солнца вновь показался справа от второй скалы – и длинные лучи его осветили поверхность реки, и берег, и человека в комбинезоне, звенящего каблуками по гальке… Белая блесна на кончике спиннинга – болтаясь на карабине – все время вспыхивала, поворачиваясь к солнцу то выпуклой, то вогнутой стороной…
153
Он отцепил от верхнего колечка спиннинга блесну и – держа ее в руке – вошел в воду. Дно было ровным, усыпанным, как и весь берег, мелкою галькой, которую Семенов теперь ощущал в мутной воде подошвами. Волнуясь, смотрел он в пенные, освещенные красным солнцем волны над ямой – куда он сейчас блесну бросит…
154
Небо между тем совсем очистилось. На востоке оно было зеленовато-синее, холодное, и все там было холодное – горы, тайга, камни, река. А на западе все горело, как в огромном костре, посреди которого возвышались тлеющие гигантскими головнями горы. Солнце плавало раскаленным шаром под крайней над левым берегом горой, готовясь закатиться за еловый горизонт: самая яркая точка во всем мире – «как, впрочем, всегда, когда оно есть, – подумал Семенов. – А вот напиши эти пылающие горы – никто не поверит!»
155
Блесна совсем потерялась в бурлящей воде – куда убегала невидимая в воздухе леска, – Семенов привычно чувствовал большим пальцем, прижатым к виткам на катушке, пустую игру блесны на другом конце.
– Лучше бы пошел писать, – сказал он. – Но никогда не знаешь, что лучше… Но будет еще такой закат, должен быть!
156
А солнце уже скрылось… Семенов посмотрел на часы: 18 часов 25 минут… август! Он опять взглянул в сторону заката – на фоне темно-оранжевого неба горы подернулись голубою дымкой. Полоса тумана под горой, залезая брюхом на скалу, тоже похолодела, ели на берегу стали черными, охристо-зелеными пятнами выделялись среди них березы. Берег над водой стал темно-коричневым, а вода в реке еще продолжала тускло светиться небом, и далекие камни посреди течения, в неясных нимбах пены, были темно-лиловыми.
«Сейчас совсем темно станет, – подумал Семенов. – Пора назад, к палатке, чай пить…»
Он подтащил обленившуюся в тихих прибрежных струях блесну к самым ногам – она вяло поворачивала в мутном подводном сумраке серебристые бока, – выдернул ее на воздух.
«Наконец-то я думаю только о красках да о рыбалке, а не о прошлом», – подумал он, но тем самым признал, что все еще об этом думает… и он сердито плюнул себе под ноги.
157
– Нацеплю-ка я красную блесну, мою любимую, – кину в последний раз и пойду…
Придерживая локтем спиннинг, Семенов достал из нагрудного кармана комбинезона жестяную коробку, отцепил вместе с грузилом белую блесну, потом открыл коробку и, поменяв блесны, сунул коробку обратно. Он мгновение любовался на вынутую блесну, держа ее в раскрытой ладони, – блесна была из темно-красной меди, толщиной в три миллиметра – тяжелая! – с большим синим каленым тройником на конце. Ее можно было бросать без грузила. Похожа она была на большой осенний ивовый лист и прекрасно, таинственно играла в воде – Семенов не раз наблюдал. Он всегда боялся потерять ее, зацепив где-нибудь за корягу или камень, пользовался ею редко, но она почти всегда приносила ему счастье – и щук в подмосковных водах, и судаков, и здесь – на Севере – больших хариусов и семгу…
– Работяга ты моя! – любовно сказал Семенов.
Он прикрепил ее стальным колечком к карабину – отпустил на воздух, в котором она закачалась, тускло отсвечивая, потом – расставив в воде ноги – прицелился – размахнулся – и бросил ее вдаль… блесна упала точно в начале кипящего потока под обломком скалы.
158
Семга схватила сразу. Семенов почувствовал живой удар, подсек, остановив на мгновение бег лески, и тут же чуть не упал от ответного рывка. Разбрызгивая у берега воду и распугав в ней мальков, он сделал несколько неуклюжих прыжков вперед, чтобы удержаться на ногах, и включил тормоз катушки… Он понял, что рыбина попалась здоровенная. Он сразу весь напрягся, тяжело задышал, крепко сжимая обеими руками спиннинг, – большой палец на тормозе – чтобы в любой момент выключить его и отпустить леску, если рыба рванется…
«Тринадцатая! – пронеслось в мозгу. – Моя тринадцатая!»
Сердце Семенова радостно забилось, потом вдруг заныло, и проклятая знакомая боль судорожно стиснула грудь, отозвавшись в локтях.
– О, черт возьми! – глухо забормотал Семенов. – Что это она сейчас выкинет… – он имел в виду рыбу.
Он пересиливал боль в груди и локтях и лихорадочно соображал: как быть, если семга помчится вниз по потоку или прыгнет вверх и устремится против течения? Он ждал решения рыбы.
Семга, стоя в мчащейся мимо нее воде, с застрявшими в горле острыми жалами тройника, тоже превозмогала режущую боль и тоже соображала, как быть дальше…
«Если рыба помчится – все равно – вверх ли, вниз – и леска кончится – бежать тут за ней некуда», – соображал Семенов. Окидывая глазами берег, он едва поворачивал голову: старался не выпускать из виду то место, под обломком скалы, где семга стояла. «Вверх по реке не побежишь и вниз тоже – и там, и там скалы…»
«В катушке у меня сто метров. Надо дать ей побегать, но не очень… главное: не пускать далеко ни вверх, ни вниз…»
Тут его опять схватило – во второй раз.
Он залез было в нагрудный карман – за нитроглицерином, – но семга, приняв наконец решение, рванулась вон из потока! Розоватой ракетой сверкнула она в воздухе – почти вертикально – и опять шлепнулась в реку… Хоть она и показалась издали небольшой, но Семенов знал, что впечатление обманчиво, – рыбина была что надо, килограммов на тридцать…
Катушка на спиннинге оглушительно затрещала – это семга рванулась сломя голову вниз по течению.
– Врешь! Не уйдешь! – азартно крикнул Семенов.
Он еще успел выключить тормоз, когда почувствовал, как все вокруг – вода, камни, горы, небо – все закружилось перед глазами – кровь жаркой волной ударила в затылок – желудок сжался и вытолкнул вверх содержимое… Выпустив из рук спиннинг – который пружинисто прыгнул в волны реки, – Семенов упал в мутные струи: его стало мучительно рвать.
«Что же это?» – удивленно подумал он, корчась в холодной воде от боли. Но река была спокойна, она приняла содержимое человеческого желудка как нечто совсем естественное, даже щедрое: подарок рыбам… Через минуту Семенова отпустило, и он, обессиленный, затих. «Не победила ты меня, однако, – еле прошептал он посиневшими губами. – Больное сердце не в счет!»
159
«Ну, как, Петрович, – отбываете? – услышал он голоса своих друзей-вертолетчиков. – Не соскучились у нас на Вангыре?» – вместе с тем были это голоса вовсе не вертолетчиков, а тех самых, которые всю жизнь незримо опекали его: пускали куда-нибудь или – наоборот – не пускали: «Отбываете?» – «Отбываю!» – покорно пробормотал он и подумал: «А вдруг не пустят?» – «Охота назад?» – «Охота», – хотел он сказать, но уже не мог. «Ну, ничего, бывайте! За вами, правда, должок: портрет обещали да картину… но мы еще встретимся, отдадите!» – Семенов судорожно кивнул…
160
Он опять увидел себя кудрявым маленьким мальчиком на руках у мамы – они идут под Москвой на даче – сквозь сосны светит солнце, и невдалеке пасется табун – Семенов хорошо видит за деревьями кивающих коней…
– Мой маленький! – говорит мама ласково. – Малыш мой! Животик у тебя разболелся.
Она поцеловала его.
«Живот у меня болит, это правда», – еще раз подумал Семенов.
Он почувствовал себя очень маленьким… беспомощным…
– Мамм-ма, – косноязычно пробормотал Семенов и бессознательно заплакал.
– Ну, что ты! Не надо. Ты же у меня мужчина…
161
А спиннинг Семенова сумасшедше прыгал по волнам Вангыра: обезумевшая от боли и страха семга тащила его вдаль – и волны тащили его вдаль – он то нырял, то выныривал тонким кончиком – катушка на его погруженном комле разматывалась в быстротекущей воде. Семга почувствовала ослабевшую леску – нырнула в глубину – и стала тереться раскрытой пастью о камни на дне реки… А спиннинг плыл все дальше, дальше, прыгая, ныряя, пока тоже не застрял где-то между камней порога.
162
Художник Семенов лежал в реке – голова под водой – и уже ни о чем не думал, не вспоминал. Сердце его, разорвавшись, остановилось, мозг – овеваемый ледяными струями – быстро остывал. В нем еще мерцали незавершенные картины прошлого – как в старой, рвущейся киноленте, – но никто уже не мог ни разобрать, ни осознать их. И не было там уже ни чистых белил, ни ярких цветов – через мгновение и это потухло, и ничего, мучившего его всю жизнь, не осталось. Весь его мир исчез.
И тут подплыли к человеческой голове золотистые рыбки – тальма, малек семги, – стали тыкаться в посиневшие губы, в небритые седые щеки, в белую бороду, в нос, и одна – осмелев – даже заплыла в открытый рот, жадно глотая смешанную с кровью мутную воду.
163
Швейцарские замечательные часы на откинутой в воде руке Семенова все еще шли: большая и маленькая стрелки показывали 19 часов 10 минут, а красная секундная весело скакала, не останавливаясь, – вперед, к следующему дню.
164
Темнота вокруг сгустилась, и река заревела сильней – это вода все выше поднималась в ней после ливня в горах. Но ни камней, ни желтой пены уже не было видно. Небо и река, разделенные черными горами, светились одинаковым тусклым блеском, и непонятно было – где ревет? – то ли вверху, то ли внизу…
165
И кто теперь скажет: зачем он приходил сюда, на эту землю? Но на это могут ответить только те, кто его любили…