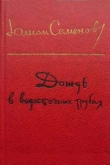Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
«Других никого не вспомнит», – подумал Семенов.
– Ну, а цель приезда какая? – спросил Барило, прищурившись.
– Да просто так – приехал… Потянуло в старые места… Художник я: рисовать здесь буду…
– Так, так, – соображает Барило. – Ну, а… приехали-то все же зачем?
Не доверяет Барило, боится чего-то.
– Как – зачем?! Прошлое вспомнить… вас вот увидеть… Я хотел спросить: почему вы чуней мне тогда не дали, когда водовозом был? Теперь помните?
– Так не було ж!
И рот Семенова остается открытым – дальнейшие вопросы тонут в горле. Зачем спрашивать, когда и так все ясно! И ему, и Барило. Настолько ясно, что просто глупо задавать какие-либо вопросы, возвращать и выяснять прошлое. Все это бессмысленно, – подумал Семенов. Можно только притворяться ханжески в некоей идиллии доброжелательства и товарищества…
– Что же вы чай-то не пьете? – придвинул ему Барило вдруг полуостывший чайник и пустой мутно-грязный стакан. – И хлеб берите! Вот масло… Теперь берите… теперь есть…
«У тебя и тогда было», – думает Семенов.
– Спасибо, – ответил он, поднимаясь. – Пойду…
Барило пошел его провожать. Семенов с удовлетворением отметил, что движения Барило болезненно-немощны – не просто движения старика, а человека больного. Они молча вышли. Снаружи дул ровный сильный ветер, гнал по сухой улице желтую пыль. Кивнув Барило, Семенов медленно пошел вдоль домов… как вдруг Барило опять окликнул его – громко и хрипло:
– Петька! Петька!
Семенов вздрогнул от неожиданности и рассмеялся: что-то там со скрипом сработало в ржавом Барильем мозгу – повернулись какие-то колесики – и все водворилось на свои места! Тридцати лет как не бывало: Семенов опять был вшивым Петькой, а тот – всемогущим Барило.
– В чем дело? – покорно спросил Семенов.
– Надо бы… того… в школе молодежь собрать! – спохватился он вдруг как-то твердо: – Рассказать надо молодым, как мы тут работали для Победы. И старики пусть придут – тоже расскажут. О героизме в тылу. Всех собрать надо!
Барило старался стоять прямо.
– Сделаем, – ответил Семенов. – Поговорю вот с парторгом…
– Надо, надо, – повторил Барило. – Очень это сурьезное дело, – и закашлялся.
Барило повернулся и тяжело опустился возле калитки на лавку, опираясь на нее руками…
64
Палатку Семенова теперь уже вовсе не видно – если смотреть на нее, как на точку в ливневом пейзаже, – и ничего не видно: все смазано падающей с неба водой, будто здесь никогда не светило солнце.
Не видно гор – не видно тайги – не видно Вангыра – его камней, порогов и волн – волны идут теперь, как по мокрому торшону на подрамнике – сверху вниз – с неясными на бугристой поверхности контурами старого рисунка и потекшими друг в друга красками – все смазано рукой небесного художника, вдруг решившего переписать наново не удавшийся ему этюд осени…
Семенов – тоже неразличимый в этом потопе – все еще спит – но невидимые нити связывают его с недремлющим прошлым…
65
Семенов вспоминает хату, в которой жил в те колхозные годы: назад тому тридцать лет… Странные воистину люди жили в этой маленькой хате!
Жила Вера Давыдовна Давыдова из Москвы, немка по несчастью, национальность которой выдавал огромный горбатый нос и характерный акцент. Как могла она еще жить, эта древняя библейская старуха, упорно называвшая себя немкой под гипнозом собственного паспорта, хотя никто не сомневался в ее подлинной национальности? Тяжело было ей, бедняге, в эту ужасную войну умирать немкой – мнимой дочерью того народа, который она, без сомнения, ненавидела… Может, она счастлива была избежать здесь, в Казахстане, гитлеровских газовых камер? Кто ее знает! Она никогда не откровенничала ни с кем, унеся эту свою всем явную тайну в могилу, и было в этом что-то поразительно еврейское: трагический юмор, достойный характера ее нации…
Жила Эмилия Яцентовна Грис – литовка родом из Вильнюса, тоже записанная в паспорте немкой, не умевшая правильно говорить ни по-литовски, ни по-русски, ни по-немецки… Странная женщина, которую Семенов любил: она одна выхаживала его после замерзания, и когда он потом тифом болел, и обшивала его – сшила ему его первый в жизни костюм из мешков, – подкармливала, когда ему приходилось несколько дней вообще ничего не есть… У нее был железный характер и странным образом скопившееся в сундуках огромное – не только по тем временам – богатство, которое она привезла с собой из Москвы: столовое серебро, посуда – тоже из серебра, дорогие каракулевые шубы, разные, шерстяные юбки и кофточки и бесконечное количество отрезов, пуховых платков и белья, – все это она меняла у местных на продукты и безбедно прожила таким образом всю войну… Еще она гадала на картах, которые нарисовал ей Семенов, – помнится, она дала ему за эту самодельную колоду пуд муки. В те годы карты страшно популярны были, вся деревня – в основном бабы приходили к Эмилии гадать: о мужьях – воевавших, раненых, пропавших без вести, сидевших в тюрьме… Даже Семенову она гадала и предсказала точно: «Ты станешь тем, кем хочешь быть!» – эти ее слова Семенов крепко запомнил, и они много лет помогали ему – Эмилия знала, что Семенов хочет быть художником. За это гадание ей тоже несли со всей деревни продукты: бесплатно она гадала только Семенову. А как она накопила свои бесчисленные сундуки с барахлом, Семенов так и не понял, узнал только, что продавала Эмилия в Москве до войны газированную воду…
Жил с ними в той же хате одинокий, как Семенов, Юра Грек из Краснодара: высокий парень с бараньими, навыкате глазами, прямым греческим носом, черными кудрями – очень красивый, но глупый. Он был страшный лодырь и неженка – привык к южному солнцу, – и такой же нищий и мечтатель, и такой же любитель снов – как Семенов. Они любили рассказывать друг другу свои сны: Семенов о Москве, Юра Грек о Краснодаре…
Хата состояла из двух комнат: в первой, проходной, откуда топилась и русская печь, спали Семенов и Юра Грек, во второй женщины. Но на настоящей довоенной кровати спала только Эмилия, остальные кое-как: Юра Грек на сундуке Эмилии, Давыдова на своем сундуке, а Семенов на печке, которая топилась редко – только когда пекли хлеб, – потому что надо было экономить драгоценные дрова и кизяк, которые принадлежали той же Эмилии – другим жильцам покупать топливо не на что было…
66
Ливень все еще льет, и Семенов все еще спит, и кажется ему, что вокруг не уральский ливень за стенками палатки, а бесконечный зимний среднеазиатский дождь над Комсомольским парком – и он в своей гримуборной, и рядом – Монна-Лида Джоконда – Несравненная…
– Ты моя симфония, – говорит он ей. – В любви и в живописи.
– Да ладно уж, – отмахивается она. – Я просто баба! Зато верная. Ты люби меня…
– А разве я не люблю?
– Кто тебя знает… все вы, художники, как я в училище посмотрю, очень уж много говорите…
– А тебе кто-нибудь что говорил?
– Все говорят…
– Что?
– А все то же… что красивая! И Монна-Лида… Джоконда…
– Кто? – ревниво вскидывается Семенов.
– Да все! – смеется она. – В коридорах… уж так неохота потом перед ними раздеваться, на помосты эти всходить…
– Ты – если кто какую вольность позволит – скажи мне! – зло говорит Семенов. – Я им рожи расквасю!
– Ну, вот! Уже и ревнуешь! – она обнимает его и целует, целует, целует. – Ты-то люби меня, все хорошо будет!
Он молчит, слушает, капли заполнили своим звоном весь мир – вот как сейчас, на Вангыре…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – говорит Лида.
– О чем?
– Ты жалеешь, что не был на войне… всю жизнь об этом жалеешь… так ведь?
– Так! – удивляется Семенов.
– Тогда скажи мне, – осторожно продолжает она тихим голосом, – объясни: если до сих пор жалеешь, что не был на фронте, – то почему не был? Струсил, что ли? Убежал? Ты прости, что я так говорю, – она почти на шепот перешла.
– Ну, вот, – грустно говорит Семенов. – И ты мне не веришь…
– Верю! – вскидывается Лида. – Верю! Но… но до конца не понимаю…
– Это долго рассказывать… и сложно… да и стоит ли?
– Стоит! – убежденно говорит она. – Я всю ночь могу слушать тебя, до рассвета… и даже больше… как вы с Кошечкиным говорите: «гениально»? Ты рассказываешь гениально!
– Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!
– Что? – не понимает Лида.
– Это Отелло Дездемоне говорил… пьеса Шекспира, – поясняет Семенов. – Ну, ладно… ставь чай, буду рассказывать…
67
– Вспоминается мне одна история, в которой я принял самое деятельное участие: был могильщиком…
– Ну, ты и ска-ажешь, – смеется она, натягивая юбку и собираясь чай ставить.
– Не смейся! Я там в колхозе тоже халтурил, кой-чем подрабатывая: карты Эмилии рисовал, колхозникам – ковры на простынях анилиновыми красками, а один раз, как говорю, был могильщиком…
Вскоре после того замерзания – когда еще продолжались жестокие морозы – старуха Давыдова легла вечером на свой высокий сундук и больше не встала… к утру переполох начался над мертвым телом: фельдшер приходил, потом власти, потом соседи повалили… в основном – приезжие, коллеги, так сказать, ибо местным на эту старуху совершенно наплевать было. А мы ее жалели. Еще всех интересовало: что у нее там в сундуке. Никто этого не знал, потому что вещей старуха почти не меняла – жила впроголодь, – а сундук свой открывала только ночью, когда все спать ложились, – шарила в нем одной рукой, держа в другой огарок свечи, который окромя этих случаев никогда не зажигала.
Как только она умерла – в то же утро, – организовала Эмилия похоронную комиссию, в которую и я вошел, и Юра Грек, и еще некоторые из соседей-переселенцев. Позаседав возле мертвой старухи в комнате, решили мы ее в тот же день похоронить, составив опись оставшегося имущества, чтобы распределить среди нуждающихся, которых было среди нас немало. Первым делом притащили из сеней четверть мешка старухиной пшеницы, полкаравая хлеба, кринку молока – из продуктов это было все. Потом вынесли в сени – на мороз тело усопшей и торжественно приступили к вскрытию сундука, содержимое которого всех так мучило… и тут мы потрясены были окончательно, еще более даже, чем самою смертью старухи: среди нескольких старомодных юбок и кофточек, белья и простыней обнаружили мы на дне полупустого огромного сундука священную книгу – тору, потом какие-то удивительные пергаментные свитки, еще матерчатые покрывала и перевязи со шрифтом и узорами.
Разочарование было огромное – особенно мое и Юры Грека – наследовать тут ничего не приходилось: ни носить самому, ни менять на продукты – решили все это пожертвовать властям… Правда, остались от старухи бывшие на ней валенки и телогрейка на вате – это мы с моим греческим товарищем и поделили: ему досталась телогрейка, а мне валенки, – и нас в этих обновках тут же выгнали в зимнюю степь – долбить могилу, – а остальные члены комиссии остались заниматься другими хлопотами…
Могилу мы долбили на высоком заснеженном холме за рекой, на местном тоскливом и неуютном – открытом всем ветрам – кладбище, мерзли там, предвкушая обещанное сердобольной похоронной комиссией вознаграждение и не подозревая, что ожидает нас еще одна неприятность… Мерзлая земля поддавалась с трудом – ледяной ветер обдувал нас, мы спешили, но дело подвигалось медленно…
«Хоть бы попозже – летом умерла, – говорил Юра Грек, долбя землю ломом, – нам не так тяжело бы было…»
«Сие от нее не зависело», – отвечал я, выгребая мерзлые комья.
«Да, ты знаешь – что мне сегодня снилось?» – с улыбкой спросил Юра Грек, отставив лом и улыбаясь мне синими губами.
«Ну, что? Давай долби лучше…»
«Мне снилось, – сказал он мечтательно простуженным голосом, – мне снилось, что у меня новые штаны, и я их надевал… – он опять принялся лениво долбить. – А что, ты думаешь, нам сегодня дадут на поминках? Суп или мясо? Может, и водку?»
«Еще чего захотел! Водки! Кутья будет из пшеницы… хотя, вообще-то по еврейским правилам – поминок не полагается…»
«Как же так? – опять отставил он в испуге свой лом. – Без поминок никак нельзя… задаром мы тут копаем, что ли?»
«Ты долби давай! Мне еще говорили, что гроба тоже не будет…»
«Досок не достали?»
«Досок само собой не достанут, но дело не в этом. У евреев без гроба хоронят: голышом в саване».
«А казахи – видел, как хоронят? – с завистью сказал Юра Грек. – Одиноко в степи, в глиняных домиках, и тоже без гроба… я залезал в один летом, на сенокосе, видел: скелет там сидит у стены… хорошо! И копать не надо…»
«Зато мавзолей строить…»
«Да какой это мавзолей! Сложил коробку из саманных кирпичей – все равно легче… чем тут землю эту железную долбить…»
«Да ей-то все равно сейчас – Давыдовой – как ее хоронят: в гробу ли, в мавзолее, просто ли в яме… она уже теперь не еврейка и тем более – не немка… Когда я умру, мне тоже наплевать будет».
«Ну, уж нет! – возражает Юра Грек. – Я – грек и хочу умереть греком… и после смерти греком останусь…»
«Твое дело…»
«Ясно, мое…»
«Ну, хватит, – сказал я, вылезая на снег. – Достаточно…»
«Не мала ли могилка?» – с сомнением спросил Юра Грек.
«Нехай! Сойдет, думаю…»
А к нам уже медленно ползла через покрытую льдом речку похоронная процессия – человек двадцать, – и, когда они поднялись на холм и поднесли к могиле окаменевший в саване труп, разразился скандал: Давыдова в яму не влезала! Мы с Юрой Греком, проклиная в уме эту свою халтуру, срочно додалбливали, догребали, уширяя и удлиняя могилу, а обступившие ругались на чем свет стоит… грозили даже лишить нас участия в поминках, отобрать телогрейку и валенки… Ветер морозно и злобно завывал над степью; вечерело, уже засветились кое-где в хатах за рекой тусклые огоньки окон – когда мы кончили расширять яму и затолкали туда негнущийся в саване труп, присыпав его кое-как смешанными со снегом комьями земли и льда…
Но все обошлось благополучно: валенки и телогрейку нам оставили – Эмилия нас защитила» – и в поминках мы тоже участвовали: ели кутью и даже водки выпили по стаканчику – тоже Эмилия выменяла у завмага за часть старухиной пшеницы…
68
– Ну, а фронт-то, фронт? – перебивает Лида.
– А ты не перебивай! К тому и веду, но конец еще далек. Учись слушать, или тебе не нравится про могильщиков?
– Нравится! – она обняла его и поцеловала.
– То-то! – он закурил папиросу. – А сейчас я расскажу тебе об одной улыбке судьбы… вернее – о двух улыбках, но которые обе превратились в ехидную гримасу… Но тут сначала опять – предисловие…
– Давай…
69
– В колхозе, – продолжал Семенов, – мы получали за свой труд не деньги, а натурой на трудодни: зерном, картошкой, мясом… окончательный расчет делался в конце года. А в течение года питались авансом – хлебом, молоком, супом. Это такие одиночки, как я. Местные же колхозники, у которых было свое хозяйство, в течение года почти ничего не брали. У них и так все было, вплоть до пшеницы с прошлых урожаев. В бригаде на полевых станах они разве что молока иногда возьмут или супцу поедят, да и то редко; мамочка дома, конечно, вкуснее готовила и хлеб лучше пекла, они или ездили обедать домой, или привозили все с собой в степь. А заработанное они забирали сразу в конце года. В основном это было зерно, потому что колхоз был хлебородный. Но на зерно можно было в те годы купить что хочешь. Если, конечно, было что в конце года получить. Стоимость общеколхозного трудодня определялась тем, что делили весь заработанный хлеб на количество выработанных трудодней… поздней осенью…
– Ну да, – вмешалась Лида. – Цыплят по осени считают!
– Цыплят считают весной! – ехидно возразил Семенов. – Когда их еще и в помине нет!
Она взглянула на него удивленно.
– Поздней весной, – объяснял Семенов, – когда хлеба поднимутся, хотя колоса еще нет, приезжала из района комиссия. Вместе с председателем объезжала она поля и по зеленым росткам определяла грядущий урожай. На глаз. Как тогда говорили: прогнозировала. И, как правило, всегда очень оптимистично. Все эти уполномоченные были неколебимыми оптимистами…
– Как и ты? – улыбнулась Лида.
– А как же! Иначе бы я тут с тобой не сидел!
Так вот… весной урожай прогнозировали, подсчитывали и делили на трудодни заранее. Одно время я и сам в этом участвовал, потому что в конце моего здесь пребывания меня взяли в контору помощником бухгалтера. Я хорошо помню это весеннее планирование, определявшее наш заработок на весь год вперед. Комиссия в поле решала, согласно своему оптимизму, сколько центнеров с гектара даст, например, пшеница, а мы в конторе подсчитывали: сколько в уплату МТС за аренду сельхозтехники и сколько, в конце концов, останется колхозникам на трудодни. Но вот подкатывала осень, а с ней и сбор урожая. А поскольку природа, как правило, не принимала во внимание оптимизма уполномоченных, то и хлеба собирали намного меньше запланированного. Едва хватало покрыть все налоги, а на трудодни оставалось почти ничего. Допустим, я съел за год 200 килограммов пшеницы, а выпало мне на трудодни 50 килограммов – значит, вместо того чтобы заработать, я еще оставался должен 150 килограммов… А иногда не хватало даже на засыпку государству или на уплату МТС – тогда оставался должен весь колхоз, а на трудодни вообще ничего не перепадало…
– Как же вы тогда дальше-то питались? – спросила она.
– Очень просто! Была такая формула: «В счет расчета». То есть когда совсем уже нечего было есть, ты шел к председателю и просил выписать тебе некое количество зерна в долг. И он писал: «Выдать такому-то в счет расчета 10 кило». Или больше. Или меньше. Тут все зависело от твоего рабочего авторитета и от настроения председателя. Ну и, конечно, от так называемого «блата» – хороших взаимоотношений. Каким-нибудь своим друзьям председатель мог выписать целый даже мешок, а иному чужому, никчемному с физической точки зрения работнику – килограмм или два…
– Да, но откуда же председатель брал эти килограммы? – опять перебила Лида.
– Хлеб-то был! Сданный по документам государству, он лежал в колхозных закромах, и его постепенно вывозили на железнодорожную станцию, в Нуринск, где находился элеватор. Хлеба, насколько я помню, всегда была много – шутка ли, сколько нас трудилось все лето на огромных полях! Но этот хлеб принадлежал государству еще на корню. Но и не тратить его на колхозные нужды председатель тоже не мог: чтобы выращивать новый, надо было кормить людей. И председатель, то есть колхоз, а это значит – все мы еще больше залезали в долги. И не просто так, а совершая преступление, ибо по закону этот хлеб трогать было нельзя. Об этом, конечно, знали все, даже областное начальство, но все закрывали на это глаза. Да и начальство тоже пользовалось этим хлебом, приезжало за ним в колхоз – якобы по делу, а на самом деле хлеба попросить, я сам оформлял такие выдачи – и попробуй председатель не дать такому начальничку! Тут же у начальника и откроются глаза на разбазаривание хлеба, и загремит председатель в тюрьму. Бывало еще хуже: была еще семенная пшеница. Ее хранили особо. Это было отборное зерно высших сортов, чистое, крупное, как жемчуг. И случалось иногда весной, что государственный хлеб уже весь вывезен, а кормиться надо, и кормил тогда председатель людей этим святым семенным зерном. Такому председателю и вовсе не позавидуешь: с одной стороны, его могли в любой момент посадить за то, что голодные люди не работают, а с другой стороны – за то, что он кормит их семенами…
– Да-а, – грустно откликнулась Лида. – Положеньице… ну, а фронт?
– Ох, и нетерпелива ты! Потерпи. Все это было необходимым вступлением к моему патриотическому стремлению на фронт… Ты что думаешь: хотелось мне там отсиживаться – в тылу? Не так я воспитан был!
– Ничего не говорю! – улыбнулась Лида. – Дак и не знаю же!
– Так слушай! Сейчас я подхожу к тем самым улыбкам… они блеснули мне на лице суровой Судьбы, как лучи солнца в бурю… Дело в том, что в сорок втором году – в тяжелейшем году войны – в нашем колхозе произошло чудо! Не смейся: иначе это не назовешь, как чудом. Это гора Семиз-Бугу подшутила над всеми уполномоченными. Подшутила весело и благородно, в пользу таких, как я, бедняков. Все лето – с весны до поздней осени – смотрела она ласково, тепло, посылала нам то солнце, то дожди – веселые, теплые – и всегда вовремя. В результате переплюнула она самые оптимистичные урожайные прогнозы. Хлеба поднялись, как в сказке! Тяжелый колос клонился к земле. Я уж точно не помню, но если самые оптимистичные уполномоченные предсказывали по восемь центнеров с гектара, то Семиз-Бугу подарила нам все шестнадцать! Такого урожая даже столетние старики не помнили. Объясняли всяко, ну, а я объясняю это благородной шуткой Семиз-Бугу. В общем, так или не так, но радовались все бесконечно. Впереди ждал огромный заработок, на один трудодень выпадало бог знает сколько пшеницы, а надо помнить, что стоила она по тем временам по 150 рублей за килограмм! На базаре, конечно. Даже я – самый что ни на есть бездарный физический трудяга – заработал уйму хлеба. Впереди маячил сытый год, да и одеться можно было с головы до ног. «Хоть жену себе покупай из казашек», – шутил мой друг Анцобай Увалиев. Ну, жена-то – бог с ней, а вот одежда мечты стоила. Но все лопнуло, как мыльный пузырь! Хоть и хитрая гора Семиз-Бугу, не сумела она перехитрить до конца… Тут я попутно перехожу к своей главной мечте тех лет – попасть на фронт.
Все нормальные тогдашние юноши – а я считал себя, да и был вполне нормальным человеком, – все нормальные юноши хотели на фронт: драться с фашистами. Отец и мать с детства внушили мне любовь к Советской власти, к Родине, ненависть к фашизму. И никакие трагические передряги не могли поколебать во мне моих убеждений. Эти убеждения всегда жили во мне и живут до сих пор. Теперь тебе ясно, как тяжело мне было в ту войну оставаться в стороне… Друзья, с которыми я учился в школе, все были на фронте, многие из них погибли в первый же год войны. Мне было мучительно стыдно, что я в эти дни не рядом с ними. Не я был в этом виноват, так сложились обстоятельства, но от этого мне было не легче…
– Да как ты туда попал-то – в колхоз? – перебивает его Лида. – Эвакуировался, что ли? Ребята в училище говорили – ты москвич…
– Москвич…
– Почему тебя в Москве-то не взяли в армию? Чтой-то я не пойму у тебя ни черта…
– А ты слушай! – разозлился Семенов. – Почему да почему… имей терпение!
– Ну, ладно, – обняла она его. – Не сердись…
– В общем, решил я вырваться из колхоза не куда-нибудь, а в действующую армию… короче говоря: стал писать заявления в райвоенкомат. Я писал, что мне девятнадцать лет, что я здоров, работаю в таком-то колхозе. Что меня почему-то забыли… Что мечтаю попасть на фронт – защищать родину от фашистов…
– Молодец! – сказала Лида.
– Я писал первый, второй, третий раз – в течение зимы, и лета, и осени сорок второго года, – но ответа не было. Время шло, я ждал, уже почти теряя надежду и думая, что бы такое еще предпринять.
Снова подкатила зима, канун Нового года, а с ней и урожайная шутка Семиз-Бугу, вернее, ее результаты: закрома были полны. С лихвой засыпали хлеба государству и в МТС, сами ели, а в хранилищах все еще полно было. Не успевали вывозить с поля: хлеб лежал на токах, стоял в необмолоченных скирдах. Некоторые из наших местных колхозников, у которых еще хранилось много довоенного хлеба – и на счету колхоза, и дома в подполе и сусеках, – стали жертвовать этот хлеб на строительство именных танков для Красной Армии. В те годы на фронтах действовал не один такой танк, построенный на средства колхозников, нашлись такие патриоты и в нашем колхозе. В глубине души я им завидовал. «Но ничего, – думал я про себя, – скоро меня призовут в армию самого, и это будет день моего торжества! Я тоже внесу свою кровную долю в борьбу с Гитлером». Забегая вперед, скажу, что такой день моего торжества вскоре наступил, но обернулся он тут же в день моего позора… Но сначала еще несколько слов о хлебе.
Пока в колхозе подсчитывали баснословные хлебные заработки, поползли вдруг слухи, что хлеб этот выдаваться не будет. Это тем более всех огорошило, что некоторые уже забрали часть причитающегося им зерна. Ими оказались отдельные из местных, более приближенные к председателю. Что же будет с остальными, которых оставалось подавляющее большинство? Особенно с приезжими. Люди терялись в догадках. Наконец все разъяснилось. Из района приехал уполномоченный и объявил на собрании, что весь заработанный хлеб, ввиду того что страна очень в нем нуждается, мы жертвуем государству. Конечно, не безвозмездно – в обмен на этот хлеб мы получим по твердым государственным ценам разные товары: мыло, чай, бязевую материю, нитки, иголки и так далее… Ассортимент был невелик, но чрезвычайно дефицитен, особенно бязь и нитки. За эти годы все пооборвались, а где было купить новую одежду? Только на базаре. Конечно, если бы мы свезли свой заработанный хлеб на базар и продали его там – мы могли бы купить в сто раз больше! Но тогда хлеб уплыл бы из рук государства, он не попал бы на фронт…
– Кто это придумал – был не дурак! – сказала Лида.
– Это была мудрая государственная мысль, – поддержал Семенов. – Хотя она, наверное, некоторым и не нравилась… И все-таки большинство людей радовались, особенно такие бедняки, как я. За свою тонну пшеницы я мог получить теперь много десятков метров бязи и нашить себе белья… но тут опять вышла закавыка…
70
– Что-то много у тебя закавык! – рассмеялась Лида. – Прямо как в кино!
– Что делать, – развел руками Семенов; они уже сидели с Лидой за столом возле маленького окошка гримуборной и пили чай, – Вся моя жизнь была тогда своеобразным детективом. Правда, без запутанного сюжета. Сюжет прост: в этот самый разгар мануфактурных волнений я получил вдруг повестку из райвоенкомата!
– Добился-таки! – улыбнулась Лида, дуя на блюдце.
Она пила чай степенно, держа блюдце снизу всей пятерней и опустив локоть на стол.
– Добился! И это была вторая улыбка Судьбы! Наипрекраснейший день в моей тогдашней жизни! Помню: выпал уже прочный, летающий снег, светило солнце, потрескивал легкий морозец, гора Семиз-Бугу улыбалась, и был у нее такой вид, будто это она прислала мне долгожданную повестку в армию. Хитрая гора! – я тоже улыбался ей, шагая из конторы. В кармане штанов лежала драгоценная повестка, которую только что вручил мне председатель. Вши покусывали – они покусывали меня тогда постоянно, – и мороз пощипывал, а в голове радостные мысли. Скоро я скину всю эту грязную вшивую одежду, думал я, одену форму, чистую, новую, белье под ней, сапоги, стану солдатом и кровью завоюю себе все потерянное в моей молодой жизни. Ну, а если убьют, то пусть: лучше умереть на войне равным среди равных, чем тут в тылу влачить жизнь отверженного неизвестно за что… В кармане лежала еще и вторая, подписанная председателем бумажка, на которой стояло: «Выдать такому-то в счет расчета – муки 8 кило, мяса – 2 кило, масла – 0,5 кило». Богатство! Эти продукты мне выписали на дорогу. Вместе со мной такие же бумажки получили еще два молодых казаха, завтра мы должны были отправляться на пароконных розвальнях в район.
Только что в конторе колхоза я видел этих грустных казахов, они пришли вместе со старенькими матерями, были, что называется, «под мухой», а матери плакали. Я-то не был грустным, я был горд, счастлив и немного смущен свалившимся на меня благоволением. И плакать по мне было некому. Может быть, если б жива была моя мать, она тоже сейчас плакала бы здесь в коридоре… хотя вряд ли. Она бы радовалась. Она и сейчас – на том свете – радуется. Я на мгновение даже увидел ее – свою мать, – как она улыбается, гордясь, и протягивает ко мне руки: «Я рада, Петя! Наконец-то! Будь храбрым солдатом, моя любовь сохранит тебя!» Я стою позади казахов в кабинете председателя… Он что-то говорит им, и они выходят.
«Петька! – говорит председатель Мина. – Вот и тебе повестка».
Я чувствую в его голосе удивление.
«Спасибо», – я беру белую бумажку двумя пальцами, как драгоценность.
Председатель смотрит вверх, в угол потолка, Я знаю, почему он так смотрит: он косой, и никогда нельзя точно сказать, куда он смотрит. Но сейчас-то я знаю: он смотрит прямо на меня, даром что глаза в потолке.
«А я думал – ты немец!» – усмехается он.
«Какой я немец! Русский я! Сам не знаю, как сюда попал!»
«Ну, поздравляю! – говорит председатель. – Получай продукты, пеки хлеб, завтра утром чтобы как штык!»
Я делаю шаг вперед, пожимаю руку председателю, чувствуя, что делаю это чуть подобострастно… Как уже всосалась в меня эта рабская приниженность! Ну, ничего: скоро все выветрится – по дороге, на морозе…
«Побриться надо, – говорит председатель. – И помыться. Там будет комиссия…»
Когда я выхожу в коридор, меня сразу обступают. Местные и приезжие: русские, хохлы, немцы, евреи, греки, чеченцы, казахи – весь наш колхозный интернационал. Все они пришли сюда оформлять обмен пшеницы на мануфактуру. Все с утра в очереди. Все возбуждены, веселы, нетерпеливы. Товары-то в магазине есть – вчера привезли, но неизвестно: всем ли хватит. А председатель еще не начинал приема, потому что занимается призывниками. На мгновение я приковываю внимание окружающих – все смотрят на меня с подозрением, – никто не считает меня призывником, думают, я госзакуп оформил:
«Что – получил?»
«Выписал?»
«Как это ты хитро прорвался! Незаметно!»
«Сколько бязи выписали?»
Но я ошеломляю всю очередь:
«Я повестку получил – в армию!»
«На трудфронт?»
«На какой трудфронт? В действующую!»
Общий вздох удивления:
«Врешь! Покажи!»
Достаю повестку – она обходит множество рук…
«Бедный! Убьют его тама», – слышу я жалостливый женский голос.
«Ничего не убьют! – думаю вдохновенно. – Я там человеком стану!»
Когда я готовился дома к отъезду – Эмилия пекла мне хлеб, – пришел Барило и предложил отдать ему за две пары белья и полушубок причитавшуюся мне на трудодни пшеницу – около пятисот килограммов… Я согласился: «На кой черт мне теперь эта пшеница», – думал я. Еще я отдал ему свою овцу, тоже на трудодни полученную.
На другой день утром я радостный и гордый уехал с двумя казахами в райцентр – в военкомат… но через три дня вернулся с позором! Казахов взяли, а я вернулся…
71
– Это еще почему? – спрашивает Лида. – Болен был, что ли?
– Говорил же тебе: здоров как бык! Закавыка одна только, понимаешь, из-за того туда и попал в начале войны… мать-то у меня действительно немка…
– Вот тебе раз! – выдыхает Лида. – Бедненький! А я думала – ты еврей… черненький такой, кудрявый… – она погладила его по волосам. – Соврать-то не смог?
– В том-то и дело: не научился еще тогда врать…
– А отец?
– Отец русский. Я нажимал на это, не помогло: военком прямо сказал: «Поймите, Семенов, если я вас возьму – на первой же станции снимут с эшелона, а мне головы не сносить!» Хороший был человек, рука на перевязи, раненый с фронта пришел… Да тут еще всплыло: отец у меня погиб в известные годы – слыхала о таких? Теперь ты небось разлюбишь меня! – кончил он зло.