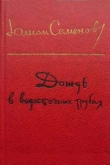Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
В стаде были еще коровы, с телятами и без телят, дойные коровы. Они, конечно, думали, что вот сейчас Барило отберет быков, а их опять отпустит в степь – нагуливать молоко и смотреть за телятами. Но не тут-то было! Барило и их потребовал сюда, чтобы разделить попарно, присвоить им имена Цоб и Цобэ и приписать к плугам и боронам – для весновспашки. Это было, конечно, диким решением, и у сурового Федосея сердце сжималось, когда он глядел на коров и телят, но иного выхода не было. Сейчас коровы должны были и давать молоко, и пахать. Колхозу сильно увеличили план весновспашки, необходимо было поднять сотни гектаров нетронутой целины – тракторов на это не хватило бы. Шла война, армия и народ нуждались в хлебе, а самые наши плодородные земли были под немцем.
В стаде были еще и лошади. Но это особые существа. Лошадей все жалели, их было мало, кроме того – их брали на фронт. А тем, которые еще оставались в колхозе, поручали самую легкую, ответственную и почетную работу. Они возили на тачанке председателя колхоза, возили верхом бригадиров, возили из МТС горючее, на них пасли их рогатых собратьев. Лошади ценились на вес золота. Это, конечно, только так говорится – ибо какое же в колхозе золото? Золото – это хлеб! И лошадям даже хлеб иногда давали – подкормиться, – и овес они получали. Быки и коровы о таком меню только мечтали! Да что там – быки и коровы, люди мечтали. Овсяная каша! – я сам с удовольствием наелся бы ее досыта.
60
Ветер за стенками палатки успокоился, и ливень низвергался теперь с неба ровно и плотно, прямыми, тяжелыми, почти беспрерывными струями – гудел монотонно – усыпляюще – как некий вселенский гипнотизер, – и крепко спал в этом ливне Семенов, спокойно дыша, – только мозг его продолжал волноваться минувшим…
61
Замерзание – часть 1-я
…Семенов обогнул скамейку под окнами знакомой хаты, завернул за угол фасада и постучал о косяк распахнутой двери… когда никто не откликнулся, он вступил в темные сени и посмотрел налево… странно: тридцать лет прошло, как он сюда входил, а ведь помнил, что надо налево повернуть!
Барило сидел за второй, полураспахнутой в кухню дверью, за столом, возле окна. Он был один, если не считать внуков: двое их – мальчик и девочка – года по три-четыре – играли на полу.
– Федосей Василич? Разрешите войти?
Барило повернулся медленно, с трудом:
– Да, у чем дело?
Семенов вспомнил это пронзительно-знакомое «у чем» – оно вошло в него как натощак глоток спирта.
– Здравствуйте, узнаете? – и шагнул через порог.
Он вдруг опьянел: испытал какой-то радостный подъем, будто встретил друга! Ведь не друг он Семенову вовсе, а старый враг, гонитель… и наконец-то свиделись! Вот в чем была радость: в факте этой мстительной встречи. Сколько лет мечтал!
Барило, в отличие от Семенова, никакой радости не выказал. Да Семенов и не ждал от него объятий. Но и равнодушия тоже не ждал. Он ждал удивления. А Барило смотрел на гостя совершенно безучастно, как на стену. Внимательно, но бесстрастно. Руку пожал и смотрит – из-под сократовского лба – голубыми, почти бесцветными, маленькими глазками…
– Не узнаете? – переспрашивает Семенов.
– Не.
Это «не» тоже прозвучало, как родное.
– Петр Семенов! Работал у вас в бригаде.
– Не припомню.
Семенов растерялся. Этого он никак не ожидал!
– Полтонны пшеницы вы у меня еще выменяли – за пару белья да полушубок… помните? Когда я в военкомат уезжал?
– Не помню.
– Ярочку еще тоже взяли! Не помните? Петр Семенов я!
Спокойно смотрит Барило. Не мигает.
– Не было такого.
– Ну, как же… пастухом потом был, на ферме. И в Нуринск меня посылали, с зерном, зимой… двое быков тогда пало, один заболел – нагноение у него было… Вы меня еще под суд хотели отдать.
– Не, – повторил Барило, глядя как мертвый. – Не помню…
Тридцать лет вынашивал эти вопросы – и вот: повисли они в воздухе…
– Закурите, московских? – протянул Семенов пачку «Шипки». Ведь заядлый куряка!
– Не курю, – ответил Барило.
– Да вы не думайте: не нужна мне сейчас та пшеница, – успокоительно сказал Семенов, – это я так – чтоб напомнить…
Барило смотрел, то ли изучая, то ли напряженно размышляя о чем-то. Может, он решает про себя: вспомнить или не вспомнить?
Семенов тоже задумывается: вспоминает, как Барило курил свои немыслимые козьи ножки… В ту первую военную зиму он набивал их сеном и березовыми листьями – табаку в магазине не стало, а своего еще никто не посеял.
– В замерзании был? – спрашивает вдруг Барило.
Семенов обрадованно вскидывается:
– А как же? На вывозке хлеба? Зимой?
– Ну! – усмехается Барило.
И Семенов доволен, что его вспомнили, – просто счастлив.
– Люди замерзли! И пятьдесят быков! А Ганна! Сутки под снегом пролежала, живая осталась… отрыли ее… я ее вчера видел… Чудеса! Был я в том замерзании, как же…
Усмехается опять Барило.
Удивительно Семенову знакома эта бариловская привычка: ощеривать желтые зубы в улыбке.
– Хорошие работники померзли, – говорит Барило.
Вдруг его лицо растворяется в нежности: это он наклонился к внукам, забравшимся под стол, что-то говорит им, но Семенов не слышит, на него опять накатывают воспоминания…
Семенов и раньше часто думал: почему он не умер тогда, в ту метель? Что его спасло? Или кто? Может, это мать с того света оберегала его своими заклинаниями… Ведь единственный он в тот вечер домой вернулся… да, еще Ганна. Но ее через сутки нашли, из-под снега вырыли: тоже оберегал ее кто-то…
Остальные погибшие считались на совести Барило. Это он велел продолжать работу, когда уже надвигался буран… а потом бросил свою бригаду в степи…
62
Замерзание – часть 2-я
В ту зиму в степи остались три необмолоченных скирды пшеницы. Они стояли в снегах желтовато-белые, сиротливые в солнечном морозном сиянии, и Семиз-Бугу, нахлобучив на брови тучевую папаху, с осуждением смотрела, как кормились возле них одинокие вороны. Эти скирды стояли памятниками хлебоуборочной кампании, от которых невесело было всем: от председателя колхоза и бригадиров до последнего возчика зерна – каким был Семенов.
Скирды были бельмом на глазу, но не хватало комбайнов – их было всего два на все поля, да и те, старые, то и дело ломались – не хватало рабочих рук и времени. Но наконец дошла очередь и до этого, бычьими упряжками скошенного и сложенного в степи хлеба – дошла очередь в декабре, когда бураны уже свирепствовали вовсю.
На ликвидацию позора была брошена целая армия: один комбайн с комбайнером, один трактор «ХТЗ» с трактористом, один верховой посыльный, двадцать пять возчиков, двадцать пять подвод и с ними пятьдесят голов скота, да еще рабочие для обслуживания комбайна – откапывать скирды от снега, сгребать солому и зерно. Главным надо всеми поставили Барило, как самого сурового.
Кроме всех этих непосредственно занятых на обмолоте людей, то и дело наезжали разные «головы» из центра: подгонять, проверять, разносить и хвалить. Одна такая «голова» – уполномоченный из райкома – присутствовала постоянно.
Заснеженная степь вокруг осиротелых скирдов превратилась в шумный ток под холодно-голубым небом. Грохотал комбайн, рычал трактор, люди на скирдах и на снегу вокруг комбайна орудовали вилами, лопатами и граблями, шутили, смеялись, пели… Подъезжали подводы порожние и отъезжали полные зерна. Погода стояла прекрасная, мороз градусов восемь. Улыбались уполномоченные, и сам наезжавший председатель Мина, и «головы» из центра. При такой погоде и энтузиазме народа, подогретого горячим супом, который варился тут же в котле, и теплым хлебом, привезенным с пекарни в тулупах, работа должна была скоро кончиться. Первый скирд таял на глазах, вот-вот должны были приняться за второй. Но тут обрушились неудачи.
Сначала стал комбайн. Что-то в нем лопнуло, треснуло, застопорилось. Семенов уже не помнит, да дело тут и не в этих подробностях. Комбайн был старый, довоенный, в нем всегда что-нибудь ломалось, потому что он весь состоял из реставрированных частей. Новых запасных не было. Комбайнер то и дело возил их в МТС, подправлял дедовским способом и ставил на место. Но долго такие части не работали. Сколько Семенов помнил, на этот примитивный ремонт уходило страшно много времени. Над механизаторами это висело как проклятье. Особенно жаль было маленького, измазанного солидолом и сажей комбайнера. Семенову казалось, что тот смотрит на свой комбайн, как на некое чудовище, которое сожрет его в конце концов с потрохами. И в тот знаменательный день бедняк тоже затравленно бегал вокруг своего железного ихтиозавра, пытаясь наладить работу его дряхлых внутренностей.
Когда комбайн окончательно стал, тракторист заглушил мотор и вместе с Барило и уполномоченным включился в нервный консилиум. Комбайнер продолжал копаться в комбайне, а все остальные сгрудились вокруг котла с ячменным чаем: подкармливали кизяком огонь. Вереница порожних бричек выстроилась в стороне, уткнув дышла с пустыми ярмами в снег. Черно-рыже-белые быки, привязанные к колесам, перекусывали колючей желтой соломой на сером, перетоптанном копытами снегу.
Вдруг все посмотрели в сверкавшую серебром степь – в сторону села, – даже быки подняли морды со свисающей с губ соломой и прищурились вдаль, не переставая жевать: над бледной дорогой вскрутилась снежная пыль, раздалось гиканье и стала расти, приближаясь, трехголовая точка… это кто-то ехал на тройке. Какая-то «голова». Любопытство охватило всех. И вот уже разглядывали подбежавших рысью взмыленных вороных и маленькие сани с кучером в полушубке и грузным седоком.
Огромная фигура в шоколадном тулупе со стоячим воротником, закрывавшим лицо – только красный перец носа торчал, – кряхтя вылезла из саней и прочно встала на снег в таких же, как этот снег, девственных валенках… воротник откинулся, и все увидели вокруг красного носа розовое сытое лицо директора МТС Либединского. К нему уже поспешали: Барило, трое уполномоченных и тракторист. Комбайнер, затравленно оглянувшись, еще ниже согнулся возле колес своего капризного чудовища… Остальные, в том числе Семенов, остались в стороне. «Не личило», как здесь говорили, лезть поперед светлые очи начальства: по местному этикету это было невежливо. Да и вообще лучше было держаться в стороне, от греха подальше, ибо похвалу заработать – редкое счастье, а выговор – что как пить дать в данных обстоятельствах – зачем он, не правда ли? Поэтому толпа не шелохнулась, но все внимательно наблюдали – многие открыв даже рот – за полушубками, окружившими шоколадный тулуп.
Постепенно сцена вокруг шоколадного тулупа достигла кульминации. Розовое лицо директора МТС стало багровым, рот почти не закрывался, и визгливый голос звенел на легком морозе. Руководящие полушубки почтительно молчали. А на измазанного солидолом комбайнера в лоснящейся телогрейке больно было смотреть. Он совсем втянул голову в плечи, побледнел как снег, клок русых, потемневших от пота волос из-под сдвинутой ушанки налип на лоб…
– Саботажник! Я тебя в тюрьме сгною! – закончил усталым бабьим голосом Либединский и махнул рукой в направлении комбайна: – И чтоб через десять минут машина работала!
Комбайнер побежал к своему чудовищу, а директор, сопровождаемый на почтительном расстоянии полушубками, пошел, широко шагая, к саням… И тут его взгляд упал на Семенова: отделился тот, как на грех, от толпы. Губы директора искривились улыбкой. Вид Семенова был, конечно, смешон, и Либединскому вполне заслуженно захотелось отдохнуть – и дать отдохнуть другим – на этом ниспосланном ему образе шута горохового, каким Семенов в то время был.
Директор останавливается, широко расставив ноги в белых валенках.
– Студент?! – спрашивает он, брезгливо оглядев Семенова с головы до ног; его почему-то все считали студентом, хотя он кончил в Москве только десять классов.
– Волосы-то – как у бабы! – улыбается Либединский. – Художник? Все рисуешь, говорят…
– Рисует! – заискивает кто-то сзади. – Уходит в степь и рисует тама… один, непонятно чего… ненормальный, видать!
– Не рисовать надо сейчас, а работать! – взвизгивает Либединский. – А не то можешь подыхать! Ну, ладно… иди. Смотри у меня!
И директор, довольный собой и смехом сопровождающих, продолжает свой триумфальный путь к саням, садится в них, запахивает тулуп, высоко поднимает воротник, кучер гикает – лошади срываются с места, и в глаза Семенова летит снежная пыль…
Как салют отъезжающему выстреливает выхлопной трубой трактор и начинает быстро-быстро тараторить… все весело кидаются по местам: комбайн заработал! Уже течет зерно в подводу – ящик на полозьях, – стоящую под железным хоботом. Семенов впрягает быков.
К нему подходит старый поволжский немец, тоже возчик зерна, который был у себя дома председателем колхоза. Он в добротном черном пальто с каракулевым воротником и в такой же шапке.
– Смотри! – перекрикивает он грохот моторов и указывает кнутом на Семиз-Бугу.
Семенов смотрит на побелевшую гору, на серую тучу, глубоко затянувшую вершину.
– Буран будет! – кричит старик, он и сам весь белый – волосы из-под шапки и усы – словно из снега, а лицо розовое. – Я говорил Бариле, чтоб после обеда не ехать… Нет, поехали-таки! Надо спешить, а то кончится плохо…
Старик отходит к своим быкам. Но все вокруг уже и так спешат. Постепенно подводы наполняются зерном – под хохот и шутки людей, под шум моторов и свист поднявшегося ветра – и, когда караван готов, медленно отъезжают. Остальные – рабочие, тракторист, комбайнер, Барило с уполномоченными – тоже отправляются домой: с песнями, в трех розвальнях, запряженных лошадьми. Они быстро обгоняют медленный обоз, скрываются на дороге из виду. Возчики остаются одни в белоснежной от края до края, подернутой снегопадом степи.
Солнце над сопками светит все тусклее. Снегопад густеет. Снежинки падают крупные, влажные.
Семенов идет рядом со своими молоденькими бычками, покрикивая то «Цоб», то «Цобэ», крутя над их спинами кнут, и снежинки кружат, оседая, – спины бычков побелели, а по их раздутым бокам бегут струйки воды – на теплой шерсти снег сразу тает, и бычки уже совсем мокрые. И Семенов тоже. Зато тепло, не замерзнешь.
«Мокрый снег – чепуха, – думает он. – Сейчас приедем и обсушимся. Хоть бы скорей доехать, больше уж не поедем, в такую-то погоду».
Но чертовы бычки, покачиваясь в ярме, так медленно переставляют ноги, что Семенову кажется, будто они топчутся под солнцем на месте. Вокруг бело. Сопок не различишь. Под ногами только дорога, уходящая в снегопад: трепыхающимися соломинками, вмерзшими в накатанный снег, кучками обдутого ветром бычьего и конского навоза. По этим кучкам да по соломинкам только и видно, как они медленно движутся.
Внезапно налетает ветер, срывает с земли осевшие снежинки – навстречу летящим сверху. Поднимается крутоверть. Ветер вокруг свистит и воет. Бычки на мгновенье останавливаются. И ветер останавливается. Семенов кричит, и бычки опять трогают с места.
И опять поднимается ветер, начинает дуть навстречу. Бычки мотают головами, снег залепляет им глаза, но они продолжают медленно переставлять худые дрожащие ноги. И Семенов переставляет свои, согнувшись, наклонив голову, загородив лицо рукавом. Идти тяжело, ветер мчит под ноги звенящую поземку, свирепо теребит торчащие из-под твердого дорожного наста одинокие соломинки.
Так они идут некоторое время – метр ли, десять ли метров, – но ветер не утихает.
«Это буран! – думает Семенов. – О котором говорил старик: подарок Семиз-Бугу».
Он смотрит на спасительные соломинки под ногами, на кучки навоза – они редки, – щупает ногами дорогу: только б не сбиться! Несколько раз оступается в рыхлый снег на обочине, снова сворачивает на твердое полотно дороги. На ней уж давно нет санных следов – все зализано ветром, скребущей, как наждак, поземкой. Словно не проезжали здесь ни директор, ни Барило с уполномоченными… небось уж согрелись возле теплых печек…
И вдруг ударяет град: это мокрые снежинки схватило морозом. Крупный град барабанит по головам, рогам, спинам бычков, по ярму, по зерну на подводе, большие градины стучат друг о друга в ветре – воздух наполняется треском.
Молоденькие быки еще некоторое время с трудом идут, потом останавливаются, опустив головы. Градины бьют больно – сила в них, будто выпущены из рогатки, – издалека ведь летели, гонимые ветром…
Семенов опять оборачивается: обоза не видно, и он останавливает бычков. Они стоят и ждут под барабанящим градом. Град прекращается, стихает, но не стихает буран: теперь вместо града бушует сухой снег. Снежинки съежились от холода – где-то там, над вершиной Семиз-Бугу – и стали колючими. Снежный наст, вылизываемый поземкой, виден только в радиусе десятка шагов – дальше все тонет в метели.
Семенов смотрит на солнце – на него можно спокойно смотреть, потому что оно как луна… А свет вокруг будто идет от снега… Семенов чувствует себя совершенно одиноким, под этим солнцем-луной… Где же другие? Все бело.
И вдруг прямо перед ним возникает из снежной кутерьмы старик Гардер – как привидение, ведущее за налыгач быков… наконец-то, слава богу!
Старик что-то кричит, но его слабый голос относит ветром…
Он оставляет быков – они сразу тянутся к пшенице в семеновском возу – и подходит: весь мокрый, залепленный снегом, на усах смерзшиеся сосульки, щеки ярко-розовые… настоящий Дед Мороз – доподлинный! – его бы сейчас на новогоднюю елку – в московский Дом пионеров…
– Ты потерял дорогу, – говорит Гардер.
– Это дорога, – стучит Семенов постолами[1]1
Постолы – греческая обувь; делается из шкуры свежозаколотого быка – шерсть наружу, по краям в дырках пропущен сыромятный ремень, который затягивается вокруг ног.
[Закрыть] по снегу. – Видишь – твердо!
– Здесь просто земля, снег ветром сдуло… но это не дорога.
Он озабоченно скребет снег носком валенка. Его черное пальто и каракулевая шапка мокры, с прилипшим снегом и льдом.
Из бурана возникают еще фигуры – смешные, если б не страшные – в рваных полуобледенелых лохмотьях – в накинутых на головы одеялах – танцующие от холода – одна гречанка плачет, ее голос в свистящем снегу звучит странно, как будто она поет… а может, она действительно поет?
– Надо дорогу искать, – говорит Гардер. – Семенов пойдет туда, – он машет влево, – а я сюда. А вы пойте, кричите…
– Далеко не уходите! – говорит Ганна, высокая женщина, тепло одетая, в шерстяном платке и полушубке, местная, солдатка, муж убит на фронте. – За ветром пойдете – не воротитесь…
– Не пропадем! – машет рукой Гардер и уходит вправо, сразу потонув в буране…
Семенов медленно уходит в левую сторону, стараясь идти, чтоб ветер дул справа… А если он переменится? Крики и песни за спиной потонули в ветре… Надо за солнцем следить, оно должно быть немного сзади, а когда будет возвращаться – то перед ним, чуть наискосок… Он внимательно смотрит под ноги – не видно ли где соломинок или навоза – этих спасительных вешек, признаков дороги, – но нет! Везде чисто; мокрые постолы продавливают наст и все глубже погружаются в рассыпчатый снег.
Семенов останавливается – мороз пронизывает его, – он начинает дрожать – ветер насквозь продувает одежду: модную московскую курточку, старый рваный полушубок без рукавов… заледенелый брезент штанов царапает кожу ног, как жесть.
Семенов поворачивается на сто восемьдесят градусов и медленно идет назад, прислушиваясь к голосам оставшихся: кричат они в ветре или это ему только кажется?
Семенов натыкается на них внезапно, они возникают, как под кислотой на белой фотобумаге, – кидаются к нему с вопросами о дороге, о старике Гардере…
– Гардер? Он же ушел в другую сторону!
– Его нет! А дорога?
– Не ворочался!
– Дорогу я не нашел!
– Замерз он!
– Может, он нашел дорогу?
– На тот свет он ее нашел!
– Гарде-ер! Га-ардер!
Все кричат, надрываясь, Семенов тоже кричит, они кричат долго, прыгая в снегу, хлопая себя руками по бокам, как испуганные птицы крыльями, – но бесполезно: в ответ только воет буран, кружит снег в бешеных вихрях, безразлично и потусторонне светит лунообразное солнце…
«Хороший был старик», – скажет о Гардере через тридцать лет Барило, который виноват во всем этом замерзании, – но в тот момент Семенов еще этого не знает, и об исчезнувшем старике он уже через минуту не думает.
Греки что-то запевают, и Семенов угадывает в этой плачущей песне молитву – древнюю, как человеческий мир, как сострадание и беспощадность… но сострадание опять бессильно, ее теплоты не хватает, а беспощадность могуча – у нее мороз и ветер.
Семенов чувствует, что обледенел совершенно. Другие – видит он – тоже. Если б не мокрый снег, который казался вначале таким безобидно теплым! Если б не он, который стал теперь – на земле, на подводах, на быках, на людях – коркою льда…
Быки, которых выпрягли и подвели всех к семеновской подводе, уже не тянутся к пшенице – лежат без движения, побелевшие, полузаметенные – скоро станут сугробами. И все станут сугробами. Или одним большим братским сугробом – если вот так – в куче – замереть… но странно: тепло становится! Это обманчивое тепло, Семенов знает, ему говорили… так-то как раз и замерзают… надо вставать, двигаться… танцевать… вальс или лезгинку…
– Гарно танцуешь, Петя! – кричит Ганна, высокая, как жердь, она сама танцует, размахивая руками.
Танцуют позади нее греки, завесившись одеялами… А вон какая-то фигурка привалилась к лежащему быку, застыла… Семенов наклоняется, тормошит ее, она слабо поводит руками, высовывает из-под шерстяного одеяла бледное носатое лицо – как из воска, губы синие… Он знает эту женщину, она живет в соседней хате, у нее двое детей – мальчик и девочка – маленькие…
– Вставай! – кричит он ей, тряся за плечи. – Спать нельзя!
Она опять пытается приткнуться к быку, длинные черные волосы, пересыпанные снегом, выбиваются из-под одеяла…
Она что-то шепчет, почти беззвучно… Семенов наклоняется.
– Не нада, не нада, – шепчет она. – Не нада, Петя! Хорошо…
– Хорошо?! Что хорошо?! – свирепеет он. – Вставай, твою мать!.. Ганна! Иди сюда, бери ее!
Ганна подскакивает, хватает гречанку с другой стороны под руки, они начинают ее раскачивать – полуживую, – приплясывая.
– Хиба ж так можно! – щебечет Ганна тонким голоском. – Спать на снегу! Ты танцуй, милая, танцуй!
Ветер воет – они пляшут – гречанка обвисает в их руках, как мешок с пшеницей, – начинает плакать – не хочется ей танцевать – или не можется… Поддерживать ее на руках сил нет – Семенов останавливается. Ганна тоже. Гречанка падает на снег, приваливается к одному из окоченевших быков. Замирает. Ей тепло… Семенов видит, что еще несколько человек легли в снег, как в белую кровать, – сбились в кучу, согреться думают… Ему становится страшно… Надо двигаться! Уходить отсюда! Надо дорогу искать.
– Эй, вы! – тормошит Семенов лежащих. – Пошли! Дорогу искать! – они не ворочаются, гонят его руганью.
– Надо вместе быть! – возражает Ганна. – Барило скоро приедет! Будем все гамузом – быстрее найдет…
– Дожидайтесь, как же! Я ухожу! Кто со мной?
Молчание.
Он минуту соображает: где может деревня быть – вроде там – под солнцем – к юго-западу – против ветра надо идти… и он делает шаг в метель – второй шаг, третий… и сразу остается один – с бураном и солнцем. Пусть оно как луна – но светит же! Светит и ведет – кто знает: к жизни ли, к смерти – надо идти. Буран и солнце. Буран и солнце. Холод. Он идет, давя грудью на ветер. Смотрит под ноги – в бегущую навстречу поземку, – не видно ли спасительных кучек навоза, соломинок, – но все бело, поземка свистит по тонкому насту, летит куда-то, свирепо спешит. Когда снег становится глубже, он сворачивает в сторону, потом опять идет на ветер и солнце. Оно еще больше потускнело, стало оранжевым, как медный диск, шлифуемый снегом…
Весь буран пожелтел, пылает жгучим огнем. Это Семенов сквозь огонь идет… Жжет лицо, руки, жжет коленки под жестью брезентовых штанов… Буран и солнце! Он идет сквозь огонь…
Мысли в голове сбивчивые. То вдруг вспомнится ушедший Гардер… То Барило на лошадях… с песнями… мчащийся по дороге… То вдруг возникает в буране московский Дом пионеров на улице Стопани – вечер – окна уютно светятся теплым светом – возле парадного ребячьи голоса… это Семенов в Дом пионеров идет… на кружок рисования… он опаздывает… он идет сквозь огонь…
Останавливается: под ногами что-то чернеет – наклоняется: кучка навоза – конские яблоки! Вот счастье! Неужели дорога? Снег вроде твердый, не продавливается… А вон и соломинки – дорогие! – в насте торчат! Это дорога. Дорога! Теперь держаться. Не сбиться с нее. Держаться…
Медленно двигается дальше – от кучки к кучке, от соломинки к соломинке… они редки. Но это счастье! Это жизнь. Люди. Деревня.
Лицо почему-то уже огня не чувствует, щеки одеревенели… и нос… Трогает лицо – его нет! И ног нет. Растворился Семенов в этом буране. Но идет. Идет бесчувственно и легко.
Темнеет вдруг свет – что-то загораживает его за метелью… Ночь? Какая там ночь! – это что-то твердое… щупает руками: стена… близко – носом – видит ее: глиняная стена… из нее тоже торчат короткие соломинки… снег свистит, несется вдоль стены справа налево… стене нет конца! Конец света, что ли? Да это же дом! Вон и крыша наверху! Глухая стена дома… чудеса!
Долго идет вдоль стены, шаря по ней руками: угол! Поворот… опять стена… опять угол – и открывается солнце! И он идет дальше влево – вдоль другой, противоположной стены… мир с другой стороны? Эта стена опять бесконечна… сон ли это какой, наваждение? Может, он с ума сошел? На мгновение останавливается… еще шаг… И ВДРУГ НАТЫКАЕТСЯ НА ВОРОТА! Деревянные ворота, прикрытые, широкие… узнает их – да это же… это же конюшня! Скотный двор над рекой Нурой, у переезда. Вот это да! Значит, он победил! ПОБЕДА! Пришел-таки. Он пришел в деревню. Кричит «ура» и сам себя не слышит… и вовсе он не сошел с ума. Просто пришел.
С трудом – после долгих усилий – приоткрывает занесенные скрипучим снегом ворота – входит… Его сразу обнимает темнота и теплота. Вой ветра глохнет за стенами. Слышит тяжелое дыхание быков, чавканье копыт в навозе. Глаза, привыкнув к темноте, различают полоски света в щелях крыши, в воротах – откуда проскакивают заблудившиеся снежинки – различает быков – вдоль стены, возле плетеных яслей…
– Эй, есть здесь кто?
Быки вздыхают тяжело, жуют солому… Ну, ладно.
Семенов идет к стене, протискивается меж двух пузатых быков, залезает в ясли, в солому, под бычьи морды, дышащие на него теплым паром, – и сразу начинает лицо болеть. «Пришел, и хорошо», – думает он. И не все ли равно: конюшня ли, Дом пионеров… «Главное, что дошел», – думает с наслаждением. Все тело охватывает страшная усталость. Забывшись, проваливается куда-то: в солому и вообще…
…Отлежавшись тут до окончания бурана, Семенов выходит наружу.
За стенами конюшни – как только он шагнул в свеженаметенные, сверкающие сугробы снежинок – все открылось ему прозрачным и четким до нестерпимости. Облачной пелены в небе как не бывало. В голубом воздухе ярко светило солнце, окруженное радужным нимбом с четырьмя крестами в поперечниках – знаком мороза. И все в этом веселом сиянии виделось теперь до мельчайших деталей, до соломинок в снегу на прилизанной бураном дороге и камыша под речным обрывом, до каменных морщин на чистом челе Семиз-Бугу: на ней уже не было тучевой папахи – гора обнажила голову в память тех, оставшихся… Семенов на минуту застыл в воротах, пораженный торжественностью природы – и величественной горой, и колесницей солнца, и чистым небом, и белыми барханами снега над замерзшим руслом реки Нуры, над ее крутым берегом и дальше – вокруг полузаметенных крыш поселка, где из труб, будто прямо из снега, вертикально поднимался к безмятежному небу многоствольный лес дыма, – это продолжалась жизнь, к которой он все еще был причастен! И пока он стоял, его собственная жизнь промелькнула перед ним, как неоконченный спектакль. Торжественно для души и больно для глаз сверкали небесные кресты над миром, венчая собою смерть, о которой он еще толком ничего не знал, только предчувствовал, как не знал в тот миг других военных драм на бескрайних наших зимних просторах, – но солнце-то знало, оно видело далеко – от незамерзающих воли Японского моря до скованных кровавым льдом полей Украины. А взгляд Семенова куце уперся в поднимавшийся к морозному солнцу дымок над противоположным берегом ледяной реки – там, в заметенной до крыши глиняной хате, уютно потрескивала дровами русская печь, на которой он мечтал поскорее уснуть…
В полдень у конторы колхоза, перед крыльцом, на котором стояли председатель, и бригадиры, и еще какие-то люди из района, выстроилась цепочка пароконных розвальней, окруженных длинной шевелящейся толпой. Когда Семенов подошел ближе, он увидел их – с которыми недавно плясал в буране, – они лежали на санях в неестественно застывших позах, в разорванной одежде, полуголые, синие, присыпанные в соломе снегом, – скульптуры, изваянные сумасшедшим гением… Стеклянный воздух звенел от криков, стонов и плача окружавших подводы родственников. Тут же – на других санях – громоздились трупы замерзших быков. Это Барило всех привез. Но слишком поздно.
Возле последних саней стояли на снегу две маленькие босые фигурки в одежде из мешков, повязанные на головах тряпками, – черноглазые и смуглые греческие дети, брат и сестра. Они молча косились на мать, смотревшую на них из саней широко раскрытыми замерзшими глазами. Какая-то бессмысленно-сердобольная гречанка притащила их сюда проститься и теперь суетилась возле, громко объясняя им их сиротство и убеждая поплакать. Но они испуганно молчали. Они были еще слишком малы. Это были дети той самой женщины, которую он заставлял танцевать в буране. Отца у них не было, а теперь остались и без матери.
Отвернувшись, он быстро пошел домой. Его обмороженные руки и ноги болели, кожа на лице полопалась, и из нее текла, густея на морозе, сукровица…
Из разговоров в толпе Семенов понял, что среди трупов недосчитались двоих: Ганны, которую через сутки из-под снега живую вырыли, и старика Гардера, голые кости которого нашли в степи весной. А померзших быков в тот памятный день всех привезли – пятьдесят голов, – и в ту зиму в колхозе долго ели постное, красное, жилистое мясо.
Барило и уполномоченный по обмолоту вскоре уехали в район. Прошел, слух, что их посадили. Вслед за ними в район укатила заплаканная жена Барило с узелком сухарей и масла. Через несколько дней она вернулась назад – уже без узелка, но с самим Барило. А уполномоченного, больше не видели: говорили, что его забрали на фронт. Хотели и Барило на фронт отправить, но райком его отстоял. Уж очень он был тут нужен, если не сказать – незаменим…
63
Замерзание – часть 3-я
…Семенов вздохнул, глядя на теперешнего Барило: минувшее промелькнуло в замысловатых иероглифах воспоминаний – пронзительно и подробно…
– Старика Гардера жалко! – усмехнулся желтыми зубами Барило, вернув Семенова к действительности. – Хороший старик был, золотой работник. Никогда слова супротив не скажет, все работает и работает, – и Барило опять усмехнулся, скаля гнилые зубы и глядя прямо в глаза Семенову: вот, мол, – золотое зерно ветер унес, а полову оставил…