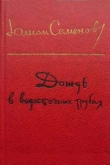Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Буду, буду, – отвечает она тихо. – А теперь спать…
50
Все эти два самаркандских года казались потом Семенову сном, хотя он почти не спал в то время… Но именно потому, что не спал, принимая свои таблетки, и разрывался на части, и работал, как вол, и как одержимый любил, – именно поэтому вспоминалось ему то время одним бесконечным сном…
После занятий в училище бежал он в свою гримуборную перекусить, потом к одиннадцати вечера опять в училище с Лидой – там уже собирались добровольцы ночного класса – Лида царственно всходила на помост в своем обнаженном великолепии – и все начинали ее рисовать в ослепительном сиянии пятисотсвечовой лампы…
Гольдрей приходил, смотрел рисунки – поправлял, хвалил, ругал – Кошечкин орал: «Я отвечаю за эти ноги!» – когда Гольдрей критиковал на его рисунке ноги, или – когда Гольдрей критиковал руки – Кошечкин кричал: «Я отвечаю за эти руки!» – потом Гольдрей уходил – они еще рисовали часов до 2—3, и все расходились по домам, а Семенов бежал писать декорации в театр… так длилась эта карусель…
Приближалось 1-е Мая, и накануне праздника Семенов, придя в кассу училища, не получил стипендии, на вопрос «в чем дело?» кассирша сказала, что его лишили стипендии по распоряжению директора – за то, что самовольно организовал занятия в ночном классе… деньги, как всегда, позарез нужны были, а тут на тебе!
1-го Мая Семенов злой спал до обеда – не пошел на демонстрацию, – а потом они с Лидой гуляли мрачные по праздничному городу: группы поющих, расходящихся после демонстрации людей – лотки с бутербродами, сладостями и вином на тротуарах – яркое свежее солнце – журчащие арыки под бурно зеленеющими деревьями – и тут они вдруг случайно встречают директора училища Мусаэльяна…
Они столкнулись с ним нос к носу посреди мостовой, усыпанной бумажками из-под мороженого и конфет и остатками воздушных шариков…
– Спасибо вам, Семенов, что вы не пришли сегодня на первомайскую демонстрацию! – с угрожающим вызовом говорит Мусаэльян.
– Хоп! – тоже с вызовом отвечает Семенов и ведет Лиду дальше.
– Что «хоп»?! Что «хоп»?! – возмущенно кричит Мусаэльян. – Я говорю: спасибо, что вы не пришли на демонстрацию, студент Семенов!
Семенову кровь ударяет в голову. Он оборачивается, остановившись…
– Не надо! – говорит Лида, схватив его за руну.
– А вы… а вы… – заикается от накипевшей злобы Семенов. – Нижайшее спасибо, что лишили меня к праздникам стипендии! – Семенов картинно, как истый паяц, кланяется опешившему директору. – Это вам должно быть стыдно, а не мне! Вы знаете, как я живу! И как учусь – знаете! А сами лишили меня стипендии – последних крох! Да еще к великому празднику трудящихся… Стыдно, товарищ Мусаэльян! Да что там говорить… сытый голодного не разумеет…
Семенов махнул рукой, отвернулся и быстро пошел прочь, даже забыв о Лиде. Она догнала его, обняла.
– Ну, и дал ты ему, Петя! – выдыхает она. – Разве можно так! Он совсем бледный стоял, раскрыл рот, усики дрожат… выгонит он тебя!
– А ну его к черту! – решительно сказал Семенов. – Выгонят – плакать не буду… в Москву уеду. Я своего в жизни добьюсь!
– Да, ты добьешься, – тихо соглашается Лида. – Не сомневаюсь… А как же я?
– Ходят слухи, что училище скоро закроют, – говорит Семенов. – Все равно уезжать… моя дорога – на Москву…
– А как же я? – грустно повторяет свой вопрос Лида.
Но Семенов молчит. Что она думает? Он здесь останется, что ли?
51
Но и воскресенья у Семенова в Самарканде тоже случались. Даже свободные от халтуры, но не от любви. Тогда они лежат с Лидой в кровати сутками. Только встают иногда поесть и чаю выпить и опять лежат – до опьянения… Он опять и опять ласкает ее грудь, бедра, ноги… целует в губы, в глаза, всю ее целует – с головы до пяток… – уже нет ни Самарканда, ни Москвы – никакого прошлого – сквозь тонкие стенки гримуборной слышно, как самозабвенно щелкают соловьи, – за окном сполоснутое дождями небо – сине-зелено-белый дым весны – урюк цветет – прохладно светит солнце…
– Все стало вокру-уг голубым и зеленым, – поет Лида. – В ручьях забурлила, запела вода-а-а…
Она часто поет эту песню.
А в гримуборной жарко от двух оранжево-раскаленных электроплиток… Семенов встает голый, закуривает, опять ложится… своего тела он теперь вовсе не чувствует, ему кажется, он все еще куда-то летит… или плывет…
– С кем ты в училище дружишь? – спрашивает она, расчесывая длинные волосы.
– Да ни с кем, собственно, – нехотя отвечает Семенов.
– А с Кошечкиным?
– С Кошечкиным мы просто товарищи, не друзья… у меня нет друзей…
– Странно, а я думала – вы друзья…
На первом курсе – мельком вспоминает про себя Семенов – Кошечкин казался ему железным другом – стипендию они клали в общий котел и случайную халтуру тоже – все делили пополам, – а потом Кошечкин получил вдруг откуда-то посылку – вместе на почту ходили, принесли в общежитие – Семенов со стыдом вспоминает, как ждал этой посылки, – вскрыли – там были: колбаса, сало, домашние пышки – и тут Кошечкин отрезал Семенову всего по кусочку, а потом аккуратно закрыл фанерный ящик и спрятал его под кровать – остальное он доедал потом сам. Семенов ничего не сказал тогда Кошечкину, но на том дружба и кончилась: с тех пор они питались врозь, сохранив недоговоренно-вежливые отношения… Но Семенову не хотелось об этом рассказывать Лиде…
Он курит «Беломор» – папиросу за папиросой – глядит в побеленный известкой потолок – сам белил! – она лежит рядом, полуоткинув одеяло, – русые волосы рассыпались по плечам и груди – смотрит на него сбоку, с любопытством. Под потолком плавают полосы синего папиросного дыма – гримуборная не проветривается, а то зимой было бы холодно – окно заклеено наглухо…
– Как же так? – спрашивает она. – Без друзей…
– А зачем они – друзья? Только сокровенное им выбалтывать!
– Нелюдимый ты какой-то, – удивляется она. – Даже страшно… У тебя что – никого нет? Родителей, братьев?
– Нету, – говорит он возможно равнодушнее.
В мыслях у него мелькает родная тетка – сестра отца, – всю войну она оставалась в Москве… вообще-то он ее уже лет десять не видел. Они не переписывались.
– Никогошеньки-никогошеньки? – переспрашивает она участливо. – Мать-то небось была…
– Я ж тебя просил ни о чем не спрашивать! – сердится Семенов.
52
В палатке, в которой Семенов опять курил трубку, лежа на надувном матраце, стало совсем темно: солнце где-то далеко спряталось. И что-то беспокоило Семенова – но не грозовой сумрак, не исчезновение солнца… давление: голова стала тяжелой. Он приподнялся, откинул входной полог, выглянул наружу: там тоже темно стало, теребил траву ветер, небо свинцово синело…
Вылезать, смотреть на горы, не хотелось. Он опять лег на спину, посасывая трубку.
«Такая погода – тоже неплохо, – успокаивал он себя. – Можно отдохнуть, подумать… Заснуть бы!»
53
Семенов опять стал думать о своем колхозе, в котором он во время войны работал. Об этом времени он вспоминал более всего – слишком уж переломно было… после он и Лиде все рассказал, хотя в Самарканде этого еще делать не надо было. «Заяц трепаться не любит», – улыбнулся он своей тогдашней поговорке.
Ему всю жизнь – с тех пор, как он оттуда выбрался – хотелось об этом рассказывать. Особенно – когда выпьет. И всегда приходилось мучительно сдерживаться. Иногда его вдруг прорывало, и он все подробно рассказывал, но тем, в ком был уверен, что они дальше не разболтают: стене, например, какому-нибудь дереву в лесу или полуспящему от водки пьянице, который назавтра все позабудет… Ну, и жене, естественно…
– Странно, почему так хочется об этом рассказывать, а нельзя? – спросил он громко.
Ветер снаружи завыл и несколько раз сильно дернул за крылья палатки…
– Почему хочется, это, пожалуй, действительно понятно, – рассуждал он вслух, под прерывистый вой ветра. – А уж нельзя – потому что ненужно… нетипично это: война, а я в колхозе! А нетипично – значит странно, а странно – подозрительно…
Он повернулся на правый бок, лег на локоть, уставившись в стенку палатки: по ней полз одинокий комарик. Семенов раздавил его пальцем. Потом закрыл глаза…
54
Годы те – далекие, досамаркандские – и сегодня еще стояли перед его глазами, как будто это было вчера…
Жил он там и работал в бескрайней казахской степи. Над степью – куда ни пойди – господствовала высокая лысая гора Семиз-Бугу. По-казахски: «Жирный олень». День и ночь гора смотрела свысока на глиняные домики колхозной деревни на берегу реки Нуры, на ровную степь с верблюжьими холмами сопок вдоль горизонта, на небо…
Семиз-Бугу смотрела на людей круглый год, и всегда по-разному. То ее взгляд из-под насупленных морщин был тяжелым и темным. То морщины разглаживались – и гора опять смотрела легко и солнечно. Погода вокруг – приход весны и осени, снегопады, урожаи – все зависело от этого взгляда. И люди – тоже. Взгляд бывал разным, но всегда спокойным и мудрым. Он говорил: «Вот сейчас вам придется особенно тяжело. А вот теперь полегчает… вы не унывайте! Все перемелется, мука будет!»
Колхозный центр под горой был маленьким, а усадьбы его огромны – они растянулись во все стороны на десятки километров. И всюду над степью – над пашнями, пастбищами, над карликовыми лесками, над оврагами – над горизонтом – господствовала эта горбатая гора. Она видела Семенова, где бы он ни был. И он видел ее. От горы нельзя было уйти.
В этом взгляде было нечто привязывающее. Гора еще говорила: «Мир огромен! Где-то там вдали осталась твоя Москва. А за ней еще другие города. И горы. И страны. Но тебе их не видать. Во всяком случае, пока. А может быть, и навсегда. Надо работать. А не то можно помереть – и тогда ты даже меня не увидишь?» Так говорила гора не только ему, но и всем, кого она объединяла.
В те годы у подножья горы – в маленькой глиняной деревушке – поселились кудрявые носатые греки с Черного моря. Синеволосые корейцы с Дальнего Востока с узкими черными глазами. Кавказцы – с орлиными сказочными профилями. Краснолицые немцы Поволжья. Курносые украинцы. И конечно, коренные аульные казахи с тяжелыми веками на безволосых, с редкими тонкими усиками, бронзовых лицах. Всех объединила гора на время войны, чтобы всем вместе работать здесь для общего дела. А общее дело – была победа над Гитлером. Казалось, гора и это понимала.
В глиняных хатках деревни, в фанерных будках на полевых станах, в конторе колхоза и просто в степи смешались разные нации, наречия и одежды. Кавказцы ходили в огромных папахах и бурках, с кинжалами на поясах, украшенных серебряной чеканкой. Они переговаривались гортанно, как птицы. Немцы щеголяли в добротной, по сезону, одежде, потому что сами были колхозниками и знали, что такое зима. Они разговаривали отрывисто и громко. А греки даже в мороз норовили бегать в летней одежде. Они любили собираться большими группами, много кричали и спорили, и тогда Семенову казалось, что он свидетель какой-то древней одиссеи.
Среди всех выделялись, как белые вороны, горожане: в своих пальто, шляпах и пиджаках. И Семенов тоже – он приехал в модной, но никому не нужной здесь курточке на молниях, в синем берете с поросячьим хвостиком и тяжелых горных ботинках. Самыми полезными были эти ботинки. Но они скоро кончились.
И профессии людей здесь тоже смешались и перепутались. Виноградари сеяли пшеницу, учителя пахали, инженеры копали картошку, бухгалтеры возили сено. И только трактористы из поволжских колхозов были и здесь трактористами, ветеринары – и здесь ветеринарами. Лишь у Семенова не было никакой профессии. Он приехал сюда прямо со школьной скамьи. И готов был на любую работу. Конечно, на такую, с которой бы справился.
Постепенно все жившие под Семиз-Бугу обрастали новыми профессиями, привычками и одеждами. Так же, как и надеждами. И в этом смысле гора была права. Но для этого надо было разорвать и побросать все старое. А кое-что и просто потерять.
55
Греческий философ Сократ известен не только своими сочинениями, но и тем, что его гипсовая голова стоит во всех музеях мира. И не только в музеях, но и в рисовальных классах художественных школ. Лицо Сократа Семенов знал наизусть, потому что рисовал его множество раз. У Сократа огромный выпуклый лоб, курносый нос картошкой и хитрые глаза. Если у вас есть гипсовый Сократ, наденьте ему шапку-ушанку, приклейте усы и бороду – и вы увидите Федосея Василича Барило, семеновского бригадира, главного человека его юношеских лет.
Семенов был приписан к его бригаде. Он зависел не только от горы Семиз-Бугу, но и от этого колхозного Сократа. Куда идти, что делать, что есть и где спать – все это решал Барило.
Он понимал все, что касается природы и урожая. И знал толк в людях. Он знал, кому дать полушубок, теплые штаны и валенки, а кому не дать. Кому добавить хлеба, а кому нет. И не выпускал из рук переходящее Красное знамя колхоза.
Семенова он не любил, потому что тот не умел работать. Сейчас-то Семенов его давно простил, но в те годы ненавидел. И боялся. Это Барило решил, чтобы Семенов стал водовозом.
…Семенов сидит верхом на пустой бочке, бочка лежит на колесах, колеса бешено вертятся, бычки мчатся как сумасшедшие…
«Цобэ! Цобэ!» – кричит Семенов, то есть «налево», но бычки мчатся прямо – раз! – и правое колесо, налетев на угол глиняной хаты, срезает добрый кусок. Семенов подпрыгивает на гулкой бочке, удержавшись. «Цоб! – орет он. – Направо!» – но бычки продолжают мчаться, задрав хвосты, прямо на зияющую в земле яму для замешивания глины – два! – бычки перепрыгивают через нее, и Семенов на бочке чудом перелетает через яму и продолжает мчаться дальше…
На это зрелище смотрят столпившиеся в обозе посреди улицы: чеченцы и русские, украинцы и греки, немцы и казахи. – весь интернационал смотрит – как Семенов скачет верхом на бочке. И Федосей Василич Барило с зажатой в зубах огромной дымящейся козьей ножкой, и гора Семиз-Бугу – гора смотрит издалека, мрачно надвинув на лоб серое облако, осуждающе, хотя и с сожалением.
На полном ходу Семенов спрыгивает наземь, удержавшись на ногах, и бежит за своей бочкой, которую бычки волочат по кочкам. Впереди степь, и бычки скачут к Семиз-Бугу, навстречу ветру. Оглушительно тарахтит на гвозде под бочкой пустое ведро…
Это тарахтящее ведро нагоняет на бычков ужас, как на кошку, когда ей привяжут к хвосту консервную банку. Семенов никогда не думал, что бычки могут развить такую бешеную скорость. Но он развивает большую скорость: догоняет их, забегает вперед и повисает на бычьих мордах, вцепившись в ярмо. Бочка ударяет бычков по ногам, ярмо сползает им на рога, и они падают на колени, шумно дыша в траву. Их налившиеся кровью глаза смотрят на Семенова с ужасом.
Ведя бычков за налыгач – привязанную к рогам веревку, – Семенов возвращается в колонну. Она растянулась по улице в полдеревни. Впереди, под развернутым красным знаменем, гусеничный «ЧТЗ» тащит фанерную будку на полозьях. За будкой ползут запряженные быками брички и арбы. На них везут разный скарб: плуги, бороны, вилы, грабли, деревянные сундуки с одеждой и посудой, прикрытые тулупами и сеном, с восседающими на них людьми.
Возле колонны Семенова встречает Барило верхом на низкорослой, как он сам, лохматой лошаденке. Ругаться будет? Нет.
– Петька! – говорит он, вытащив из усов козью ножку. – Паняй в хвосте! – и едет вдоль своей армии вперед, к развевающемуся в майском воздухе знамени.
Весь этот выезд похож на фантастический парад. Барило полководец, а Семенов рядовой. Он залезает на бочку и едет в хвосте этой армии навстречу своим трудовым подвигам…
В тот день Федосей Василич разбил стадо попарно – коров с коровами, быков с быками – и закрепил их за членами бригады: кому пахать, кому боронить, кому семена возить, а кому – то есть Семенову – возить воду. Теперь, в хвосте колонны, его бычки покорно двинулись – как загипнотизированные – за ползущей впереди бричкой.
Голая деревушка постепенно уползает назад: нет в ней не то что садика – даже ни одного деревца. Глиняные хаты – немногие побелены известкой – выстроились вдоль двух параллельных голых улиц – даже палисадников нет. Кое-где по-за хатами растет серая пыльная полынь. Вдоль улиц, забегая к середине, зеленеет трава. Посреди деревни на открытом ветрам лугу возвышается ветряная мельница. Когда обернешься, она машет тебе вослед деревянными крыльями. Но потом и она скрывается из виду, потонув за степными холмами, и длинную колонну обступает серовато-зеленая весенняя степь. Лишь Семиз-Бугу продолжает маячить слева, неусыпно следя за людским движением, прислушиваясь к песням.
«Почему там – в степи – всегда так много пели?» – думает Семенов. Пели греки свое излюбленное «Калин асперан архонгес…». Пели, ставшие уже почти местными, украинцы, приехавшие сюда в тридцатых годах: «Ехали казаки из дому до Дону…» Пели немцы: «Коммт айн фогель гефлоген…» Греческие песни были всегда какие-то плачущие. Украинцы пели широко и разгульно, почти крича на всю степь. И удивительно слаженно, ровно и нежно пели немцы – их песни были сентиментальны. Но странно – песни всех были почти об одном и том же: о покинутой родине, о жестоких парнях и обманутых девицах. А в немецких песнях еще часто встречались розы – красивые коварные цветы с острыми шипами, рвущими сердце.
Впоследствии Семенову всегда казалось, что здесь и скотина пела свои песни. Надрывно пели овцы пронзительно-высокими отроческими голосами. Задумчиво, органными басами, пели быки и коровы. Даже лошади – эти особые существа – пели молча, про себя, пофыркивая ноздрями, иногда только оглашая степь сольным веселым ржанием…
Поют – каждый свое – ковыляя по степи: греки и немцы, казахи и украинцы, быки и коровы, арбы и телеги, трактор – впереди под красным знаменем, – даже пустая бочка под Семеновым напевает, трясясь по камням и выбоинам. И гора Семиз-Бугу поет – ее песню доносит издалека ветер. Только Семенов не поет. Но и у него в голове вертятся слова: «Сама садик я садила, сама буду поливать», – хотя никакого садика он здесь не садил…
56
Семенов вздрогнул – мир за стенками палатки с треском раскололся – полыхнула молния – на секунду даже в палатке стало светлее – и тут же ударил гром! Семенов дремал, а сейчас, очнувшись, рассмеялся: уж очень неожиданным и оглушительным был этот осенний гром с молнией – даже уши заложило.
Он сел, снова раскурил потухшую трубку, чувствуя, как веселеет: сразу легче стало дышать и голова прошла – то ли от таблетки, то ли от грома…
И сразу опять полыхнуло – одновременно с громом, – и ветер снаружи рванулся как бешеный.
– Вот те и август, – громко сказал Семенов, – гроза какая! Не унесло бы палатку ветром…
Он тщательнее затянул входную полость, придавив ее изнутри этюдником.
Еще раз оглушительно полыхнуло – и сразу же обрушился на палатку всепобеждающий ливень, заглушив последние раскаты грома и его эхо в горах – и рев реки – и многошумный шелест деревьев, – заглушил, как видно, надолго своим бесконечным рыдающим, хлюпающим гудом…
– Ну, и спасибо! – удовлетворенно сказал Семенов, ложась на матрац. – Специально хлынул, чтобы помочь мне… теперь-то я давану крепко! – и сразу заснул.
57
Спустя тридцать лет приехал Семенов в тот же колхоз. Подвернулся такой случай – предложили в Союзе творческую командировку «для изучения жизни», – и Семенов подал заявление поехать в Среднюю Азию – и в тот колхоз под Семиз-Бугу, не указывая, конечно, что это его колхоз, написал только, как это полагается, что там ждут его «герои будущих картин», – и поехал, со смутным сердцем, изучать свою же собственную бывшую жизнь… Много воды утекло с тех пор, как он оттуда уехал, и много было у него по свету приключений, но все эти три десятка лет тянуло Семенова именно туда – к подножию Семиз-Бугу, хотя – казалось бы – что он там потерял? – ничего! – он давно вернулся на родину, давно стал известным художником, давно превратился из «Петьки» в «Петра Петровича», а его все тянуло назад, как-то грустно и бессмысленно, – и вот он идет наконец по знакомой улице и видит вдали – над глиняными крышами, над степью, над колеблющимся весенним воздухом – странно родную его сердцу Семиз-Бугу…
Удивительно устроено наше сердце! Оно привязывается даже к тем местам, где ему приходилось страдать. Более того: оно их идеализирует. И с годами маленький поселок под горою, не теряя печального смысла, становился для Семенова все более идиллическим: вспоминались роскошные степные весны и зимы, скачки, в которых он участвовал с казахами, белые гуси на зеленой траве, бродившие по деревне, сказочно гудящая на ветру крылатая мельница, белый домашний пшеничный хлеб, который бывал, казалось, вкуснее всяких городских тортов, и песни – целая симфония песен, которые пелись в бричках по дорогам и на полевых станах, – смешно, не правда ли? И постепенно в Семенове укреплялось желание: вернуться в эту степь, побродить по ней, проскакать верхом, отведать у костра украинского каравая и казахских лепешек, услышать старые украинские, немецкие и русские песни, вспомнить былое и – конечно же! – повидать, если остались в живых, друзей и недругов. Было в этом сокровенном желании и нечто от самооправдания: хотелось увидеть тех, от которых когда-то жалко зависел, снова увидеть их, уже будучи теперь независимым, пробившимся в люди. Хотелось этой своей независимостью восстановить былую попранную справедливость, отомстить за свое прошлое унижение, победить в этом беззвучном споре на расстоянии многих километров и многих лет. Вернуться – и победить! И освободиться. Казалось, если он там не побывает вновь – то так и останется где-то в недосягаемом измерении тем самым жалким, обовшивевшим, в костюме из мешков – Петькой… С такими сложными чувствами Семенов приехал ранней весной в эти болезненно дорогие ему места – и сразу рухнула выстроенная в мыслях идиллия!
Она рухнула потому, что деревня была та – и не та. Теперь здесь был не колхоз, а совхоз. Еще издали, подъезжая не в бричке, как раньше, а в автобусе, Семенов увидел, что в начале главной улицы, где – помнится ему – торчали из земли черные саманные крыши казахской стороны – так называемый аул, – стояли теперь побеленные здания механических мастерских широким полукругом, в середине которого дремали под открытым небом похожие на фантастических животных комбайны – целое стадо, – а рядом разбрелись по двору сенокосилки, плуги и прочая механизаторская мелочь. Мастерские появились у въезда в деревню слева, а справа выросло трехэтажное здание с надписью: «Больница». И это все поражало: и то, что он приехал в автобусе, и огромный парк сельхозмашин, и больница. Удивительно было еще видеть разбитую шинами и гусеницами землю – и на подбегавшей к поселку дороге, и на самой улице поселка, и даже между домами – из улицы в улицу – там уже не росла густо полынь и зеленая травка, и не было на ней белых гусей – вся земля была вытоптана ногами и выбита машинами. И бычьих, и лошадиных упряжек Семенов не увидел ни в момент въезда в деревню, ни потом, во все дни пребывания. Лошадей он встретил позже на пастбище – по-казахски «джайляу» – диких, вольных, прекрасных животных! Это были вовсе не те военные заморыши, с которыми он когда-то расстался. И полевые станы, встречавшиеся по пути на краю огромных фиолетово-черных массивов пашен, по которым ползали под весенними набухшими тучами гусеничные трактора с сеялками, – эти станы уже не были фанерными будками на колесах – каждый раз это было несколько домиков: мастерская, общежитие, столовая… чудеса, да и только!
И странное чувство разочарования обуяло Семенова. Он поймал себя на желании увидеть все таким же, каким оно было в те далекие годы, тридцать лет тому назад, понял, что ему хотелось войти в ту же старую обстановку новым человеком. Он и вошел новым – но в новую обстановку! Ни идиллических белых гусей на зеленой травке, ни тачанки с вороными в ярких лентах, ни медлительных скрипящих бричек с быками, ни белого домашнего хлеба: хлеб – подумать только! – продавался теперь в магазине. И он уже не был таким вкусным. Идиллическая деревня стала промышленным поселком, хотя здесь все так же пахали, и сеяли, и убирали хлеб. Так, да не так! Только мудрая Семиз-Бугу надо всем этим казалась все той же. Но и это только так казалось, и она стала другой: ее мудрость поблекла, она оказалась наивной, ложной, во взгляде горы уже не было страшной роковой силы… Да! – были еще старые дома и люди: но дома изменили содержание, а люди – которые остались, потому что многих Семенов не нашел, – постарели, поблекли, изменились. И изменилось их отношение к нему.
И вот к одному такому человеку он и шел сейчас по главной улице, угадывая взглядом знакомые строения. Вот школа, которую он когда-то разрисовывал, а вот клуб, где был заведующим, а потом лежал там в сыпном тифу. А вот маленькая глиняная хата над берегом реки Нуры, в которой Семенов квартировал одно время с двумя странными старушками и одним молодым греком…
Семенов искал глазами знаменательный угол хаты, который сшиб когда-то водовозным колесом… и увидел вдруг этот угол таким же отбитым! Он словно ждал его здесь, не меняясь, все эти годы. Семенов погладил рукой шершавую поверхность излома, с торчащими в нем соломинками, потому что саман всегда замешивают для крепости на соломе. Сломанный угол обтесался и сгладился – тоже постарел, – а возле копошилась новая жизнь: играли на голой земле чумазые казашата, – значит, и в этом доме изменилось содержание.
Семенов пошел далее по улице, лицом к Семиз-Бугу, к хате нужного ему человека – Федосея Василича Барило.
58
– Вот уже сколько лет прошло, а я их не забываю, моих бычков – Цоб и Цобэ! – пробормотал Семенов, будто разговаривал с ливнем, бушевавшим за стенками палатки.
Ему показалось, что и бычки его тоже где-то слышат – в этом апокалиптическом ливне, который вдруг смыл все разделявшие их теперь годы, – хотя бычки давно уже в колхозе на мясо пошли. Или на мыло…
И тут же снится ему, что плывет он с Лидой, качаясь в лодке, на волнах вечности и счастья. И опять он поет ей взахлеб о любви – как глухарь в весенней тайге… да и как ей не петь, такой красивой? «Самая красивая женщина в Советском Союзе!»
«Но счастье ли это – петь глухариные песни? А когда я ее рисую – разве это не счастье? – размышлял Семенов. – В чем подлинное счастье: когда я ее рисую или когда люблю? Нельзя ли это счастье в одно слить? Но тогда надо вместе с ней в Москву ехать, а это невозможно… Прав все-таки Гольдрей, хоть он и старый хрыч: все надо принести в жертву искусству…»
– Ну, рассказывай, рассказывай! – слышит Семенов нетерпеливый голос Лиды. – Чего замолчал-то?
59
– С бычками связаны были в те годы мой хлеб, мои мученья, мой смех. Хлеб – потому что они первые помогали мне его зарабатывать, мученья – потому что бычки были такими же неучами, как я, и постоянно допускали брак в работе, а смех – потому что над ними, как и надо мной, нельзя было порой не смеяться. Но это был смех сквозь слезы. Сквозь мои слезы. Ибо отвечать всегда приходилось мне.
Сначала я считал бычков дураками и даже злился на них. Только потом я понял, что они были даже очень умными. И умели хитрить! Хотя эта хитрость оказывалась наивной и беспомощной. Просто они не хотели ходить в ярме, не хотели ничего возить – ни бочку с водой, ни бричку, ни тащить волокушу. Я-то понимал, что должен свой хлеб зарабатывать, а они не понимали – почему должны были зарабатывать свою траву? Особенно летом, когда ее вокруг так много: ходи и ешь! Со своей телячьей беззаботной жизнью им никак не хотелось расставаться.
Бычки были совсем молоденькими. Когда я с ними познакомился, они были особенно тощими: позади осталась голодная зима с буранами и морозами. Бычки жили зимой на отгонной ферме, где получали скупой паек сена – в утренних и вечерних сумерках огромного хлева. Днем они подкармливались на зимних пастбищах, где им приходилось отрывать корм из-под снега копытцами: сухую, лишенную витаминов, прошлогоднюю траву. И это было, конечно, нелегко.
Один бычок был рыжим с черным зеркальцем – так называется тупой конец бычьей морды, между верхней губой и носом. Этого бычка звали Цоб. Другой бычок был рыжий с белым зеркальцем, его звали Цобэ. Прожили они недолго – вскоре замерзли в буране. Я стал работать на других. Но и другие быки звались все так же: Цоб и Цобэ. Я бы назвал эти имена коллективными, потому что их носят миллионы быков не только в Казахстане, но и в других республиках. И связаны эти имена с рабочим названием быков. В любой упряжке бык Цобэ всегда идет справа, и, когда его окликают, он должен убыстрить шаг и повернуть всю упряжку влево. Бык Цоб идет слева и, когда окликают его, убыстряет шаг и поворачивает вправо. Управление быками осуществляется без вожжей – быки идут в ярме, давя на него грудью: голос возчика да кнут – вот и все нехитрое управление этой системой, насчитывающей многовековую историю.
Бывает, что помимо Цоб и Цобэ имеют некоторые быки еще индивидуальные имена. Но мои бычки таких имен не имели. Индивидуальные имена имеют, как правило, частные быки, то есть быки отдельных колхозников. А мои бычки принадлежали колхозу – то есть сразу всем и никому. Сегодня с ними работал я, завтра кто-нибудь другой, а послезавтра еще кто-то.
Еще недавно – в стаде и на ферме, на попечении пастуха Семена – они были вообще безымянными. Кто дал им имена? Все тот же Барило! В один прекрасный майский день весь бригадный скот с утра пригнали к нему, как к некоему богу. Барило сидел верхом на лошади, с которой он никогда не слезал. Только дома или в конторе колхоза стоял он на собственных ногах или сидел на табуретке, скамье или кровати, хотя с удовольствием сидел бы и там на лошади. А в тот прекрасный день он сидел на лошади за деревней, на фоне Семиз-Бугу, – и смотрел на свое стадо, дымя цигаркой. Животные толпились перед ним – голов пятьдесят, – вдыхая жадными ноздрями влажный, еще пахнущий снегом весенний ветер и стреляя глазами по сторонам – норовя сорвать свежей зеленой травки. Пастух Семен кричал на них страшным голосом, хотя на самом деле был человеком добрым и ругался только для вида – пугал быков, и коров, чтобы не разбежались. Молоденькие бычки испуганно шарахались от него, мотали головами, по-детски взбрыкивали.
В стаде были еще взрослые быки, медлительные и спокойные. Они и не пытались никуда бежать – знали, что это бесполезно. Они важно пережевывали жвачку, подняв рога в небо, и на этих рогах кольцами навиты были годы неустанного труда – это были ветераны. Они уже давно знали, кто из них Цоб, а кто Цобэ, и ничему на этом свете не удивлялись. Давно таскали они по пашням плуги и бороны, месили ногами по кругу кизяк – казахское топливо из навоза, – сгребали волокушами сено: повидали на своем веку всяческое. Они даже видали на станции паровоз и вагоны и высокие – до неба – элеваторы, куда свозили пшеницу.