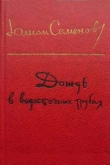Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
И Семиз-Бугу переходит на шепот:
– Могут двадцать пять лет дать! За хищение социалистической собственности! Знаешь указ?
– За что?! – ужасается Семенов. – Я же не виноват!
– Как не виноват? Ты же его выпил, керосин-то? Выпил! Признайся, вкусно было?
– Ничего не вкусно, – шепчет Семенов. – И не пил я его вовсе… только глотал, заправляя трактора…
– Странный ты человек, – говорит гора. – Керосин пьешь, друзьями закусываешь…
Семенов пытается вскочить, ему страшно.
– Не пил я его! – кричит он. – Это Гинтер выпил! – и падает в мягкие объятия горы.
– О господи! – стонет Лида. – Не заснешь, видно, сегодня… Лежи ты, чумовой, тихо…
– Лежи тихо! – повторяет гора. – А не то достукаешься! Или Гинтер тебе шею свернет, или прокурор. Знаю я, что ты не пил керосина… Гинтер его воровал за твоей спиной да налево продавал. На него и донесли… а ты лежи! Ты ничего не знаешь. Твое дело телячье…
Семенов успокаивается:
– Скоро я отсюда выйду?
– Скоро, – говорит гора. – Скоро все выйдем: кто на тот свет, кто на этот…
– А я на какой?
– Там видно будет.
– Хотелось бы на этот, – говорит Семенов. – У меня дети маленькие… в Москве… на ноги их надо ставить. Да в Союзе художников работы полно… А всего лучше пастухом быть, в степи… спокойно… Лошадь вон моя на днях приходила, в окно заглядывала, звала… моя лошадь, на которой я у Барилы работал.
– Это она прощаться приходила, – говорит гора. – Ты что – не знаешь? На фронт ее взяли!
– Как – на фронт?
– Очень просто! Их ведь много там нужно, на фронте… лошадей… Вот ее и взяли. Очередь подошла. А ты разве не знал?
– Не знал… Я тоже на фронт хочу!
– Эх ты! Всех своих друзей растерял! Бычки Цоб-Цобэ померзли… Овечку свою с картошкой съел… Лошадь на фронт забрали. Одна я у тебя осталась!
– Как всех растерял? – говорит Семенов. – А Увалиев Анцобай? А Кошечкин, Гольдрей… Эмилия Яцентовна… Монна-Лида еще… да дети в Москве…
– Дак то ж люди! – усмехается гора. – Такие же слабаки, как ты… Ну, ничего, ты духом не падай. Есть у тебя главный друг и помощник – гора Семиз-Бугу! Вот выздоровеем и выйдем!
– А чего ты тогда держишь меня здесь, если друг?
– Так война же! – удивляется его непонятливости гора. – Работать надо! Для фронта! Вот война кончится…
– Постой, – вспоминает Семенов, – говорил Барило, что я тогда в Москву вернусь, когда гора Семиз-Бугу с места сдвинется… – он улыбается, тихо смеется – в палатке, на берегу Вангыра: – Вот ты сдвинулась, правда? Ты же сдвинулась?
– Конечно, сдвинулась! – весело отвечает гора. – Я же не там – в степи – я в клубе! С тобой! И в Самарканде я, и в Москве! И на Вангыре… Я всегда с тобой, куда бы ты ни поехал…
– Значит, все в порядке?
– Все в порядке, – улыбается гора. – Ты лежи, сил набирайся…
78
Гора исчезла… теперь Семенову кажется, что он стоит на берегу Вангыра – с отцом и с матерью. Река штурмует огромные камни, над которыми стоят облака брызг и разноцветные арки радуг, а вокруг громоздятся горы, высокие и голые, и в складках гор лежит снег, и в двух шагах от него на мшистом берегу тоже лежит снег, ослепительно белый, дышащий холодом, а надо всем этим – над ним, над отцом с матерью, над ревущей рекой и суровыми голыми горами – медленно кружит Солнце – и еще Луна, и еще звезды – потому что Белая Ночь. Семенов – он видит себя мальчиком – раздевается, остается совсем голый, даже без трусов, залезает на камень и ныряет с него в голубую бурлящую воду – ух, как его сразу обжигает холодом! Он ныряет, смотрит под водой – в голубом, призрачном мире. Из теней под камнями возникают хитрые хариусы, они улыбаются ему, помахивают хвостами и плавниками, зовут за собой… но он опять выныривает, чтобы глотнуть воздуха… Кожа у него красная и в пупырышках, но ему почему-то совсем не холодно… «Сейчас же вылезай! – кричит мама. – Ты весь синий!» Но он в ответ смеется, и опять ныряет, и опять видит хариусов, которые его совсем не боятся, а потом опять выныривает и опять слышит, как мама кричит: «Сейчас же на берег! А то мы с отцом уйдем!» – «А я стану рыбой! – кричит он в ответ. – Стану рыбой! Мне здесь хорошо!» Мама делает шаг к воде и протягивает к нему руки, а он опять смеется и ныряет – и вдруг чувствует, что он уже не мальчик, а хариус, что вместо ног у него хвост, а вместо рук плавники и что он уже не может повернуть голову, а поворачивает все туловище вместе с головой, и дышит он жабрами… и тогда ему становится страшно… Он хочет вернуться на берег – выпрыгивает из воды, – но опять падает назад в реку и начинает метаться под самой поверхностью воды, сквозь которую он видит родителей – их странные, колеблющиеся лица, – слышит их приглушенные голоса: «Что с ним будет, с моим мальчиком!» – плачет мама. «Ничего с ним не будет, – спокойно отвечает отец. – Так лучше». – «Как тебе не стыдно! – кричит мама. – Мой мальчик! Мой бедный мальчик!» – она падает и начинает биться головой о камни. Отец поднимает ее и трясет за плечи. «Сейчас же перестань! – говорит он строго. – Так надо!» – «Что надо?» – не понимает мать. «Это все временно, – говорит отец. – Мы с тобой погибнем, а он останется жив! Именно так он останется жив! Понимаешь? Мать плачет и смотрит в воду, а он – ребенок хариус – смотрит на нее из воды и тоже плачет, не чувствуя слез, потому что они сразу растворяются в воде. «А теперь пойдем, – говорит отец матери, – и, пожалуйста, не смей оборачиваться! Я тебя очень прошу!» Отец обнимает мать за упавшие плечи и медленно уводит ее в горы. Видя, как они уходят, он бешено выпрыгивает из воды – еще, и еще, и еще – каждый раз, когда он выпрыгивает, он видит, как отец и мать удаляются – медленно удаляются куда-то вверх по яркому блестящему леднику – все вверх и вверх, как две синие точки, – они почему-то светятся! – а над ним горит красно-зеленая радуга – под радугой, на вершине – Семиз-Бугу, что ли? – их уже кто-то ждет – кто-то серый, неясный, с маленькой кровавой звездочкой во лбу – и тут Семенов страшно хочет закричать, но чувствует, что у него нет голоса…
79
Семенов проснулся от тишины и света – еще глаза закрыты были, а он уже видел свет – и, когда открыл глаза, понял, что опять солнце: ярко светились изнутри мокрые зеленые стены палатки. Семенов весело вскочил – открыл полог – вылез наружу: все сверкало, переливалось, сияло! И небо было чистым – только над верхушками гор еще торчали два серых облака.
Семенов взглянул на часы: 13 часов, 44 минуты…
– Неплохо я вздремнул! – улыбнулся он.
Трава вокруг еще примята была ливнем, перепуталась длинными космами, зола в костре вся смыта была до голой обгоревшей земли, и всюду – на обгорелых поленьях, на стеблях травы, на палатке, на упавшем в траву спиннинге – висели, переливаясь, тяжелые капли… Черный котелок на земле наполнился до самых краев прозрачной дождевой водой.
– Удивительно, как крепко может спать человек, уйдя в свои сны, – сказал Семенов, выбивая трубку о каблук сапога и доставая табак, чтобы снова набить ее. – Пройдусь, разомну кости, посмотрю на деревья… уж очень они красивы – в этих гроздьях капель…
Он раскурил трубку и пошел через поляну к ближней роще – и чуть опустившееся уже на небе солнце тоже пошло за ним: высушивать на березах остатки ливня…
80
«Люблю я поспать», – думал он, затягиваясь на ходу сладким дымом.
Да, он умел спать и много спал в своей жизни, научившись этому уже вдали от Москвы. Когда было тяжело или грустно или случались какие-нибудь неприятности – он ложился спать. Он умел спать-как убитый. Когда он потом просыпался – иногда через сутки, – он всегда чувствовал себя лучше: успокоенным, не таким нервным или злым. И просто отдохнувшим, окрепшим. «Завтра! – подумал он. – Завтра я докажу, как я умею спать».
«Счастливый ты человек!» – говорили ему знавшие об этой его способности. Да, в этом он действительно был счастливым. Он вообще считал себя счастливым – по сравнению с теми друзьями юности, которых давно уже нет. Многие погибли сразу же после десятого класса, в первый же год войны. «Да, я счастливый! – подумал Семенов. – Сколько пережито, и вот – опять ловлю рыбу на Севере… и бессонницы нет…» Он не считал проведенное во сне время выкинутым из жизни, как некоторые. Спать – это тоже жить, если заснешь не навечно. «Все мои удивительные сны, объяснившие мне столь многое, – где бы я с ними встретился, если б не умел так спать?»
81
Он вспомнил, как один раз заснул в Караганде – в домике одной старухи, у которой снимал угол. Смешной был домик: одинокий, возле мертвого озера на месте осевшей земли. Внизу – под озерной впадиной – были заброшенные угольные выработки, на месте которых всегда образуются озера подпочвенной воды. Таких озер с голыми глиняными берегами в Старой Караганде много. В таком месте и стоял домик, в котором Семенов тогда жил. Принадлежал этот домик сморщенной старушке с красавицей дочерью. Отца в этой семье – как понял Семенов – никогда не было. Мать и дочь работали на шахте, и Семенов там работал – неподалеку, через голый пустырь мимо озера. Пустырь раскинулся между Старым городом и Новым, но Новый отсюда совсем не виден был – туда надо было ехать на маленьком поезде-кукушке, – а в Старый город можно было дойти пешком. Домики и терриконники Старого города даже видно было из окошка старухина домика. Так что жили они здесь вовсе одиноко, вроде бы как на промышленном хуторе.
Он тут снимал угол, но угла как такового у него, собственно говоря, и не было. Домик состоял из одной крохотной комнатки, в которой помещались кровать, стол и стул.
Когда старушка и ее дочь уходили на шахту, он спал на их кровати, а когда они все были дома – что случалось не часто, потому что работали, как правило, в разные смены, – тогда женщины спали на кровати, а он на полу, сунув голову под стол.
Построен был этот домик самой старухой – из ящиков, досок, отслуживших свой срок на шахте, таких же бревен, из мятых листов железа и каких-то странных ржавых частей непонятных машин… В общем, это был этакий современный домик «на курьих ножках» – сказочный домик двадцатого века. Мать и дочь работали обе на шахте – старуха сторожем, а ее дочь – в ламповой: выдавала шахтерам лампочки…
И вот один раз он вернулся со смены утром. В домике никого не было. Он очень устал, да и настроение было плохое. Как всегда в таких случаях, он решил хорошенько выспаться и лег в кровать, заперевшись изнутри. На широкой мягкой кровати – это была самая шикарная вещь в доме! – он сразу глубоко погрузился в свои сны о прошлом, в предвкушении счастливого будущего, которого он всегда ждал в своих снах, но которое почему-то никогда во сне не приходило: всегда приходило прошлое. И вот когда он так крепко спал, провалившись в это прошлое, возвратилась вдруг с работы старуха и стала стучать. Но он спал так крепко, что вовсе не слышал ее грохочущих по жести и дереву стуков, а потом и громкой ругани, которую, наверное, слышала вся Караганда за два километра отсюда. Семенов жадно разглядывал свои сны – вне этих снов мир для него в тот миг не существовал. И проснулся он вовсе не от стуков и крика старухи, а оттого, что дом обрушился на него всеми своими стенами, углами и крышей! А может, просто время подошло Семенову проснуться, потому что было уже поздно…
Но дом уже лежал на нем жалкими развалинами. А надо всем этим стояла бедная, старая Баба Яга, разъяренная и бессильная, размахивая в вечернем воздухе кулаками…
На другой день они втроем восстанавливали свое жилье и весело смеялись. Да, уморительная была история…
82
– Боже мой, в каких я домах только не жил! – воскликнул Семенов.
В его сознании промелькнул дом на Каляевской улице в Москве, возле Садовой, где они жили, когда отец работал в Кремле, – большой серый дом, который и сейчас еще там стоит, но от живших в нем в те далекие годы остались только печальные воспоминания. Проезжая мимо этого дома, Семенов всегда мучительно смотрел на него, хотя старался не смотреть. «Черт с ним, с этим домом, жаль, что его до сих пор не снесли», – зло думал Семенов. И еще один серый дом промелькнул в его памяти – в старом Берлине, где они жили, когда отец работал там в советском посольстве: но этот дом он помнил плохо, потому что был тогда еще совсем маленьким… Промелькнули в его памяти глиняные хаты под Семиз-Бугу и саманный барак в степи, где он жил, когда пас овец и коров, и деревянная будка на колесах, где был учетчиком тракторной бригады, и деревенский клуб, где он долго болел тифом – тоже «жил», – и карагандинские землянки, и узбекские «хона», увитые виноградными лозами, в которых он снимал холодные пустые комнаты, без печек, с сандаловыми четырехугольными ямами посередине в глиняном полу, и общежитие художественного училища в старинном каменном доме с толстыми стенами и конечно же гримуборная в самаркандском зимнем парке, где он блаженствовал с Монной-Лидой… и еще одна сцена ему вспомнилась, большая театральная сцена, но уже не в Самарканде и не в колхозном клубе – а в Караганде, в шахтерском клубе имени Кирова, где он тоже жил! Эта сцена в клубе шахтеров была его домом в буквальном смысле слова: тут он спал, ел, отдыхал, читал и – конечно же – тоже кой о чем вспоминал – как сейчас, на Вангыре…
Он тогда еще только приехал в Караганду из колхоза, и у него долго не было квартиры. Днем, когда он не работал на шахте, он занимался здесь в изокружке, или смотрел кино, или помогал писать лозунги художнику клуба. Художник клуба, старик, тоже москвич, оформлял весь клуб и спектакли и еще вел изокружок. Семенов с ним подружился из-за живописи и из-за того, что их судьбы очень похожи были. Жил старик со своей женой за кулисами, в большой комнате, увешанной картинами и заставленной сундуками и самодельной мебелью. Проходить к нему надо было через сцену, сквозь таинственный мир развешанных декораций, сквозь толпы раскрашенных артисток и артистов, под разноголосый шум оркестра, в ослепительном свете софитов или в полутьме шевелящихся кинотеней позади экрана… Когда же не было кино или представлений – днем ли, ночью, – сцена и зал походили на осиротевший мир, в котором все давно уже умерли…
Здесь, на сцене, он сладко и много спал, завернувшись в декорации. Семенов удивлял в клубе всех – и сторожей, и зрителей, и самих артистов. К нему относились отчужденно, но с некоторым жалостливым сочувствием. Носил он тогда длинные, до плеч, волосы… был этаким клубным домовым. Его прямой обязанностью было грунтовать деревянные щиты, писать на них объявления о разных клубных мероприятиях – кино, спектаклях, заседаниях – и разносить эти щиты на своей спине по городу, устанавливая их в определенных местах, порой очень далеко от клуба.
Прожитое в этом клубе время он чаще всего вспоминал как одну бесконечную оперетту. Дело в том, что на сцене чаще всего выступала оперетта. Почти каждый вечер шла здесь «Летучая мышь», или «Марица», или «Цыганский барон». Будучи признанным клубным домовым, он смотрел все оперетты бесплатно: сидя в первом ряду на приставном стуле. И если ему порой не хватало хлеба, то веселыми зрелищами он был обеспечен с избытком… «Цветок душистых прерий, твой взор нежней сирени!» – «Да, я шут, я чудак – так что же? Пусть зовут меня так вельможи», – и так далее… Семенов знал наизусть все опереточные арии, но вот что интересно: какая ария из какой оперетты – этого он порой сказать не мог! Постепенно все оперетты слились для него в одну бесконечную блестящую жизнь, которая сопровождала его другую – вторую жизнь – вовсе не блестящую…
83
– «Поедем в Бороздин, там буду я с тобой один, пойдем к моим друзьям, пойдем к свиньям!» – громко пел Семенов арию из оперетты, возвращаясь к палатке. – Сейчас этюд напишу! – решил он.
И солнце возвращалось с ним из тайги – освещать ему для этюда, что он себе выберет в этом обновленном, сполоснутом мире.
Семенову почему-то весело стало от всех этих воспоминаний о домах. Песня его – вернее, ария – странно звучала в мокрой тайге. Редко щебетавшие птицы сразу испуганно смолкли, и стало совсем тихо. Шум реки сюда почти не доносился – приглушенно звучали отдаленные грозные пороги. Если остановиться и прислушаться – можно было вдруг разобрать в этой тишине, как скрипят старые березы и ели деревянными костями, как они вздыхают вверху тесными кронами, как с нежным, еле слышимым звоном и шорохом отрываются от них и падают наземь разбивающиеся капли…
Но сейчас слышны были только шаги Семенова и его громкие арии. Он вспоминал и размышлял под собственную музыку.
84
…Нет, не только спал Семенов на сцене, завернувшись в декорацию, не только мечтал о счастье в трудные минуты – как некий современный Обломов – вместе со всем этим, как он работал! Писал натюрморты на случайных кусках картона, на обоях, на фанере, на оберточной бумаге – что под руку попадется! Писал композиции, рисовал иллюстрации, делал наброски, портреты сторожей и артистов. И пейзажи тоже писал – садился на заднем, служебном крыльце клуба и писал виды Старого города: лужи на месте осевших выработок, терриконы, редкие хилые березки в клубном палисаднике, серые сопки на горизонте, уходившие в дымную углеродную степь…
Да разве только в Караганде – в этом клубе – он так работал? Разве только в Самарканде, в училище? А в своем счастливом детстве – в Москве до войны? А в колхозе? Когда не было красок – глиной писал! На побеленных стенах домов, внутри и снаружи – те же пейзажи, ковры, натюрморты; писал анилиновыми порошками на простынях – пруды с лебедями – для продажи вроде бы, а сам вкладывал в них душу, учился на них. А в Москве после возвращения – тут уж и говорить не приходится! «Семенов-то камни грызет, землю ест!» – говорили про него. Если он кое-чего сейчас добился, то недаром: заслужил! «Ведь камни грызет, землю ест! Духом не падает!»
Но тут – если честно, то надо признать: духом тоже падал. Да и нельзя было духом не падать под теми ударами судьбы, которые выпадали на его голову. Но дело вовсе не в том, что падал, а в том, что потом опять поднимался несмотря ни на что! Вот в чем была его сила.
В черные дни Семенов начинал пить… Пить все равно что: водку, коньяк, вино, пиво, брагу, спирт, денатурат, одеколон, самогон! Если б только знал влюбленный в его картины вертолетчик, как Семенов пил в те черные периоды своей кривой жизни – ахнул бы! А бичи-алкоголики возвели бы его в ранг святого…
85
Когда он уезжал из колхоза, ему необходима была справка, что его отпускают. Такие справки почти никому не давали, а тем более не мог получить ее Семенов, который был приписан к этому колхозу и не имел права оттуда уезжать. Было это уже после того, когда он чуть не умер от тифа, но выкарабкался и теперь – полуглухой и полуслепой – работал в конторе секретарем. Председателя колхоза Мину он видел теперь каждый день, но боялся даже заикнуться о справке. Один раз, когда к председателю приехал некто важный из района, Семенов случайно подслушал разговор через дверь.
«У меня тут парень работает, – говорил председатель, – вроде чокнутый какой-то, но умный! Художник». – «Из тех?» – спросил человек. «Да, из немцев московских… но вроде русский. С высшим образованием! Весь колхоз мне обрисовал: плакаты на стенах, лозунги… Показать его?» – «Давай!» – «Петька!» – позвал председатель. Когда Семенов вошел в кабинет, председатель стал для вида расспрашивать Семенова о каких-то делах, а тот человек с любопытством рассмотрел Семенова с головы до ног… вот и все! Но Семенов понял важное: что председатель к нему неравнодушен. И решил попробовать со справкой. Он достал большую простыню и нарисовал на ней ковер анилиновыми красками: российский пейзаж с розовым закатом, с белыми лебедями в пруду, а на берегу под плакучей ивой – целующуюся парочку. Однажды вечером Семенов отнес ковер жене председателя, а на другое утро, заготовив справку, молча положил ее председателю в кабинете на стол… и тот – не глядя в глаза Семенову – подписал! Путь в Караганду был свободен!
В Караганде, когда надо было двигаться дальше – по плану Семенова сначала в Самарканд, – ему опять нужна была справка, и тогда он пошел к одному очень важному человеку – назовем его X, ибо фамилии Семенов, к сожалению, не запомнил, – и все рассказал о себе без утайки. «Зайдите через месяц», – сказал человек. Через месяц он сказал Семенову: «Мы навели о вас справки: никаких преступлений за вами не числится… но, с другой стороны, вас все-таки из Москвы вытурили! Так что положение мое трудное. Отпустить не могу, потому что не знаю, за что вас вытурили. Но и держать не могу, ибо не знаю, за что держать. Вы меня понимаете? Не пускаю, но и не задерживаю! – он встал из-за стола, протянул Семенову руку: – Так что действуйте, товарищ!»
Особенно поразило тогда Семенова слово «товарищ» – так к нему уже давно никто из официальных лиц не обращался, все говорили ему «гражданин»… Ну, и Семенов, конечно, уехал, достав какую-то липовую справку, что он «потомственный шахтер», – тоже добрые люди помогли…
«Удивительно! – думал Семенов. – Почему они мне помогают? Чем я понравился? Ведь с их стороны это риск!» – и не находил ответа.
86
– Буду писать и размышлять, – сказал Семенов, устанавливая в траве перед палаткой раскрытый этюдник на алюминиевых выдвижных ножках.
Он отобрал кисти, зачерпнул из котелка воды в две широкие стеклянные банки, поставил их в этюдник, положил рядом с банками фанерку, а на нее несколько листиков белой бумаги – для палитры, – придавил бумагу от ветерка двумя камешками – отошел – взглянул, вздохнув, на горы и – с наслаждением и с трепетом – на девственный белый лист волнистого торшона… О! Эта бумага обещала многое: мягкую и глубокую фактуру мазка, волшебные переливы и подтеки красок, умопомрачительные разводы, которые никогда предугадать нельзя, которыми надо руководить по мере их возникновения – так их организовывать, чтобы они помогали тебе наиболее точно и красиво передать то, что пишешь… Чтобы они тебе помогали – и ты им: рождаться и течь, как надо и как это возможно в наилучшем смысле, – совершенство случайности.
Прищурившись на горы, впивая их в себя, уже думая о том, какие краски возьмет, Семенов смочил флейцем[2]2
Флейц – широкая кисть.
[Закрыть] бумагу. Дав ей немного впитать влагу – бумага сразу поволгла и чуть приподнялась над другими скрытыми под ней листами – это был склеенный по краям блок в двадцать листов, – он взял тончайшую кисточку – первый номер, – смочил ее в банке с водой и, размешав погуще оранжевый кадмий в чашечке, стал легко – едва касаясь поверхности – набрасывать на влажной бумаге прерывистый контур… Работать надо было быстро, почти не думая – или, вернее, думая совсем о другом, – все надо кончить, пока бумага еще не высохла, – потом уточнить кое-где детали.
87
– О, черт подери! – громко сказал Семенов. – Черт возьми, совсем не туда поехали!
Легко набросав на бумаге синевато-зеленое небо и серые клочья туч, и размешав на палитре зелень и умбру, и мазнув ими массу горы, он вдруг понял, что ошибся: гора была светлее и теплее… переделывать – грязь получится…
Он отложил кисти, взял альбом и срезал кинжалом первый испорченный лист. Разорвав его, Семенов опять установил блок на этюднике и стал смачивать второй лист…
88
– Ну, ладно, хватит! Иди ко мне! – услышал он голос Монны-Лиды.
Она лежит на кровати – в позе спящей Венеры. Это Гольдрей придумал – так ее писать. Семенов сидит за мольбертом, картина уже почти готова, он весь во власти тонов и полутонов прекрасного тела – изгибов линий – весь во власти форм: склоненная голова в венце пышных волос – холмы грудей – линия бедер певуче переходит в линию ног… Вместе с тем ее тело – как тело – совершенно его сейчас не трогает…
– Подожди еще, – говорит он прищурившись, сжимая в зубах одну кисточку, взмахивая другой над холстом, – надо же закончить… получается здорово… – душа у Семенова поет.
– А я хочу, чтоб у тебя получалось со мной!
– Ну как тебе не стыдно, – автоматически бормочет сквозь зубы Семенов. – Мне по живописи пятерку получить надо… Закончу эту вещь – и пятерка в кармане! Гольдрей уже говорил…
– Если б ты рассказал Гольдрею, как со мной спишь, – то получил бы пять с плюсом!
– Не говори глупостей!
– Надоело мне тут часами без толку лежать, – мрачнеет она.
– А мне надо картину кончать! – зло говорит Семенов, вынув изо рта кисточку.
– Не любишь ты меня! – говорит она с упреком.
– Ну, вот! – Семенов кидает кисти в этюдник. – Опять за старое! Это ты меня не любишь.
– Я-то тебя люблю! – глухо, с тоской говорит она. – Или не видишь? А ты только свою живопись любишь! Да Гольдрея своего! Сухаря нудного!
– Ну, знаешь… – возмущенно вскидывается Семенов. – Так дальше не пойдет! Так я и знал, что ты не дашь мне кончить эту работу…
Семенов злой выбегает из гримуборной, хлопнув дверью, выходит на гулкую пустую сцену. В середине сцены лежит на полу задник, который он написал для следующего спектакля.
Семенов пробует рукой размалеванную материю – уже высохла… Жара. Солнце блестит вокруг, раздробившись о плоскости стен, сцены, земли, о пустые, отполированные зрителями ряды в амфитеатре… самый яркий нераздробленный кусок солнца висит в пылающем небе.
Семенов спускается со сцены в безлюдный амфитеатр под открытым небом, проходит ряды кресел и направляется в парк. В парке полно гуляющих, и Семенов уходит с толпой в глубину аллеи.
В душе он весь кипит… «Вот еще театр! – думает Семенов. – Завтра снова декорации писать… А живопись когда? Прав Гольдрей: засосут тут меня эта любовь да халтура… бежать надо… пока окончательно не омещанился… Тогда все пропало!»
Перед его глазами возникает Москва, его квартира на Каляевской, мама, изокружок в Доме пионеров… «Почему мне тогда ничего не мешало?» – думает Семенов. И сам себе отвечает:
– Потому что деньги были… мама была… О, эти деньги проклятые! И любовь эта тоже проклятая! Ведь я художник! Надо рвать, пока не поздно… Говорил же Грюн, что Самарканд для меня трамплин на Москву… а я уж забыл. Трамплин это, а не дом! На трамплине не задерживаются…
Семенов воодушевленно-злой направляется к ларьку, в котором знакомый толстый узбек продает водку рюмками, пиво и шашлыки…
89
Да, он всегда любил вспоминать – с восемнадцати лет, как остался один. «Что такое – жизнь? – спрашивал он себя и сам отвечал: – Это когда настоящее уходит в воспоминания». Он и Лиде так говорил. «Но я надеюсь, ты не хочешь, чтобы я ушла в твои воспоминания?» – спрашивала она, обижаясь. «Естественно – не хочу, но так будет… ты, мой друг, слаба в философии», – и она надувала губки.
– Вот она и ушла в мои воспоминания, – пробормотал Семенов, стоя перед поднятым на ножки этюдником. Он опять набрасывал кадмием контур горы. Когда этюд будет написан, оранжевый контур кое-где останется, будет просвечивать сквозь другие цвета, будет «играть»… Иногда он набрасывал контур умброй, иногда ультрамарином – в зависимости от выбранной гаммы, – Семенов сам изобрел этот прием.
«Интересно,, как отнесся бы к этому Дюрер, – подумал Семенов. – Но можно писать и вовсе без контура…»
Да, воспоминания о прожитом с годами все больше захватывали его – как опьянение. Они все накапливались, разрастались, усложнялись – как на холсте многофигурная композиция. Говорят, что это признак старения… Но он вовсе не чувствовал себя старым. «Мне восемнадцать лет! – улыбнулся он. – Каждый человек в своей жизни останавливается на каком-то возрасте и таким уже остается всю жизнь… Некоторые живут стариками, еще не став ими. А я остановился на восемнадцати – потому что в этом возрасте душевно законсервировался… после разлуки с матерью… Значит, я мужчина более чем в расцвете лет! А болезнь, усталость – все это параллельно: существует, не затрагивая моего духа… И воспоминания вовсе не делают меня старым!»
Подсознательно ему иногда казалось, что воспоминания могут вернуть ему прошлое. А потом он вообще привык и полюбил вспоминать. Воспоминания стали играть в его жизни чуть ли не главную роль. Они даже стали постепенно заменять ему процесс чтения: читая какую-нибудь книгу, он вдруг начинал вспоминать свое, и это свое вытесняло чужое: печатные строчки. Он тогда не видел, что читает. В последнее время он уже почти ничего не читал – не мог. Все, что он впитал в себя из прочитанного, лежало за гранью тех же восемнадцати лет. А сейчас он только иногда перечитывал классику – Достоевского, например: его он читал, как свое. А другие книги брал иногда, чтобы заснуть, говорил жене: «Дай мне там что-нибудь интеллектуальное», – и она уже знала, давала ему какой-нибудь современный бестселлер, и в середине первой страницы он уже крепко спал… Книги стали для него лучшим снотворным. А его подлинной литературой стали воспоминания: в них он черпал свои мысли, как раньше – в книгах. Эта подсознательная литература сопровождала его на каждом шагу…
90
Залив берлинской лазурью и зеленью плоскость неба над горами, Семенов поджидал, пока чуть подсохнет…
– И зачем вы только пошли туда, майн либер готт! Да еще пьяный! – услышал он голос Дюрера.
«Легок на помине!» – мелькнуло в голове Семенова.
– А вы слышали? – спросил Семенов. – Я же про себя вспоминал…
– Все слышал! – загадочно улыбнулся Дюрер. – Я все ваши мысли слышу, а не только слова.
– Как это так?
– Это все потому, что я ваш двойник…
– Мои двойник – мертвец, которого я убил! – перебил Семенов.
– Знаю! Но и я ваш двойник! И я лучше! Меня вы никогда не убьете.
Семенов удивленно смотрел в пустоту – в дрожащий над горами воздух – и ничего не видел… Рука с кистью застыла над бумагой.
– Пишите, пишите, – сказал Дюрер. – С этим контуром у вас здорово получится… Но зачем вы все-таки туда ходили – на свою старую квартиру? – с упреком повторил Дюрер.
– Нужно было, – убежденно ответил Семенов. – Я хотел прийти и доказать – что жив! И утереть им нос!
– Кому – «им»?
– Им – и все тут! – зло сказал Семенов. – Кто там остался…
– Глупо, – усмехнулся Дюрер. – Вроде умный человек, художник, а поступаете – да и рассуждаете – как плебей!
– Вы не понимаете меня, – возразил Семенов. – Я должен был туда вернуться, как я недавно возвращался на свою среднеазиатскую дорогу – в командировку ездил… Я вам, кажется, рассказывал…
– Да, но то другое дело. А здесь это просто бессмысленно было. Ведь вы же и так победили! Именно тем, что вернулись и стали художником… неужели вы этого не понимаете?
– Что ж, пожалуй, вы правы, – задумчиво согласился Семенов. – Мне и жена так говорит… Но это было выше моих сил. Одно дело – философия, а другое – жизнь… да и пил я тогда сильно… Хочется свою победу всегда кому-нибудь наглядно продемонстрировать.
– Это наивно, – сказал Дюрер.
А Семенов вдруг вспомнил стихи Некрасова – короткие стихи под тремя звездочками. Стихи о любви к матери, а может, и больше, чем о любви к матери…