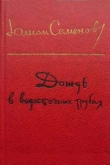Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Семенов вытаращил глаза: этого он никак не ожидал!.
И опять закипела работа: Семенов варил клейстер, намазывал им старые газеты, заклеивал призывы. Потом он разводил на клею мел, грунтовал заклеенные места и снова писал те же призывы, с небольшими вариациями. И опять пил чай от пуза. Закусывал лепешками. Жизнь ему улыбалась.
Солнце вставало поздно, мерзли над спущенным прудиком деревья, запоздало опадая сухой листвой, пела в приемнике Халима Насырова, старик в чалме раскачивался в такт ее песням и повторял свое «хоп!» – а Семенов все писал, заклеивал, снова писал…
В училище ему завидовали. У него была постоянная работа! Все приходили смотреть.
Некоторые из студентов хотели найти себе такую же работу. Двум-трем удалось написать в других чайханах несколько лозунгов, но дальше дело не пошло. Второго такого чайханщика, как Махмуд-ака, не было во всем Самарканде.
Один раз в чайхану заглянул и Айзик Аронович Гольдрей. Свою мудрость он проявил сразу же: предложил нарисовать на стенах персидские ковры. Радости чайханщика не было конца, а Семенов был таким образом обеспечен работой до бесконечности. Теперь Семенов сначала делал дома эскизы, потом утверждал их вместе с чайханщиком и старцем в чалме, говорившим «хоп!», потом резал трафареты для каждого цвета и уже по трафаретам набивал на стенах ковры. Семенов даже делал их выпуклыми, добавляя в краску опилки, – по совету того же Гольдрея. Плакатам пришлось немного потесниться. Зато ковры были как настоящие! Чайхана стала и вправду походить на картинную галерею.
Слава чайханы росла. В нее переходили пить чай из соседних чайхан. Халима Насырова пела все веселей. А древний старец в чалме благословлял всю эту жизнь коротким словом «хоп!». Это было великое слово!
Один раз Семенов спросил чайханщика: кто, собственно, этот старик, почему он все время говорит «хоп!»? И что это значит.
Чайханщик ответил:
– О, Петя-ка! Этот старик – очень, очень мудрый аксакал! Он прожил сто с лишним лет, он все знает, и ему очень нравятся твои ковры! Он считает тебя большим художником. На каждый твой ковер он говорит «хоп!». Это значит: «хорошо». Он не любит много говорить, потому что ему и так все ясно… Он очень мудрый аксакал!
С тех пор словечко «хоп» связалось у Семенова с успехом. Да и с неуспехом тоже. Когда случалась удача или он получал по морде – он говорил «хоп». Ибо зачем много говорить, когда и так все ясно.
39
Семенов стоял в брюхе облака над ручьем и ловил кумжу.
Было тихо – только слышалось легкое сипение от скользящего по земле – камням – воде – по листве деревьев – облачного тумана. Ручей растекся здесь большой водоворотистой ямой и притих, не спеша втекая в нее и вытекая. В тумане ловить было хорошо: он прятал Семенова, как прятал вокруг все на расстоянии двух-трех метров. Семенов видел только свои ноги на камне, да ветви березы, склоненные рядом, да спиннинг в руках, конец которого уже растворялся в тумане. Противоположный берег расплывшегося вширь ручья еле угадывался, и деревья на нем были как тени – в этом размытом мире солнце висело смутное, как желтая луна: где-то там – вверху над облаками – и внизу, на берегу реки, было светло и четко. А здесь Семенов не видел даже поплавка в дымящейся воде, он угадывал клев рыбы рукой, подсекая на ощупь и почти всегда вовремя. Пойманные рыбы трепыхались на поясе Семенова в нитяном садке: было их там уже штук десять. Всех он поймал на один и тот же глаз, вырванный у первой кумжи, пойманной на червя. Клевало весело. Подсекая, вываживая и опуская рыбу в садок – сам спрятанный туманом, затерянный в нем, – Семенов продолжал вспоминать о среднеазиатских днях своих. И о Лиде он думал в этом тумане – как в тумане времени, – ему приятно было о ней думать, потому что она была его молодость: бестолковая, трудная и прекрасная молодость!
40
Ее опять нашел Семенову Кошечкин – случайно встретил посреди зимы где-то на улице и привел в чайхану, где Семенов рисовал очередной ковер на стене…
Семенов очень удивился, что она пришла:
– Что ж ты тогда убежала-то? А теперь пришла…
– А ты что – не рад?
– Рад, – покраснел Семенов.
– Самая красивая девушка в Советском Союзе! – воскликнул Кошечкин. – И за это я отвечаю! – это его любимые слова.
– А ты чего убежал тогда? – обратилась Лида к Семенову, не глядя на Кошечкина.
– Так я ж за фуфайкой! Тут же и вернулся, а тебя уже нет…
– Я хотела подождать, – сказала Лида. – Но тут какие-то мужики появились в кустах… я и смылась. Дурачок ты, право: разве можно было меня одну в темном парке бросать?
– С тебя, Семенов, пол-литра! – сказал Кошечкин. – Я говорил, что отвечаю за находку!
– Ладно, – сказал Семенов.
«Хоть бы ты скорей ушел!» – добавил он про себя, чувствуя, что Кошечкин ему страшно завидует.
Когда они остались одни, Лида рассказала, что Кошечкин сам к ней клинья подбивал, когда встретил ее на улице.
– Но я ему сказала: найди мне того, кудрявенького! Ну, вот… Надеюсь, не бросишь меня больше?
– Никогда! – удивляясь своему счастью, опять покраснел Семенов.
– Ларек я из-за тебя потеряла… нигде не работаю… у подруги живу…
И тогда Семенов предложил ей позировать в училище. Она сначала фыркнула, обиделась, но сто рублей сделали свое дело. Да и Семенов объяснял ей, как мог, что все это очень даже прилично – ну, и так далее: об искусстве…
Через полчаса они уже разговаривали в училище с Гольдреем. Потом Лида и Гольдрей зашли в пустой класс, и когда вышли – Гольдрей спокойный, как обычно, а Лида красная, смущенная – все было решено. Ведь Гольдрей смотрел на женщин не как на женщин, а как на натуру: материал для живописи и рисунка. И студенты тоже. Семенов объяснял это Лиде вместе с Гольдреем. Когда студенты рисовали, они думали только о цвете, форме, рефлексах – секс в их чувствах отсутствовал. Он вступал в силу потом, после занятий, да и то не у всех: много было у них других забот. И Лида постепенно привыкла, стала штатной натурщицей.
Это была его победа – Семенова – признавали все, даже Гольдрей, как Кошечкин ни приписывал лавры этой находки себе. «Такой фигуры даже у нас в Ленинграде не было, в Академии художеств», – сказал Гольдрей Семенову.
41
Когда облачный туман, в котором стоял над ручьем Семенов, окончательно сгустился, стал вдруг накрапывать дождик, и, когда он усилился, пойдя крупными тяжелыми каплями, – стало вдруг видно вокруг: сначала Семенов увидел всю – с головы до ног – мокрую березу, стоящую рядом, потом противоположный берег ручья – камни на нем, тоже мокрые, блестящие в лучах ярко проглянувшего издалека солнца, потом тайгу на склоне горы, редеющую по мере того, как она поднималась вверх все более одиноко стоящими в ярко-зеленой траве черными пихтами: далее к вершинам гор поднимался совсем чистый зеленый луг, а за ним, на подступах к вершинам, россыпи сине-серых камней… и повсюду – разрывая пейзаж влажными разводами, словно кто-то губкой мазнул, – бродили опавшие клочья туч – и в небе были тучи – солнце только изредка прорывалось сквозь них – тучи бежали с запада, натыкались на горы, толкались между склонов и кружились, все сильнее роняя капли дождя.
«Вот пейзаж! – подумал Семенов. – Нарисовать надо – хоть по памяти, если снова такого не увижу…» – он отложил спиннинг, прислонив его к сучку услужливой березы, вынул записную книжку и карандаш, стал быстро описывать пейзаж словами, тут же набросав мягким графитом контуры гор, деревьев, туч… Он в путешествиях всегда все карандашом записывал, чтобы ненароком не смыло: написанное авторучкой всегда смоет вода – дождем ли, или если книжка вдруг в воду упадет, мало ли что…
Спускаясь вдоль ручья вниз, Семенов не выпускал из рук записную книжку и карандаш, то и дело останавливался, записывал понравившиеся виды, набрасывал их контуром, потом опять шел… засыпающая кумжа трепыхалась в болтающейся возле ног сетке.
Тучи поднимались навстречу Семенову, обмахивая тайгу оторвавшимися космами, – казалось, черные и зеленые деревья стоят в безогневом сером пожаре, как обгоревшие свечи, – клочья туч были похожи на дым.
«…серая туча налезает на лес, черно-желто-зеленый, – записывал Семенов на ходу, – к югу тучи все синее и гуще, и солнце кидает оттуда янтарные лучи в просветах, и кое-где кусочки синего неба…»
«…нарисовать Урал с горы, чтобы охватить взором наибольшие пространства, как еще Леонардо говорил. И – изучать натуру научно, не лебезить перед ней, но – берегись знания костей! (Знание костей – это натурализм!) Красота разлита в мире, – записывал Семенов вспомнившиеся ему мысли великих, – ее – неисчислимая бесконечность. Но она не всем видима – ищите в мире красоту и фиксируйте ее на бумаге!..»
Так – записывая – вернулся Семенов к палатке. За рекой – над низкими еловыми холмами он увидел растекшуюся в небе темную полосу: от нее-то и оторвались спешащие к Уралу тучи. Но сейчас над рекой опять стало светло – солнце в небе висело свободно – хотя все вокруг блестело от дождя – и Семенов заспешил к реке: почистить рыбу, чтобы зажарить ее и съесть. Полоса над холмами незаметно росла: «Кто ее знает, может, опять дождь принесет», – подумал Семенов.
42
Виктор Христианович Грюн встречает Семенова перед училищем – вроде бы ненароком – подчеркнуто приветливо снимает шляпу:
– День добрый… вы далеко?
– На базар…
– Проводите меня до угла…
«Вот оно!» – обрадованно вспыхивает Семенов.
– Я слышал, вы в чайхане подрабатываете?
– Подрабатываю…
– И сколько платят?
– О, чепуха! – стесняется Семенов. – Лепешки да чай…
– Но это же постыдно!
Грюн приостанавливается, приподнимает шляпу и раскланивается с кем-то встречным в шикарном драповом пальто, – видно, с каким-то дельцом. «И всех он тут знает! – удивляется Семенов. – Вот бизнесмен!»
Они медленно идут дальше – мимо окон училища по главной улице – их обгоняют студенты с этюдниками через плечо, удивленно оборачиваются: «Грюн с Семеновым, да еще под руку!» Семенов смущен. Они с Грюном сворачивают в пустынную улочку.
– Я давно к вам приглядываюсь, – говорит Грюн, щурясь в холодный воздух над лиловыми бликами и синими тенями, куда убегают вдоль домов метелки тополей с застрявшими кое-где клочьями прошлогодней листвы. – Вы мне симпатичны…
Грюн опять кланяется какой-то женщине в темном окне. Здесь европейский город, одноэтажные каменные дома с большими окнами, за которыми видны погруженные в глубокую тень обои с картинами в золотых рамах – шелковые абажуры – признаки многолетней зажиточной жизни.
– Я испытываю к вам добрые чувства, Семенов, – продолжает Грюн. – Вы талантливы. Мне нравится, как вы работаете… вы из интеллигентной, хорошей семьи… А это, – он кивает на грязный, испачканный масляной краской костюм Семенова, – это все мне очень даже понятно…
Семенов молчит.
– Я чувствую в вас своего, понимаете? – тихо говорит Грюн. – На войне вы, по-моему, не были?
– Нет, – говорит Семенов.
«Куда это он клонит?»
– Вы не шахтер, и эта Караганда – не ваша родина…
Семенов затравленно смотрит на Грюна…
– Понимаю! – спохватывается Грюн. – Простите! Не будем об этом. Да мне и все равно – откуда вы, как куда попали… Но я знаю: наше училище для вас трамплин! И хочу вам помочь! Согласны?
Семенов молчит.
– И молчите! – говорит Грюн. – Ответьте только: согласны вы со мной работать? В театре? Дело денежное…
– Согласен, – тихо говорит Семенов.
– Вот и прекрасно! – Грюн останавливается. – Но – ваша одежда… Я не могу вас в ней никуда послать…
Семенов краснеет: «О, черт возьми!»
– Поэтому вот, – Грюн достает бумажник. – Вот сто рублей: пойдите купите себе штаны, туфли… пиджак… это аванс! – взмахивает он рукой, видя смущение Семенова. – Потом отдадите… вот так… Купите все сегодня же – тем более, что собрались на базар, – а завтра, после занятий – ко мне… посидим, поговорим о работе, выпьем немножко – не так ли? Как старые москвичи… жена будет рада!
– Хорошо, – огорошенно кланяется Семенов. – Спасибо…
Грюн артистически снимает шляпу – кланяется сначала кому-то в стороне, потом Семенову – и поворачивает назад…
Семенов еще стоит некоторое время на месте. Все прекрасно – работать с Грюном он давно мечтал – тем более в театре! – но эти вопросы… «Значит, говорят обо мне… а я-то думал, что ничем не приметен… но шила в мешке не утаишь!»
43
Один раз в воскресенье, когда Семенов вернулся домой на рассвете после ночной работы в театре, где он писал по эскизам Грюна декорации, – Гольдрей, которого он не вовремя разбудил своим приходом, прочел ему занудную лекцию о вреде халтуры и денег.
– …Халтура убивает вкус, а деньги вообще портят человека, – бубнил Гольдрей. – Надо думать не о деньгах, а о живописи – тогда деньги к вам сами прибегут…
– Когда это они ко мне прибегут? – раздраженно спросил Семенов. – Может быть, завтра?
– Конечно, не завтра! – обиделся Гольдрей. – Но они прибегут, особенно если вы не будете о них думать… и слава к вам прибежит. И женщины, между прочим, тоже…
– Может, они ко мне прибегут, когда я уже в могиле лежать буду?
– Вы циник, Семенов! – рассердился Гольдрей. – Если вы так будете думать, из вас никогда не получится художника! Это я вам точно говорю. Вы будете обжорствовать, как этот жалкий Грюн, и иметь своих женщин – но умрете как художник! И вы будете лежать в могиле, и к вам уже никто и ничего не прибежит!
«Хорошо ему рассуждать, – подумал Семенов. – Он не гонится за деньгами, но получает зарплату преподавателя. Ему не холодно и не голодно. А я нищий студент… истина в том, что и он прав, и я!»
– И эта ваша… девушка… вы радуетесь, что вы ее берете! – ехидно сказал вдруг Гольдрей, глядя на Семенова исподлобья и искажая глубокими складками чистый лиловый блик на высоком лбу, оттого что поднимал брови. – А вы думаете – она вас не берет? Она вас еще как берет, Семенов! Я вижу…
– Ну, это уж вовсе не ваше дело! – резко сказал Семенов и вышел, хлопнув дверью.
«Ему-то женщины не нужны, старому зануде, – зло думал Семенов, шагая по узенькой улице Старого города. – Он их даже боится. Как в жратве скуп, так и в любви… Пойду выпью водки! – решил он вдруг. – Сегодня опять декорации писать придется… Говорил же Беньков, что под мухой лучше цвет виден… Лежит в земле, бедняга, и не нужны ему теперь ни деньги, ни женщины, ни его ложная слава».
Семенов вспомнил пышные похороны Бенькова, слезы, речи, восторги по поводу белильной живописи… пустота все!
Он шел возбужденный, чувствуя, что надо принять какое-то решение. Жить с Гольдреем становилось тяжело. Но и в общежитие возвращаться не хотелось, из-за Лиды – ее-то куда? А снимать комнату дорого: сейчас Гольдрей половину платит, а так самому платить надо. Спасибо Грюну – появились хоть какие деньги. Но на комнату все равно не хватит. На аванс, выданный Грюном, Семенов купил себе новые брезентовые туфли, носки, трусы, рубашку и штаны с курткой. Не ахти какой шик – зато чистое… Да, еще вигоневый свитер он купил. Странное слово: вигонь. Шерсть не шерсть, хлопчатка не хлопчатка, но все же свитер – от одного этого слова теплей становилось, – вспоминал Семенов свои тогдашние мысли. «Можно жить дальше», – как говорила впоследствии та московская старушка…
А в тот день, идя по улице по направлению к закрытому зимой Комсомольскому парку, он возбужденно думал. И хотя не спал уже третью ночь, но бодрость – подогретая спором с Айзиком Ароновичем – была необычайной. Неделю назад он купил в аптеке удивительные таблетки, обеспечивавшие сорок восемь часов бодрствования и повышенной умственной активности. Какой-то допинг, название которого он с годами забыл, потому что таблетки потом запретили. А в те годы Семенов глотал их, не думая о будущих последствиях для своего бедного сердца, – да и другого выхода, как ему тогда казалось, не было…
В то раннее утро навстречу Семенову спешили на базар узбеки в ярких теплых халатах, в высоких узких сапогах на войлоке – ехали верхом на навьюченных тюками ослах, шли пешком, неся свой груз на головах и на коромыслах через плечо. Над глухими – без окон – глиняными стенами домов и дувалов по обе стороны улицы, скрывавшими во внутренних двориках ленивую азиатскую жизнь, торчали космы голых ветвей, царапающих небо.
«Надо в Москву», – затаенно мелькнуло в голове Семенова. «Затаенно» – потому что это была его заветная мечта, о которой он никому не говорил. Один Грюн догадался, хитрец. «В музеи сходить надо, и вообще… поразведать», – дальше об этом думать не хотелось. Он боялся, что мысли тоже могли быть услышаны. Москва – его родина, колыбель, там его незабываемое прошлое, а также – как он в глубине души надеялся – также и будущее…
Он вошел в маленькую забегаловку на углу улицы. Вечерами здесь даже бывала музыка – пели под маленький оркестр «Аникушу», «Сашу», – полно набивалось народу, но сейчас было пусто. Сонный толстый узбек дремал сидя за буфетной стойкой. В ноздри Семенову ударил острый запах узбекских блюд: печеной самсы, вареных мантов, любимого Гольдреем супа «мустафа». Во всем преобладал дух баранины. Семенов подошел к буфету. За спиной буфетчика тускло поблескивали на полках вдоль всей стены зеленоватые бутылки с водкой.
– Стакан водки и маставу! – громко сказал Семенов. – И… и две самсы, – рука Семенова приятно ощутила в кармане новенькую грюновскую двадцатипятирублевку.
– О! – удивился буфетчик. – О! Утром водка! Ты – студент?
– Студент!
– Студент, а водка пьешь, – осуждающе сказал узбек, но водку в стакан налил с удовольствием…
Семенов взял стакан и решительно сел за еще девственный в этот час пластиковый стол, продолжая думать о своих проблемах: о квартире, в которой он мог бы укрыться со своей нежданной любовью, и о новом задании, которое предстояло сейчас выполнить: Грюн велел сходить на летнюю сцену театра в парке – временно закрытую – и разыскать среди сваленных там декораций какой-то задник…
Семенов еще не знал, что именно там подстерегает его тот самый Великий Счастливый Случай, который уже не раз выручал его в запутанной жизни.
44
У входа в Комсомольский парк сторож потребовал у Семенова пропуск – сейчас, в несезон, посторонних сюда не пускали…
В безлюдных аллеях гулял только ветер – дрожали голые деревья и кусты вдоль пустых арыков, засыпанных мокрой коричневой листвой вперемешку со снегом. Снег выпал ночью, а сейчас уже таял серой жижей – узбекская промозглая зима! Вдали вставало над городом маленькое, холодное, белесое солнце, стараясь вырваться из черной сетки карагачевых ветвей на холмах за парком. Сквозь обнаженные заросли парк просматривался насквозь – синели то тут, то там бездействующие строения павильонов, шашлычных, ларьков, с грудами желтых пустых ящиков перед заколоченными крест-накрест дверьми… Справа – в глубине – белел в кустах забор Летнего театра, куда шел Семенов, а слева – вдоль всей аллеи, огибающей парк, – блестело Комсомольское озеро, вырытое посередине парка. Там – в свинцовой воде с расплывчатым пятном солнца – мельтешило какое-то оживление – слышалось кряканье, хлопанье крыльев, плеск… утки! Там полно было зимовавших российских уток.
«Наверное, из Лидиных краев какие есть, – подумал Семенов. Она говорила ему, что приехала откуда-то с Севера: – Из Мезени на Белом море, кажется… Мы ведь с ней тоже перелетные птицы. Зимуем тут, вдали от Родины… когда будет для нас весна? Для этих уток она, пожалуй, раньше настанет…»
Проходя мимо заглохшего фонтана, Семенов вспомнил, как бегал отсюда темным осенним вечером за фуфайкой, даже рассмеялся…
Войдя в Летний театр, Семенов прошел по длинному проходу мимо рядов мокрых скамеек под открытым небом, поднялся по боковой лесенке на гулкую сцену с нависающей над ней темной раковиной, прошел в глубину – там должны были лежать декорации, среди которых Грюн велел ему выбрать задник.
В углу сцены чернел проем – какая-то птица, не разглядел Семенов, с шумом вылетела ему навстречу, когда он входил туда. Остановившись, чтобы привыкнуть к полутьме, Семенов увидел за сценой длинный коридор. Одна стена, отделявшая его от сцены, была глухой, а вдоль другой тянулись – через равные промежутки – обшарпанные двери. Семенов насчитал пять дверей. Он подошел к первой, заколоченной большим согнутым гвоздем, – легко отодвинул его в сторону – дверь со скрипом сама открылась – мутно блеснуло серое окошко – и Семенов увидел перед собой малюсенькую пустую запыленную комнатку…
«Гримуборная! – понял Семенов. – Для артистов… вот тебе и квартира! Вполне романтическая и бесплатная! Все, что нужно для любви бедному студенту…»
45
Несколько дней возился Семенов один в этой маленькой гримуборной – забросив училище и ничего не говоря даже Лиде – хотел преподнести сюрприз – шпаклевал щели в полу и стенах, замазывал окна, красил, навешивал замок. Все необходимое он взял в театральной мастерской, притащив оттуда же две электроплитки и заставив их гореть сутки, чтобы все мало-мальски высушить и протопить. О плате за электричество беспокоиться не надо было: стоило присоединиться снаружи прямо к голым проводам на столбе – и жги себе энергию сколько хочешь без всякого счетчика!
Наконец Семенов меблировался: поставил возле одной стены кровать, возле другой маленький столик, возле окна мольберт – и тихо переехал сюда от Гольдрея, сказав тому, что снял себе по дешевке комнату в Старом городе…
46
Поздно вечером того же дня Семенов сказал Лиде в училище после занятий:
– Приглашаю вас в гости! На Монмартр! Поскольку вы – Фиалка!
– Чтой-то ты, – обиделась Лида. – То Джиокондой меня обзываешь, то какой-то фиалкой…
– Фиалкой Монмартра!
– Скажи лучше: где пропадаешь четвертый день? Куда мы пойдем-то?
– На Монмартр!
– Куда?!
– В общем: «Ни о чем меня не спрашивай, не выведывай, не расспрашивай!» Иди за мной! И ждут тебя любовь и счастье… с больших букв…
47
«Это было потрясающе!» – вспоминал сейчас, на Вангыре, Семенов, чистя возле воды пойманную в ручье кумжу.
Дело в том, что идти в парк через ворота нельзя было: «Кудай-то ты? С девчонкой! Ночью!» – сторож не пустил бы… Да он и не знал, что Семенов поселился в парке, как не знал этого никто – кроме Лиды и Кошечкина – в ту благословенную зиму!
Семенов ходил в свою квартиру одной ему известной тайной дорогой, по которой тогда и Лиду впервые ночью повел…
Потому что была уже ночь, когда они подошли к уснувшему парку сбоку – со стороны глухой, выщербленной временем глиняной стены. Ее едва видно было в темноте под облачным зимним небом, сверху торчали над стеной кривые сучья деревьев…
– Залезай! – шепотом приказал Семенов.
– О господи! Куда?
– На стену… давай руку…
Семенов накануне выдолбил здесь ломом в стене глубокие ступеньки.
– Ай! – взвизгнула Лида. – За сук зацепилась…
– Тише! Смелей! Становись… теперь иди по стене за мной…
– Куда это мы? Хоть сказал бы…
Ее пальчики в его руке дрожали – они медленно переступали по еле видимой под ногами узкой поверхности стены – нагибали головы под ветвями деревьев – Лида прерывисто дышала, иногда совсем тихо взвизгивала…
– Стой! – тут стена осыпалась, становилась ниже. – Прыгай наземь!
– Где мы?
Они были в парке под стволами деревьев, в голых колючих кустах, за которыми смутно белело здание Летнего театра.
– Все в порядке! – весело шепнул ей Семенов. – Осталось минуты две…
А через две минуты она уже смеялась над своими страхами в теплой и светлой гримуборной. Оранжево пылали под черным окошком две электроплитки, распространяя уютный жар, на столе, аккуратно застеленном скатертью, накрыт был шикарный ужин – помидоры, огурцы, вареное мясо, хлеб…
48
Костер разгорался медленно, огонь лениво полизывал оранжевыми язычками дрова – светился ярче, чем утром, когда Семенов чай пил, потому что темно стало – от тяжелых туч, переваливших через холмы за Вангыром и плотно улегшихся на горы, – все небо затянули.
– Еще дождь пойдет, – пробормотал Семенов, раздувая огонь.
Он взглянул на часы: одиннадцать часов, двенадцать минут…
«Пока разгорается, быстро стол накроем», – подумал Семенов.
Сначала он вынул из бокового кармана рюкзака и расстелил в траве большую белую салфетку, положил на нее соль в этиленовом мешочке, складную вилку-нож, поставил бутылку «столичной» водки – а ведь запретили врачи пить! – складную стопочку рядом… Отойдя в сторону, он склонил седую голову набок: красив был этот никому, кроме него, не видимый натюрморт! Семенов вытащил из ножен тяжелый немецкий кинжал с костяной рукоятью и двумя мальчиками на стальном лезвии, стал разворачивать завернутый в газету черный хлеб, чтобы заранее отрезать ломоть. Он любил, чтобы – когда рыба изжарится – все готово было.
Потом он разровнял палкой красные угли, положил на них параллельно два толстых дымящихся полешка и поставил на них сковородку с кумжей. Через полминуты масло на сковороде зашкворчало, упоительно запахло сладким жареным рыбьим мясом, кумжевым соком. От огня стало жарко. Семенов отодвинулся, продолжая следить за жаревом. Снова придвинувшись, он перевернул рыбу на другой бок кинжалом…
Подождав еще пять минут, Семенов ухватил тряпкой дымящуюся и шипящую сковороду и торжественно отнес ее к своему столу в траве.
Желудок его уже лихорадочно вырабатывал сок – целых два года ждал этого мгновения! Поставив сковороду в траву возле салфетки, он уселся рядом, скрестив ноги по-узбекски, не спеша откупорил бутылку, налил складную стопку и – со стопкой в руках – прищурился в потемневшее небо…
– Ну, хоп! Выпьем! За семгу!
49
– Что же ты за меня дак не выпьешь? – улыбнулась Лида.
– Ну, давай – чокнемся с твоим носиком!
Семенов протянул руку со стопкой – Лида подставила носик…
– Ура! – это Кошечкин закричал. Он пришел в гости.
Они сидят втроем в гримуборной за ужином. За окном уже темно, голые ветви деревьев стучат в окно из парка.
– Разве мы с тобой художники? – иронизирует Кошечкин с набитым ртом. – Смешно!
– Просто смех! – соглашается Семенов, тоже с набитым ртом. – Живот можно надорвать!
– Ну что вы, ребята! – смеется Лида. – Что это вы болтаете?
– Халтурщики мы!
– Зарываем свой талант в землю! – восклицает Кошечкин, опрокинув рюмку.
– Могильщики! – Семенов тоже опрокидывает рюмку.
Лида уже не пьет – она выпила вначале и сейчас, раскрасневшись, только ест.
– А все могло бы быть по-другому, – говорит Кошечкин.
– Если взяться за ум, – говорит Семенов.
– Надо жить душой, а не животом, – говорит Кошечкин, подкладывая себе на тарелку мяса. – Долой мещанские радости! – он опять опрокидывает.
– Ура! – пьет Семенов.
Лида молча ест, удивляясь на друзей и мало что понимая.
– Эх, жаль, мы не в Голландии! – вздыхает Кошечкин. – Мы могли бы там поучиться у отличного мастера… у какого-нибудь Рембрандта… Но – Родина!
– Родина превыше всего, – говорит Семенов.
– Боже мой, какие в Голландии художники!
– Были, – уточняет Семенов. – Малые голландцы.
– А почему они «малые»? – спрашивает Лида. – Маленького роста, да?
– Балда ты! – говорит Кошечкин. – Малые, потому что еще большие были.
– Не поняла…
– Не твоего ума, – важно говорит Кошечкин, хотя сам не знает, почему голландцы «малые». – Ты ешь да слушай… мы творцы, а ты натура… неодушевленная.
– А ты не ругайся, – обижается она.
Некоторое время они едят молча.
– Чайку выпьем? – спрашивает Семенов.
– Непременно! – поддерживает его Кошечкин. – Без чая нельзя.
Лида ставит на стол большой и маленький чайники, сняв их с электроплитки.
– После крепкого чая я особенно остро чувствую цвет, – говорит Кошечкин, наливая себе стаканчик. – Как и после водки… Вот: какое, ты думаешь, у тебя сейчас лицо на фоне синего окна?
– Красное?
– Оранжевое! – изрекает Кошечкин. – Дополнительный цвет! А тени – голубые! Я за это отвечаю!
– А у тебя розовое лицо, – говорит Семенов. – А тени – фиолетово-зеленые…
– Это потому, что я сижу на фоне зеленоватой стены. И за это я тоже отвечаю! Абсолютно!
– Абсолютно, – кивает Семенов; ему вдруг спать захотелось.
– Мы же талантливые люди! – восклицает Кошечкин. – Какой я вчера натюрморт отхватил, а? Гольдрею понравилось.
– Гениальный! – соглашается Семенов. – Ты – гений!
– Ты тоже гений, – великодушно говорит Кошечкин. – Мне особенно нравится, как ты Лидку написал… обнаженную…
– У нее гениальная фигура, – скромно говорит Семенов; про себя он вдруг подумал: «Скорей бы ушел, залечь бы с фигурой спать».
– А знаешь ли ты, – загадочно спрашивает Кошечкин, – знаешь ли ты, как относятся к художникам в Голландии?
– Как?
– Им запрещают заниматься бытом! – Кошечкин поднимает указательный палец. – Понимаешь? Подметать – упаси боже! Варить суп – упаси боже! Только рисовать им разрешают! Только рисовать!
– Откуда ты знаешь?
– Грюн рассказывал, на днях заходил в общежитие и рассказывал о Голландии.
– А я вот все подметаю, – говорит Семенов. – И варю… да я и люблю варить…
– Напрасно, – отрезает Кошечкин. – Пусть вон она варит…
– Ну, ладно, – зевает Лида. – Совсем уж заболтались. Ни в жисть не поверю, что в вашей Голландии художники супов не варят… Пьяные вы уже, вот что. И я спать ложусь… отвернись-ка, Кошечкин, раздеваться буду…
– Ты ложись, ложись, – отворачивается Кошечкин. – Может быть – я мешаю?
– Что ты! – вскидывается Семенов.
– Сиди уж, – откликается Лида.
– Отвечаю за то, что в Голландии из меня бы вышел Рембрандт! – громко говорит Кошечкин.
– Вне сомнения, – поддерживает его Семенов.
Он смотрит в окно: деревья в парке слились с темным небом, ничего не видно.
– Из тебя бы тоже вышел Рембрандт, – говорит Кошечкин; он чувствует, что надо идти, но ему очень не хочется. – Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, – развивает он свою мысль. – Так Гольдрей говорил…
– Он просто идиот! – говорит Семенов.
– Кто? – удивляется Кошечкин.
– Не Гольдрей, конечно… а тот человек, который не мечтает…
– Подонок он, – говорит Кошечкин.
– А время идет, – вяло говорит Семенов; он о чем-то думает.
– Просто летит! – соглашается Кошечкин. – Надо больше работать… Искусство требует жертв…
И тут Семенова осеняет. Он даже встал с места.
– Кошечкин! – восклицает он. – Я знаю, что делать! Надо работать по ночам! Чем так сидеть и болтать… и нажираться!
– Как – по ночам?
– А так! Работаю же я ночью в театре! На этой проклятой халтуре! Так почему же мы не можем организовать ночной кружок рисования?
Кошечкин тоже встает просветленный.
– П-потрясающе! – сияет он. – Я всегда говорил, что ты – самая светлая голова!
– Так решено?
– Решено! – воодушевляется Кошечкин.
– Я Гольдрею скажу, он согласится приходить к нам на часик…
– Ну, давай выпьем! – Кошечкин делит остатки водки. – За ночной кружок!
– За ночной кружок! – громко восклицает Семенов.
– Не пора ли вам, ребята, угомониться? – слышат они сонный голос. – Ночь на дворе, завтра мне с утра позировать…
– Теперь ты будешь позировать ночью… будешь? – спрашивает Кошечкин.