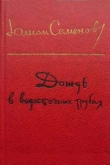Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Вся жизнь и один день
1
Сидя в летящем над Уралом вертолете, он почему-то подумал о смерти: будто лежит он мертвый в ледяной реке, а из чащи за ним медведь подглядывает… чепуха какая-то! Ведь не умирать он летел, а отдыхать – ловить рыбу, рисовать, спать в палатке… Он улыбнулся и опять – мысленно – увидел своих коней на лугу – высокая трава в цветах перекатывается волнами – жара – поют кузнечики – кони невдалеке кланяются тонкими головами – взмахивают хвостами – он – Семенов – маленький мальчик – лежит в траве на спине – раскинув руки – смотрит в белые бегущие облака… В детстве жили они под Москвой на даче, и он часто бегал в колхозный табун: носил пастухам выдаваемые матерью хлеб, колбасу и трешки на водку, а за это учился ездить верхом, купал высоких коней в реке, сидел в ночном у костра… Вот уже полвека прошло, а он все еще видит это, когда ему хорошо на душе… Семенов опять посмотрел в иллюминатор вертолета: внизу громоздились горы, лысые верхушки почти на одном с ним уровне. Когда вертолет накренялся, громады гор падали, казалось: вот-вот раздавят… Внизу – у поросших тайгой подножий – петляла зажатая подножьями гор голубая река Вангыр – цель полета. Она начиналась неподалеку отсюда, в цирках Приполярного Урала, и текла на запад, чтобы влиться на равнине в более широкую реку Печору, которая впадает в Ледовитый океан. Там – на равнине – тундра, однообразие… А здесь узкие берега горного Вангыра, то ярко-зеленые в траве, то космато-темные от подступивших елей и пихт, то ядовито-рыжие в болотах, то ярко-желтые от песка и серые от камней. Голубая полоса реки перехвачена белыми, зубчатыми бантиками порогов: пена воды. Отсюда – с высоты – пороги казались застывшими и немыми, но не было в них ничего таинственного. Ночью же – в тайге на берегу реки – рев невидимых порогов часто пугал Семенова. Да что там рев порогов! – мало ли пугали его по ночам своими криками выпь и филины. Даже камни – падая с гор. Звук был для него загадочнее света. Не потому ли, что он – художник – всегда занимался только великой троицей: свет – тень – цвет, в которой главным был свет. Ему, правда, удавалось иногда передать и движение, но никогда – звук…
Сейчас этот всепоглощающий звук – рев вертолета – был вовсе не загадочным, а ясным и надоевшим до нестерпимости – даже уши заложило – а мелькавший снаружи мир был все еще как немое кино.
2
Вертолет «МИ-8» заходил на второй круг: выбирал место, где бы сесть. Было шесть часов утра, солнце над верхушками гор только еще взошло, еще цеплялись кое-где за лохматые таежные склоны клочья ночного тумана. Река, где над ней кружил вертолет, выбегала здесь из тайги на свидание с цветущей поляной: все время убегая от поляны, река ни на миг с ней не разлучалась. С трех сторон поляну ограничивали горы, с четвертой стороны была река, а за ней низкие холмы и открытое небо, откуда прилетел вертолет. Лысые вершины гор смотрели на прилетевший вертолет презрительно, как смотрят осенью на всех мух и комаров.
Летчики нацелили машину на середину поляны, и вертолет стал снижаться на нее как-то боком, словно боялся там чего-то невидимого. Единственный пассажир в брюхе «МИ-8» – художник Семенов – прильнул коричневым носом и короткой белой бородой к стеклу иллюминатора. Он тоже заметил, как нехотя снижается ревущий вертолет. Это на мгновение удивило его. «Может, от ветра», – подумал он. За круглым желтым стеклом мелькали темные лиственницы, светлые березы, берег реки, мокрые – блестевшие на солнце – валуны в белой пене порогов. Все это быстро увеличивалось в размерах, приближалось, убегая назад. И все еще не было иных звуков, кроме рева вертолета.
Внизу, на трепетавшей в ветре поляне, было пусто.
3
Он опять услышал этот мир, когда вертолет коснулся колесами земли, и заглох двигатель, и когда Семенов спрыгнул из вертолетного брюха в траву. Он услышал голос реки, и птичий щебет, и лепет берез, стоявших неподалеку, на кромке берега, и даже звон ручья, впадавшего под ними в реку. Но главным все же был голос горной реки. Он давно знал его и любил.
Он сделал несколько шагов – от вертолета к реке – по густой траве, доходившей ему до колен, – она еще не распрямилась, придавленная вертолетным ветром. Он погладил, нагнувшись, ее спутанные склоненные стебли: руке сразу стало мокро и холодно. Он провел рукой по лицу и так стоял – коренастый, с широкими, тяжелыми плечами, в защитной рыбацкой робе, в кирзовых сапогах, утонувших в траве. Ногам в заиндевелых корнях травы было прохладно, а лицу – на солнце – уже становилось тепло. Волосы, короткая борода и усы Семенова были совсем белыми, словно и на них иней лежал или даже снег, а лицо коричневое от постоянного давнишнего загара. Бледно-голубые глаза прищурились в сети морщинок.
Он смотрел на залитые солнцем горы и редкие облака, цеплявшиеся за лысые верхушки, на пеструю от цветов поляну, на голубую воду с гребнями пены, на блестящие в осенних лучах валуны. Он радовался бесконечно! «Хоп! – сказал он сам себе. – Наконец-то я здесь».
Словечко «хоп» было одним из его любимых. Оно осталось с ним навсегда после Узбекистана. По-узбекски это значит: хорошо, ладно, так и быть, или просто вздох удовлетворения. Он любил это слово за его благожелательную многозначность…
4
И вдруг он услышал в шуме реки тот самый московский телефонный звонок! Вчера, когда он укладывал рюкзаки, раздался вдруг этот неожиданный звонок, всколыхнувший далекое прошлое.
– Петя, узнаешь меня? – услышал он в трубке женский голос.
Этот голос сразу показался ему странно знакомым, хотя он не слышал его уже лет тридцать, – да, ровно тридцать лет!
– Кто говорит? – спросил он неуверенно.
Он еще не решил – узнавать ему этот голос или нет…
– Неужели не узнаешь – это же я!
Она была уверена, что он не может не узнать, – и он узнал ее – натурщицу Монну-Лиду, как он прозвал ее в шутку, позировавшую в Самаркандском художественном училище, где он тогда учился. Героиня юношеского романа… Ему стало не по себе – он не любил теней своего прошлого, – да и это «ты» покоробило его… Этого еще не хватало! Он женат, у него дети…
– Ах, это вы, – сказал он наигранно-равнодушно. – Чем могу служить?
– Не «вы», а «ты», – сказала она с горьким упреком. – Как ты там, Петя, хотелось бы тебя повидать.
– Я ничего, вашими молитвами, – не сдавал он позиций. – Инфаркт недавно перенес… знаете такое слово?
– Почему же не знаю? – обиделась она. – Тоже грамотная…
– А вы как поживаете? – перебил он.
– Я ничего, пока держусь… Сына вот вырастила и дочку, в институт уже ходят.
«И на кой черт мне это все?» – с раздражением подумал Семенов.
– Откуда вы узнали мой телефон? – спросил он, чувствуя, что это «вы» все-таки не к месту, но не мог, вернее – не хотел иначе.
– Купила о тебе книгу, с твоими картинками, – сказала она. – Сперва сомневалась – ты ли, а потом увидела в ней твой портрет и узнала… разревелась я, Петя… читаю книгу и реву… муж спрашивает: «Чего ревешь то?» – показала твой портрет – он узнал… Помнишь его?
– Нет, – соврал Семенов.
– А он тебя помнит! – опять упрекнула она.
«Ну, это уж вовсе бестактно!» – разозлился Семенов. Он не знал, что ответить. Помолчали. Семенов услышал в трубке тихие всхлипывания.
– Мне сказали, – услышал он, – мне сказали, что ты был в Самарканде, разыскивал меня…
– Да, я был там в прошлом году, в командировке… Откуда ты узнала?
– Люди сказали… ты меня разыскивал… правда?
– Я тебя не разыскивал, – ответил он жестко, вдруг сбившись на «ты». – Просто в командировке был… в Самарканде, и в Караганде тоже… Телефон-то мой вы как узнали? – он опять перешел на «вы».
– В Союзе художников… Повидаться бы надо, Петя… Я ведь тоже в Москве живу.
– Улетаю я, – сухо сказал Семенов. – И вообще: незачем нам встречаться. У вас своя жизнь, у меня своя… Все давно в прошлом.
– Да ты не подумай чего такого, – сказала она голосом, полным слез. – Я ведь все эти годы думала о тебе… Бывает, что в молодости совершаешь ошибки, а потом всю жизнь за них расплачиваешься!
«Ах, вот оно что! – про себя обиделся Семенов. – Она считает, что это ее ошибка, а не моя! Это оттого, что я потом приходил к ней, когда она уже замужем была за этим типом… Ну и история!»
– Нет, – сказал он твердо. – Видеться нам ни к чему. Совершенно ни к чему. Зачем бередить старое? Всего вам наилучшего! – и положил трубку.
Весь день потом он думал об этом звонке. Особенно задели его ее слова об ошибках…
– Никакой тут не было ошибки! – громко сказал Семенов, обращаясь к ревущей реке. – Все произошло как должно быть! Тоже мне еще – бабская запоздалая лирика… И откуда она взяла, что я ее разыскивал?
Год назад, до инфаркта, ездил Семенов в творческую командировку по местам, где прошла его юность; колхоз в степи под горой Семиз-Бугу в Казахстане – Караганда – Самарканд… Ездил вспоминать прошлое, это верно, но вовсе не ее там разыскивать…
– Ну, ладно! Хватит! Забыть надо здесь все это! И ты мне поможешь! – сказал он реке…
Семенов оглянулся на вертолет: лопасти машины еще медленно вращались, останавливаясь. Летчики что-то застряли в кабине. Глубоко вздохнув, он направился к семье берез возле самой воды. Швейцарские кварцевые часы на его руке показывали 6 часов 15 минут…
5
Говорят часто: человек – дитя природы… «Какое там дитя, – подумал Семенов, – когда человек давно отделил себя от нее. С тех пор, как ему был дан разум. С тех пор он стал антиприродой. Сначала он сделал природу богом, потом придумал и поставил над природой другого бога, по своему образу и подобию, а потом отверг и этого бога и сделал богом самого себя. Более того: из своей среды он выделил еще больших богов. Много прекрасного создал в мире человеческий разум, – подумал Семенов, – но много и ужасного, потому что нет у него границ и не может их быть. Так же, как нет границ у природы. В конце концов природа уничтожит человеческий разум, – подумал он, – и сделает она это по каким-то своим, непонятным человеку законам, в которых, может быть, и нет никакой гармонии. Но нет и злобы… Сделает она это безразлично и бесцельно – когда-нибудь… вот это-то «когда-нибудь» и есть самое таинственное. Приход в это «наше когда-нибудь» и уход из «нашего» в другое – «когда-нибудь» и «что-нибудь»…
6
Он вспомнил одну старушку, тещу своего московского друга, тоже художника, очень древнюю и больную, которая уже почти не слышит и не видит. Просыпаясь утром, она каждый раз подходит к окну, вздыхает и говорит: «Надо жить дальше!» Она это говорит, потому что ей тяжело, она устала от жизни. Но разум в ней еще теплится, он еще привязывает ее к ее близким и говорит ей: «Надо жить…»
Вот так же и я, подумал Семенов, хоть я не старушка: у меня еще есть маленькие дети, которых надо поставить на ноги, и рабочие замыслы, и рыбу я еще ловить умею… надо жить дальше!
«Но почему я обо всем этом думаю, если я не старушка?» – он остановился на берегу, возле берез, и сам себе вслух ответил:
– Стенокардия проклятая, боль в груди, усталость. Но здесь все это пройдет.
Он опять посмотрел вокруг, и ему показалось, что солнце, горы, деревья, река и камни радуются встрече, глядя на него миллионами глаз.
«Блудный сын, – подумал он про себя, – заблудшее дитя природы».
Нет, это не он так подумал, а все, его окружавшее.
7
Вертолетчики тем временем тоже вышли из вертолета. Их было трое. Они остановились под лопастью, не видя сначала Семенова. Разглядев его на берегу, в семье берез, они весело закричали и замахали руками. Голосов их, из-за рева реки, почти не было слышно. Но Семенов – тоже увидя их – замахал в ответ и пошел к машине.
– Давайте-ка, ребята, Петровичу палатку поставим! Быстро! – сказал командир вертолета.
8
Палатку вертолетчики все-таки поставили – как Семенов ни отговаривал их – и за сухими дровами на край поляны сходили – и теперь присели возле палатки перед отлетом: рейс у них был, собственно, в геопартию неподалеку; своего друга они завезли сюда попутно, сделав небольшой крюк в небе.
– Я вот что хотел вам сказать на всякий случай, пока не забыл, – обратился командир к художнику, когда они с минуту помолчали, отдыхая, – может, не мы за вами сюда прилетим… Другой вертолет пришлем… Так вы вот что: остерегайтесь бичей! Далеко от палатки не ходите, а если они сами нагрянут, говорите: экспедиция. Сейчас, мол, с минуты на минуту, вертолет со всей группой ожидаю… Ну, да вы знаете!
– Жаль, не выпили – посошок на дорожку – под чаек! – больше для приличия сказал Семенов, зная, что летчики пить бы сейчас не стали.
9
Они уже стояли возле машины, прощаясь.
«Ишь, молодцы, – думал Семенов, глядя на вертолетчиков. – Обязательно угощу их семгой!»
Он видел свою еще не пойманную семгу, розовомясую, с оловянно поблескивавшей чешуей: драгоценный груз, который он всегда привозил с собой из этих поездок. И отец его привозил когда-то давно, в тридцатых годах, и собирались у них в доме старые большевики, объедались семужьим малосолом, спорили о мировой Революции… никого уж в живых нет. А своей теперешней семгой – которая в этот момент стоит где-нибудь в ледяной воде под камнем – накормит он жену и детей, и кое-кого из друзей-художников, и этих вот, небесных работяг. «Неплохо бы штуки две поймать, – подумал он. – Сейчас не те времена, что в моем детстве, – тогда отец привозил штук по десять, завернутых в мешковину и рядком вложенных в дощатые ящики в рост человека! Удивительно вспомнить! Старые большевики знали дело! Да и семги было завались! Ну, а мне и двух хватит… главное – это этюды», – он мельком оглянулся вокруг.
– Ну, прощайте, – протянул летчикам руки Семенов. – Спасибо вам!
– Не за что, – искренне ответил командир. – Ни пуха вам, ни пера! – добавил он, как полагается.
– К черту! – сказал Семенов.
Командир деловито кивнул и скрылся в машине, за ним взошел бортмеханик, а радист, поднявшись последним, убрал внутрь лесенку и, широко улыбнувшись, захлопнул дверцу…
Семенов отошел на несколько шагов.
Быстро затараторил, прощаясь с ним, двигатель. Выпрямляясь, стали раскручиваться лопасти винта над вертолетом. Вот они уже слились в один сплошной вихрь – невидимые в нем – от вихревого ветра поседела трава вокруг – мятущийся воздух распахнул на Семенове куртку – вертолет чуть опустил нос – приподнялся – и вот он уже висел над поляной – уносясь боком в блестящее небо… Он выходил на свою невидимую небесную тропку.
Семенов провожал его глазами, прикрыв их от слепящего солнца ладонью, – смотрел щурясь в небо, пока темная неуклюжая точка не растаяла над холмами, противоположного берега…
10
«Наконец-то я совсем один», – подумал Семенов. Его обняла долгожданная тишина, подчеркиваемая непрестанным ревом реки.
Он с наслаждением оглянулся: волшебное место! Так отрешенно было вокруг, что не верилось – были ли только что вертолетчики с их машиной?
Когда он летел сюда растянувшейся над земными меридианами заоблачной ночью – почтовый рейс Москва – Киров – Сыктывкар – Печора, № 2267, – он задремал, и ему приснился сон: он – маленький – на руках у матери – они идут под Москвой на даче сквозь сосны – и навстречу солнце… Где бы он потом ни был за свои полвека, этот, сон периодически возвращался к нему, как далекое детство – воспоминание о том, как он приходил в этот мир. А теперь пришли его дети: мальчик восьми лет и девочка двенадцати. Когда-нибудь они тоже будут видеть свои сны о детстве. Надо получше украсить им дни, чтоб было потом что вспоминать. Он с удовлетворением вспомнил, как они ходили недавно всей семьей на этюды – в Новодевичий монастырь. И сын, и дочь написали там очень смешные трогательные этюды акварелью, и он тоже написал свой. Его этюд был академическим, по-дюреровски завершенным, а в этюдах детей была наивная детская прелесть. Но техника уже в них была – водяной живописи – его заслуга. С каким наслаждением они писали! На другой день он купил им в награду велосипед «Орленок» – давно, кстати, обещанный.
Вчера жена и дети провожали его на московском аэродроме «Быково»: страдали, что остаются. Непременно надо взять их с собой на Север, пусть хариуса половят. Жаль, что маленькие еще, женился он поздно. Сейчас – жить и жить! Лет до восьмидесяти дотянуть надо.
– Спасибо тебе, судьба! – сказал он вдруг громко, вскочив на камень и театрально поклонившись воображаемой судьбе. – Благодарю тебя за все прошедшее!
Он еще раз поклонился – ему нравилось это кривлянье. Смешно было смотреть на кланяющегося в тайге одинокого человека. Но кто мог смотреть сейчас на него в этой глуши? Медведь? Сколько смешного теряем мы оттого, что не можем иногда неожиданно посмотреть на себя со стороны! Но Семенов об этом не думал, в своем счастливом забытьи. Он всегда был кривлякой. Настоящий художник и должен им быть. «Какой артист погибает во мне неоткрытым!» – говорил он часто, кривляясь, друзьям – особенно в грустные, в печальные мгновения. В такие минуты он особенно любил паясничать, и это многих коробило.
Но сейчас-то нет ничего грустного – все прекрасно!
– И за все грядущее благодарю тебя тоже! – крикнул он, в третий раз поклонившись, артистично отставив в правой руке воображаемую шляпу, расшаркиваясь на каменной груди…
Семенов вдруг почувствовал кощунство последнего поклона – скромно слез с камня и, посерьезнев, шагнул к палатке.
11
Палатка встала возле впадающего в Вангыр ручья, который в меру своих сил подпевал реке. Он тек с ледника ближней горы, был чистым и холодным, с очень вкусной водой. Возле впадения в Вангыр его журчание и клекот тонули в речном голосе, но отойдешь по нему вверх – ручей опять пел соло и хорошо слышен был в траве под деревьями. Возле палатки – куда вернулся Семенов – голос ручья опять пропадал за шумом реки…
Если стоять к палатке спиной, а лицом к реке, то справа сразу же начиналась тайга – темными елями и лиственницами, – убегая без просвета вверх по течению реки.
Слева же – за ручьем – высились пять берез. Две стояли полу-в-воде, уже немолодые, рослые, а три повыше на берегу, и были они помоложе и пониже ростом. Все вместе образовывали они одну оживленную, вечно лопотавшую листочками семью. Некоторые листики на них уже пожелтели: под порывами ветра они срывались с ветвей и падали в воду, уносимые течением. Под березами разрослись кусты краснотала и высокая сочная трава – густо-зеленая, – и в ней яркими пятнами лиловые цветы татарника, желтые клубни болотных кувшинок и розовые высокие свечи иван-чая. Еще рос тут же лиловатый львиный зев.
За семьей берез еще продолжалась поляна, а потом опять начиналась тайга, но не прямо от воды, а отступя немного за нешироким береговым обрывом, спускавшимся к реке поросшими мохом камнями. По верхнему краю обрыва опять выстроились широким полукругом березы с кудрявыми светлыми кронами, стволы их белели, как живой частокол, отгораживавший от реки темную таежную глухомань.
Далее вниз – в конце этого длинного полукруглого частокола – торчали над берегом высокие серые скалы, и река, оттолкнувшись от них, заворачивала вправо – ревела там, спотыкаясь об огромный, отколовшийся от скал камень посередине течения. Поворот этот хорошо виден был из палатки. Семенов знал, что там семужное место.
Противоположный берег начинался напротив впадения ручья круглыми разноцветными валунами, затем полого переходил галечной россыпью в кустарники, затем в лес по верблюжьим спинам холмов и кончался на переходе в небо острыми, четко вырезанными кончиками елей. Заросшие елями пологие холмы тянулись по правому берегу без видимого конца в обе стороны течения. За этими холмами и была Печора, откуда прилетел вертолетом Семенов.
Прямо напротив палатки шумел между камней широкий перекат с каменным островом посередине, делившим течение на два рукава. Здесь можно было перейти речку вброд.
С тыла на палатку смотрели горы, отроги Уральского хребта. Подножья гор тонули в тайге. Только вокруг палатки тайга расступилась, дав место широкой поляне, на которой и приземлился вертолет. Ручей пересекал поляну поперек – выбегая из тайги и впадая в речку. Поляна весело зеленела космами травы, пестрела цветами. В середине ее присели на корточки кусты багульника с отцветающими бело-желтыми цветами, еще распространявшими в осеннем воздухе свой дурманящий запах. Почва поляны была сухая и ровная. Только в устье ручья, под пятью березами, было топко и мокро.
12
«Здорово ребята палатку поставили! – подумал Семенов, залезая в нее. – Ни одной морщинки в брезенте!»
Он тщательно закрыл за собой входную полость, обшитую марлей – от комаров. Идеально натянутые потолок и стены брезентового домика светились теплой зеленью от солнечных лучей и уже заметно нагрелись от них. Маленькое марлевое окошко в противоположной от входа стене пропускало мало воздуха, и оттого было душновато. На сетке окна сидели снаружи три комара.
– Сидите, сидите! – ехидно сказал Семенов. – Сюда вам не забраться! А проникнете входом – все равно убью!
Но комаров сейчас, в начале августа, было мало: последние. «Настолько мало их, – подумал Семенов, – что с ними даже можно разговаривать… Поговори-ка с ними в июле, когда их миллионы!»
«Ночью-то здесь хорошо будет, тепло, – Семенов сидел по-узбекски, скрестив ноги, развязывал набитый барахлом рюкзак, стараясь не задевать головой за косой потолок палатки. – Высплюсь ночью от души!»
Семенов отвязал от рюкзака свернутый жгутом спальный мешок, сунул руку в рюкзак и вытащил лежавший поверх всего надувной матрац. Уложено все было с умом, не первый раз ездил в тайгу.
Развернув резиновый матрац, он стал надувать его, глубоко набирая в легкие воздух.
Вещей у него было, как всегда, много: два набитых доверху рюкзака, алюминиевый кан и брезентовый чехол со спиннингами. Возил он сюда, как правило, всегда более шестидесяти килограммов, за что приходилось, конечно, доплачивать в самолете. Но сейчас оставшиеся снаружи рюкзак и кан были уже полупустыми: в них Семенов привозил подарки летчикам – апельсины, шоколадные конфеты, колбасу салями – это женам, а мужикам – голландское пиво в банках, виски «Белая лошадь», сигареты. Все было уже роздано. В рюкзаке остался только этюдник с акварелью, три блока бумаги, кисти да кое-какие продукты, взятые Семеновым для себя. А в кане осталась только соль на дне, завернутая в мешковину. К сроку все это должно заполниться: в кан должны лечь рядками просоленные и обезглавленные тушки хариусов, а в продуктовый рюкзак – малосольная семга… Но – ни пуха ни пера! К черту! Вот именно…
Надувая матрац, Семенов вдруг почувствовал привычную боль в груди – словно кто-то сжимал ему ребра. Боль эта почему-то отдавалась в локти… Противно: несчастный матрац надуть – и то трудно!.
Семенов достал из нагрудного кармана стеклянную колбочку с нитроглицерином, выкатил на ладонь три белых зернышка, закинул их под язык – надо было переждать немного, прежде чем дальше надувать…
…И опять зазвенел звонок в тишине палатки – настойчиво, требовательно, – и он увидел ее лицо с телефонной трубкой в руке… не сегодняшнюю ее он увидел, а ту, далекую, девятнадцатилетнюю, какой она была в Самарканде его юности. «Сейчас, наверное, седая старуха, как и я – старик, – подумал он. – Ну, ладно! Какого черта!»
13
Год уже, как он выписался из больницы, а ему все казалось, что это было вчера…
Он считал, что попал туда случайно, из-за этих перестраховщиков в поликлинике. Его поликлиника была особая, ведомственная – прикреплены к ней были художники, аппаратчики Союза, да еще кое-какие товарищи из смежных организаций. Врачи, конечно, тоже особенные были. Но не в смысле медицинских знаний – как это ни странно! – а в смысле знания всех хитросплетений жизни пациентов, особенно знаменитых, ибо знаменитые всегда на виду. Об этих знаниях все вокруг знали, все об этом говорили, осуждали, конечно, но сами же во всех этих сплетнях участвовали. Миновать этой игры просто невозможно было…
Семенов стал опять надувать матрац…
Приходит он, например, к невропатологу со странной фамилией Вальдшнеп (он же и психиатр), а тот говорит:
– Добрый день, милейший Петя (все врачи там были нежнейшими друзьями больных)! Садись! Знаешь – я опять себя плохо чувствую!
– Что с вами? – участливо спрашивает Семенов.
– Голова просто разламывается! Всю ночь новую поэму Иваненки переписывал… чудо, что за вещь! Нигде не напечатана! И не будет!
– Это… (Семенов называет поэму.) Так она же выходит!
– Не выходит! – важно парирует доктор. – И никогда не выйдет, уверяю вас!
(Потом она, конечно, вышла, и ее вскоре забыли.)
– А последний рассказ Юрия Карпова читали? – продолжает доктор Вальдшнеп и переходит на шепот: – Страшно!
– Неужели?
– Уверяю вас! Мрак души человеческой! Куда там Достоевскому!
– Гений! – шепчет Вальдшнеп. – Ну, а вы, Петенька, чем обрадуете нас на следующей выставке?
– Да так… – уклончиво отвечает Семенов. – Пишу.
– Я тоже пишу, – вздыхает доктор.
В его вздохе усталость и многозначительность.
– Роман? – вежливо интересуется Семенов.
– Что вы! Картины я сейчас пишу! Живопись. Меня последнее время все тянет к холсту, и я пишу, пишу, пишу – словно кто водит моей рукой! Но вот что странно: последнюю картину вчера закончил, поставил сушить, забыл – я всегда так делаю, а вы? – поставил, забыл, сегодня смотрю: непонятно что-то! Не могу понять, что, собственно, выразил! Так смотрел – эдак: никак не уразумею… Тогда я ее случайно вверх ногами перевернул – убрать хотел, – и все ясно стало! – доктор просиял. – Вы понимаете? Все встало на место! Гениальная картина…
– И о чем же она, позвольте спросить?
– О, на это трудно ответить! Невозможно! Ведь это не литература, не какое-нибудь там «Иван Грозный убивает своего сына»! Это живопись! Вы меня, Петя, понимаете! – торжествующе заканчивает он и тут же добавляет, без всякой связи: – Вот тоска по вечерам еще мучает… У вас бывает, Петя, передвечерняя тоска?
14
«Странные все-таки у нас взаимоотношения! – подумал Семенов, кончив надувать матрац. – Я его уже пять лет Юрием Ивановичем величаю, а он меня – известного художника – Петей! И ведь младше меня на два года!»
Опустив матрац на брезентовый пол палатки, Семенов расстелил поверх него спальный мешок и стал доставать из рюкзака теплые вещи, складывая их возле изголовья.
15
– Так бывает у вас тоска, Петя? – переспрашивает доктор.
– Бывает, – успокоительно кивает Семенов. – Это бывает…
– Тоска страшная, передвечерняя… отчего бы, а?
– Раздавили бутылочку на сон грядущий? – подмигивает Семенов.
– Что вы, Петя! – важно удивляется врач. – Не пью. Уже десять лет.
– О живописи думали? – в свою очередь важно, таинственно шепчет Семенов. – О потоке сознания в цвете?
– Думал!
– Об ассоциациях, связанных с обилием информации двадцатого века? И опять же в цвете?
– Думал! – радуется врач. – Откуда вы знаете?
– Вот то-то и оно! – загадочно говорит Семенов.
– Что – оно? – пугается врач.
– А то, мой друг, что в слишком сложное время живем! Обилие информации захлестывает нас! Все эти картины, романы, поэмы! И телевизор! Отсюда и тоска…
– То есть – как?
– А так! Всякое может быть…
– Боже мой! Боже мой! – Вальдшнеп охватывает голову короткими ручками, в одной зажат медицинский молоточек. – В какие времена мы живем!
– Времена вовсе уж не такие, – успокаивает его Семенов. – Бывали посложней. Так что не волнуйтесь. И запомните: волноваться надо только до тех пор, пока в этом есть смысл!
Невропатолог-психиатр совершенно убит последним доводом Семенова.
– Волноваться только до тех пор, пока есть смысл? – медленно повторяет он слова Семенова.
– Именно.
– Но… но как узнать: когда кончается смысл?
– А когда уже все пропало! Когда конец – понимаете?
– Понимаю, – в страхе шепчет бедный доктор.
– Ну, мне пора, – встает Семенов. – Поговорим в другой раз…
– Но что же мы напишем вам в истории болезни, Петенька? – спохватывается врач.
– А все слава богу… Так и пишите: слава богу!
– Ну, спасибо вам, Петенька! – Вальдшнеп искренне трясет руку Семенова. – Спасибо за все! С вами, знаете, как-то легче… как-то ясней все… хотя эту мысль – насчет волнения – еще надо бы прояснить… так что заходите! Вскорости же, ладно? Можете даже без записи, я вас без очереди приму! Очень прошу!
– Надо чайку попить, – сказал сам себе Семенов. – Схожу-ка я по воду.
Это выражение – «по воду» – он заимствовал у хохлов, с которыми жил во время войны в казахском колхозе. «За водой пойдешь – не воротишься!» – вспомнил он украинскую поговорку. Над ним там всегда жестоко смеялись, когда он говорил «за водой».
– Схожу-ка я по воду, – с наслаждением, вслух повторил он, вылезая из палатки; и опять повторил: – Надо чайку выпить.
В этом громком говорении вслух было наслаждение долгожданным одиночеством. Наслаждение усталого от жизни и работы человека, разрешившего себе этот отдых с задумчивыми разговорами – с самим собой и вслух.
Семенов достал из-под навеса палатки закопченный в прошлых странствиях котелок и пошел не спеша к семье берез, чтобы набрать вкусной воды в ручье. В самой реке вода тоже хороша была, но в ледниковом ручье еще лучше…
– Поговорю, повспоминаю, отдохну, – сказал он, глядя навстречу реке, – она ревела все громче по мере того, как он к ней приближался. – Надо наслаждаться жизнью… Не так-то уж много осталось…
И он опять вспомнил врачей в поликлинике…
16
Все они, в сущности, одинаковые, с некоторыми вариациями конечно. Психиатр Вальдшнеп – немного чокнутый, запуганный какой-то, дохлый. Но есть и бодрые, хотя и от них толку мало – в смысле медицины. Врачи-женщины – те почти все лирики. Лечащий врач художника Семенова, полная цветущая дама с бриллиантами на жирных пальчиках, говорит ему часто:
– Не тот счастливый дом, в котором деньги, а тот, где цветы на столе! Вы со мной согласны? – и строит глазки.
И Семенов приходит к ней на прием с букетами, почти всегда.
Она любит рассказывать о своих турпоездках вокруг Европы:
– Ради этого и живу, Петр Петрович! А что еще остается? Побегаешь по какой-нибудь Италии, насмотришься, накупишь проспектов (тряпки мне не нужны!), вернешься совершенно без ног и без денег! Зато заваришь вечером кофе, сядешь с мужем (детей у нее нет), разложишь все эти брошюры, открытки, виды – и вспоминаешь! И снова мир перед глазами! Капри! Париж! И наслаждаешься жизнью! А для чего еще жить, дорогой Петр Петрович?! Вы со мной согласны? Для того и вкалываю на сверхурочных…
А еще она, например, говорит:
– Этот ваш носатый… ну, академик! Милый такой, на «М»… вы знаете, о ком я… жена у него в прошлом месяце умерла… Так теперь он жених! Вы себе представить не можете – отбою нет от невест! Приходил вчера, жаловался: «Дорогая, говорит, Роза Иосифовна! Не знаю, говорит, что делать. Одна красивее другой! Но им ведь, наверное, только квартира моя нужна… и дача! Просто ужас, говорит. Отдохнуть, говорит, не дадут. Их бы, говорит, всех ко мне, когда мне было лет двадцать, – а тогда, как назло, никого не было. Испокон веков, говорит, донжуаном не был. И сейчас вот – тихой жизни хочу, боюсь их, а они покою не дают…»