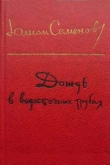Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
120
«Ты знаешь, – говорит она внизу, возле парадного, – Алик согласился меня проводить… а ты иди к маме…» – «Ничего, я сам провожу». – «Нет, лучше я провожу!» – говорит лучший друг. «Мама у тебя одна, – говорит Сима. – Нехорошо маму одну оставлять… иди, Алик проводит», – она и друг скрываются в темном проеме ворот, ведущих на улицу, а Семенов удрученно поднимается к матери…
121
…В квартире горит одна настольная лампа – окна завешены одеялами – мать переводит что-то, – она всегда много переводила на немецкий: Ленина, Крупскую, первые советские романы, – а Семенов рисует композицию «Оборона Москвы»: на ночной крыше темная фигура – подразумевается он сам! – тушит извергающую искры зажигалку – а в прошитом трассирующими очередями черном небе ярко горит падающий «юнкерс» со свастиками на ломающихся крыльях…
122
Что такое? – Семенов с матерью кидаются к завешенному окну: кто-то барабанит по стеклу снаружи – орет что-то – они в страхе открывают окно… на карнизе человек.
123
«Здесь? – кричит он на улицу. – Ясно! – он впрыгивает в комнату – маленький, хмурый, тот самый, что у Семенова документы на улице проверял, но теперь с горящими глазами совершающего подвиг: – Из вашего окна виден свет, – говорит он убийственно-холодно. – Пройдемте в домоуправление…» – Мать бледная как полотно: «Товарищ…» – «Пошли!» – они идут втроем через темный пустой двор – домоуправ еще не спит после тревоги – рядом дружинники. «Товарищи, – говорит мать. – Щели в занавеске, недосмотрела…» – все молчат – домоуправ что-то пишет – мать ломает руки: «Для меня, товарищи, это тем более ужасно, что я немка… я подала заявление на фронт, добровольно… и сын мой на фронт уходит… простите, товарищи, щели-то маленькие, малюсенькие…» – «Подпишите акт», – говорит домоуправ…
124
«Видишь ли, – говорит ему друг на следующий день – он специально приехал к Семенову днем: – я должен тебе это сказать… я всю жизнь думал, что меня никогда никто не полюбит, понимаешь?» – «Понимаю», – еще ничего не понимая, говорит Семенов. «Это было мучительно, потому я и общество «ОЖ» организовал… но вот самое главное: она просила тебе передать, что больше не придет сегодня дежурить… и завтра не придет… она, оказывается, любит меня…» Семенов молчит. «Ты должен понять, как мужчина, – говорит друг. – И как друг… она ведь плакала, говоря о тебе… это… это такое счастье – пойми нас – ты должен понять…»
125
«А если случится, что друг влюблен! – запел Семенов, стоя на высоком плоском камне и следя за поплавком в волнах. – А если случится, что друг влюблен, и ты на его пути! Уйди с дороги, таков закон! Третий должен уйти!»
«В данном случае уйти должен был не я, а он, – подумал Семенов. – А ушел я… ну и что ж: все равно меня тут же вообще ушли – из Москвы даже…»
– А песня глупая! – сказал он громко. – Глупейшая песня! Наиархиглупейшая! – крикнул он, почувствовав поклевку. – И почему я люблю петь такие песни?
Семенов осторожно выволок хариуса на берег, спрыгнул с камня, ухватил под жабры. Тот в ужасе смотрел на Семенова круглыми остановившимися глазами, судорожно разевал рот. «Этого я убью, – решил Семенов. – Слишком уж большой – если ударит хвостом – сетку порвет!»
Не вынимая крючка из пасти, Семенов ударил рыбу головой об острый камень, хариус предсмертно затрепетал плавниками…
– Вот так всегда! – грустно сказал Семенов. – Кому-нибудь всегда по башке… – он вытер кровавую руку о траву…
126
…через несколько дней после того случая с недозавешенным окном Семенов возвращался вечером из изостудии ВЦСПС – сдал композицию «Оборона Москвы» и был принят в студию, – странно сейчас об этом вспоминать и понять это странно: ведь война наваливалась – ломала всю жизнь, – но где-то что-то еще по инерции шло своим чередом…
127
– Все шло своим чередом! – прервал сам себя Семенов. – Война шла своим чередом, жизнь – своим чередом, смерть – своим чередом.
128
…он возвращался из изостудии и вошел во двор дома – на душе – как ни странно – было весело: оттого, что приняли, хотелось мать обрадовать – а ее уже вели навстречу через двор от парадного – двое в форме – «на фронт, что ли, уходит?» – но, когда поравнялись в середине пустого вечернего двора, Семенов понял: не на фронт! – они с матерью обнялись и поцеловались, – взглянув на тех двоих, мама произнесла – и никогда он не забудет этих ее слов: «Скажите что-нибудь моему мальчику…» – «Ну что ж, – сказал один из тех двоих, – пусть будет человеком!» – мать его – понял в тот момент Семенов – уже не была для них человеком – она опять стала человеком через много лет, когда ее посмертно реабилитировали, как реабилитировали отца и самого Семенова, – но он-то жив! – а мать повернулась и покорно ушла впереди тех двоих – в провал ворот…
129
…о, как бессловесно бывает прощание! – Семенов стоит мгновение на месте – а потом идет за ними – машины у них почему-то не было – война! – идет крадучись, хоронясь по стенам затемненных домов, – он идет несколько кварталов до той самой двери, за которой исчезает его мать уже навсегда… но его хождения за матерью на этом не кончились…
130
– И какого черта я все вспоминаю сегодня! – спросил сам себя Семенов. – Вспоминаю, и вспоминаю, и вспоминаю… все одно и то же, без конца… Все звонок этот чертов накануне отъезда – всколыхнул все годы… будто ком глины швырнули в пруд…
Он уже вернулся к палатке и теперь сидел на корточках возле воды – чистил хариусов. Семенов ловко орудовал кинжалом – клал рыбу плашмя на камень – несколько взмахов кинжалом – и чешуя снята, благо она у хариуса нежная, легко сходит, – потом он отрезает мягкий край живота – от головы к хвосту, – отхватывает голову и хвост, вычищает внутренности – отбрасывает готовую тушку в сторону… следующая… Внутренности розовато-белой массой скапливаются на краю камня, постепенно сваливаются в воду, там их подхватывает и размывает играющее течение. Уже собрались на богатое пиршество мальки со всех сторон – глотают ротиками кровь, хватают желтые хариусовые икринки, танцующие в кружащем течении.
– Вода-то порядочно помутнела, – сказал Семенов, следя за снующими возле дарового угощения рыбками.
Рыбу Семенов почистил быстро, бросил ее в алюминиевый кан, отошел выше по реке, опять вывалил рыбу наземь и стал тщательно промывать отдельно каждую тушку, чтобы ни капли крови на стенках живота не оставалось, потом – войдя в воду по колено – так же старательно вымыл внутри кан, потом, выйдя на берег и усевшись на корточки, раскрыл этиленовый мешочек с солью и стал – споласкивая тушки в ледяной воде – перетирать их внутри солью и укладывать тесными рядами в кан, снова пересыпая каждый ряд солью. Соль он привез с собой не мелкую, белую, а крупную, в желтых кристаллах – потому что мелкая соль съедает вкус рыбы…
Заполнив кан примерно на одну пятую, он положил сверху чистую ольховую досочку, вырезанную эллипсом по форме кана, придавил досочку прокаленным в огне костра и тоже аккуратно вымытым плоским и толстым валуном…
Распрямляя затекшие в долгом сидении спину и ноги, Семенов встал, прихватил в обе руки свое хозяйство и стал подниматься к палатке.
– Почин сделан! – с удовлетворением сказал сам себе Семенов. – Через пару дней хариусовые тушки уже сок дадут, закусить можно будет перед обедом… и вообще… прелесть!
От этих слов во рту сбежалась слюна – Семенов ощутил на языке божественно знакомый вкус малосольного хариуса…
– Здесь прозвучит под рюмочку в высшем смысле, – сказал Семенов. – А в Москве и того лучше…
Поднявшись, он поставил потяжелевший кан в теневую сторону за палаткой, положил рядом в траву – под палаточное крыло – мешочек с солью, отошел, постоял минуту, глядя за реку, потом присел у входа в палатку на еловое полено…
– Закурить надо, – сказал он с чувством выполненного долга – и опять – доставая кисет – увидел не речку, не берег за ней, не горы – а черную кофточку с копной желтых волос – по имени Сима – и ее мужа – Фиму, – с которым познакомился впервые в Самарканде… «И надо же! Как странно в жизни все перепуталось!»
131
Вдруг его первая любовь присылает к нему в Самарканд своего мужа! Представляете? В препроводительном письме она пишет, что все еще его любит и что Фима его уже «тоже любит и готов проявить всяческую материальную и духовную поддержку…». Вот забота! Она бы каждому из своих первых любовей по мужу прислать могла – щедрая женщина… Любвеобильная! Такая же, как и ее муж Фима.
И Семенов пошел теперь на свидание с мужем. «Все-таки столичная штучка. Вертится там у кормила искусств… Может быть, откроет мне на что-нибудь глаза», – думал Семенов.
Фима оказался маленьким, толстым, уютным, необычайно живым, приятно заикающимся… Он был еще в форме – щеголял ею: фронтовик! В Самарканд он приехал, собственно, не к Семенову, а от Союза писателей – был уже членом! – переводить узбекских поэтов. По подстрочникам, конечно: никаких языков он не знал.
Встретились они в ресторане гостиницы.
– Ну, что будем з-з-заказывать? – спросил Фима.
– Что хочешь…
– Нет, ты с-ска-ажи! Я человек богатый: ешь, что хочешь! Хоть все меню!
Семенова это слегка покоробило… Впоследствии – через много лет, – когда Семенов вспомнил их первую встречу, Фима возмутился: «Я не мог так сказать! Это ты про меня гадости говоришь!»… Ну, ладно…
А тогда – в самаркандском ресторане – Семенов стеснялся своей бедности, да и есть, собственно, не очень хотел: Семенову хотелось поговорить об искусстве. «Ведь столичный товарищ, фронтовик, много видел…» Студент Семенов ждал откровений.
А Фима вдруг сорвался с места за проходившей мимо с подносом толстой официанткой, залепетал ей что-то на ушко с дешевой серьгой, красиво заикаясь, маслено обшаривал ее глазами – приглашал в номер…
Вернувшись к столу, лихо бросил:
– Ж-ж-женщины, старик! Истосковался на фронте!
– Так у тебя же давно Сима есть! – удивился Семенов.
– Пошляк! – обиделся Фима. – Это бестактно! Как ты смеешь мне так говорить!
Быстро поужинав – Фима все куда-то спешил, ртутный живчик! – они вышли и стали прогуливаться по тихому темному переулку, вдоль мудро журчавшего арыка. Тут Фима стал стихи читать – подвывая и уже почему-то не заикаясь, – Семенов почтительно слушал… Были там все те же ветер в лицо – домны – верхолазы – электросварки – гайки – Флибустьеры – паруса – поезда – бригантины – пули в росистой траве – человечество…
– Ты скажи, – с тихой надеждой на откровение спросил Семенов после стихов, – что главное в искусстве? В живописи ли, в поэзии: к чему стремиться?
– Понимаешь, – начал после важного раздумья Фима, – когда я пишу свои стихи или перевожу чужие – я всегда думаю о Будущем – с большой буквы, понимаешь? (Он то и дело повторял «понимаешь».) Не о своем будущем, понимаешь, и не о будущем своих близких – все это чепуха, мещанство! Я думаю о будущем всего человечества! Какую пользу принесут те или иные мои строчки этому великому будущему? Ты понимаешь? И принесут ли они эту пользу? Если принесут, – значит сильно, толково! Не принесут – бред, плохо! Вот тебе и весь смысл искусства! Нашего искусства, понимаешь…
– Понимаю, – вежливо отвечает Семенов.
– Смысл искусства был всегда – во все века – социально конкретен! Понимаешь?
Семенов кивнул.
– Вот и действуй!
– Ну, а как именно узнать: какие строчки будут полезны? Этому твоему будущему, как ты говоришь?
– Не «твоему», а «нашему»! – поправил его Фима. – Сердцем чувствовать надо, с-ста-арик! Если грамотно, добротно – и – главное! – если это наше – понимаешь? – Семенов кивнул. – Ну, и общественность всегда подскажет… надо слушаться общественности…
– Я вот в институт хочу после училища… в Москву мечтаю вернуться…
– Это все блажь, дор-рогой мой! – перебил его Фима. – На завод надо тебе поступать – к станку – жизнь изучать! Без жизни, брат, никуда! Изучать и отражать… но, – Фима поднял указательный палец, – отражать не такой, какая она есть, а какая она должна быть! Понимаешь? Вот что сейчас важно… а не институты…
– А ты как же? Не на заводе ведь? – опять бестактно спросил Семенов.
– Я все время на заводе! – обиделся Фима. – Прикреплен! Хожу раз в месяц, стихи читаю… проверяю их на рабочих… беседую… У меня с рабочими – знаешь какие отношения – ого-го! – и вдруг кинулся в сторону: появилась та самая толстая официантка… – Прости, с-старик! – крикнул напоследок Фима. – Заглядывай в номер! – и полетел к смутно пестреющей под деревом фигуре, улыбающейся ярко-красными губами, – мелким бесом, мелким бесом – отведя ручку и шаркая ножкой…
Семенов долго не мог опомниться от этой встречи…
132
После, когда Семенов вернулся в Москву, он отправился к Симе – но уже без любовной тоски – просто хотел забрать свои юношеские работы – «Оборона Москвы» в так далее – которые оставил у Симы на хранение, когда уезжал осенью сорок первого года…
Картины эти, очень дорогие Семенову – да и Симе тоже, как она его убеждала, – Сима и Фима долго искали по разным чемоданам, сундукам, шкафам – но так и не нашли. «Жаль, – искренно сокрушалась Сима. – Наверное, во время ремонта выбросили…»
В те первые два года после окончательного возвращения, когда он уже поступил в институт, он еще заходил к ним частенько, и они учили его «жить». Теперь этим в основном занималась Сима – Фима очень занят был переводами, о которых Сима все знала, и женщинами – о которых она вроде бы не знала ничего…
Сима как-то сказала Семенову, угощая его крепким кофе («Чашечка кофе нам никогда не повредит!»):
– Женись, Петя! Я же нашла тебе девочку! Из хорошей семьи. Все у тебя там будет – даже бабушка.
– Да не нравится она мне. И любви не чувствую…
– Дурачок ты, право! – засмеялась Сима. – Любовь! Любовь потом где-нибудь будет… может быть… Да и что это такое? Мгновение! Таинство! Понимаешь? (Это слово она переняла у Фимы.) Миг, который нас очаровывает, я бы сказала даже: огорошивает, но которого ни до, ни после мы не можем постичь до конца… «Остановить, мгновенье! Ты прекрасно!» – сказал Гёте, – но оно же не останавливается! Остановилось – и уже все! Нету…
– Ты знаешь, – ворковала она доверительно-интеллигентно, забравшись с ногами на тахту, в шелковом японском кимоно, которое привез Фима откуда-то из Германии. – Есть такая французская поговорка – уж не помню точный перевод – изящнейшая, как все у французов! – а смысл вот: «Люби любую… понимаешь? – а живи с женой!» Прелесть, не правда ли? Так только французы могут…
И еще, Петя… Фимочка тебе уже говорил… вот ты все о высоком искусстве мечтаешь! «Плох тот солдат…» – наивно это все, несерьезно! Сейчас не девятнадцатый век и тем более не эпоха Возрождения! Все ужасно усложнилось, как это? – специализация, дифференциация… понимаешь? Леонардо да Винчи уже не родится! И твой Дюрер тоже. Надо, как я и Фима: тихо заниматься своим маленьким делом. Фимочка ведь раньше тоже писал свои стихи, но вовремя одумался. Сейчас переводит – узбеков, болгар, армян, венгров, латышей… ах, всех не упомнишь! Ведь у нас столько народностей, и каждой нужен поэт! И Фимочка их делает! Он у меня настоящий культуртрегер… Сколько у него работы – ужас! – иногда даже в истерику впадает, но я говорю: надо, Фима, надо… Растет ребенок! Мне же надо что-то одевать! И он опять сидит, бедняжка! По сто строк в день делает – это его норма… Он честно делает свое маленькое дело, и его все уважают. Уже статья была о нем в «Литературке». И я тоже: ретуширую… не бог весть что, но я это делаю хорошо. Возьмись за ум, Петя, хочешь, я тебе работу дам – ретушером?..
…Один раз Семенов заглянул к ним под мухой – Фима его на порог не пустил. «Приходи трезвый, – сказал он, твердо заикаясь. – Пьяный к нам не показывайся!» – и захлопнул дверь.
С тех пор Семенов перестал к ним ходить. «Ханжа! – думал он. – Грязный пошляк, бабник, а выкамаривается, как муха на стекле! Подумаешь – пьяный пришел… я и пить не буду – не приду!»
Но когда Семенов вдруг совсем кончил пить – Сима и Фима, как ни странно, еще более взбеленились: «Как так? Был такой милый, спивающийся чудак – и вот на тебе! – доходили до Семенова слухи. – Нет, тут что-то нечисто… есть в нем, наверное, какой-нибудь страшный скрытый порок!»
Временами Семенов пил много: особенно в то время, когда он с Симой и Фимой окончательно порвал, – институт был позади, а в Союз художников Семенова не принимали… Он опять сделал рывок вперед – в живописи, – но это должны были понять и другие! А на это требовалось время… Вот если бы он не делал никаких рывков, тогда, может быть, и спокойнее все было, благоприличнее…
«Ничего, – думал Семенов. – Пробьюсь! Назло всем!»
133
Это чувство – «назло всем» – сильно жило в нем. Еще с тех пор, как его из Москвы выгнали, вырвали из привычного круга людей, понятий и дел. С того самого памятного осеннего дня, когда он уехал из Москвы в переполненной теплушке, жило в нем это «всем назло» и двигало его поступками: помимо любви к жизни, к искусству, помимо веры в себя. Но после приходило развращающее чувство удовлетворенности и просыпалась усталость. Он терял сосредоточенность и начинал пить. И пил так же бурно, как работал, так же через край – вдохновенно.
Одна старушка художница сказала ему как-то:
– Вы, Петя, человек неожиданный!
Он тогда еще «Петей» был: для всех.
– Это в каком смысле? – спросил он.
– А во всех смыслах! Никогда не знаешь, что от вас ждать завтра: новой интересной картины, удивительного портрета или нового запоя и глупых поступков…
В какой-то степени она угадала его суть, но только внешне – она не знала ни семеновского «назло всем», ни его периодической усталости от недоспанных ночей, ни голодных лет, ни, наконец, его всегда сверкающей впереди сверхзадачи.
Что, в сущности, люди друг о друге знают? Внешность! Внешность во всем – в лице, в поступках, в словах. Одни раскрываются больше, другие меньше – но никто до конца. Откуда Семенов знает, например, почему вот этот академик так хвалил его на собрании за последнюю картину, а за неделю до этого даже руки не подал: вызывающе отвернулся? В каком из этих случаев академик искренен был, в каком врал? Может, кто-то значительный вдруг посоветовал Семенова похвалить?
Почему одна женщина – она Семенову нравилась, и он дал ей это понять, – почему она вдруг сама пришла к нему как-то вечером, когда он одиноко тосковал в своей мастерской? Сидела у него долго, не снимая шубы – за окнами трещал мороз, – смотрела влюбленно, мило шутила, выпила вина, а потом вдруг собралась домой, так и не сняв пышной шубы? Он провожал ее до дому, счастливо молчал, договорился перед ночным парадным на завтра, но когда он на другой день позвонил ей в условный час, она вдруг ответила ему раздраженной руганью, истерическим криком в трубку, велела никогда больше не звонить? Почему?
Изо всех его окружавших Семенов был действительно самый «неожиданный».
Он никогда не знал, что завтра напишет, – знал свои планы только в общих чертах, но никогда конкретно. Все так называемые победы в живописи всегда приходили к нему неожиданно. Было это, конечно, закономерно – как результат работы, накапливания опыта, мыслей, – но совершалось, как ему всегда казалось в такой момент, внезапно. Иногда он мог по месяцам не работать, просто не брать кистей в руки – или пил, или бездельничал, как балбес, – а может, и не как балбес, может, это безделье необходимо было ему в высшем смысле? – а потом вдруг опять брался за кисть. Говорят – надо постоянно работать… Работать, конечно, надо, но постоянно ли? Кому как. Когда он бездельничал, работа, очевидно, все-таки шла в нем – внутри, подсознательно. Иногда он вдруг просыпался ночью с совершенно ясным решением какой-то картины. Многое, что ему казалось забытым, хранилось глубоко в тайниках мозга, проявляясь потом неожиданно где нужно…
А самым «открывающимся» он был, потому что более, нежели другие, не сдерживал своих чувств: в мимике, в жестах, в словах и поступках, особенно когда пьян. Тут уж действительно было ему «море по колено»! Скольких смертельных врагов он нажил себе таким образом! Хотя неизвестно, что хуже – иметь скрытых врагов или открытых? Он любил открытых. Вернее: всегда старался чем-нибудь выявить потенциальных врагов – протягивал им лакмусовые бумажки. И реакция бывала порой довольно бурной… любил дразнить их, как дразнят быков красной тряпкой…
134
…Трр! Тррр! Тррррр! – слышит Семенов настойчивый телефонный звонок и снимает трубку:
– Алло?!
– Это ты, Петя? – узнает он далекий Лидин голос. – Я тебе все звоню – где это ты запропал?
– Да я ж на Вангыре сейчас! – отвечает он весело. – Я ж тебе говорил… В данный момент спиннингую на Вангыре – приток Печоры, слыхала? Сегодня же только прилетел вертолетом.
– А я думала, ты нарочно сказал, что уезжаешь… Ну, что: вспоминаешь меня там или эту свою Фиму вспоминаешь? – в ее голосе звучит застарелая обида.
– Фима – это же муж! – смеется Семенов. – Все-то ты перепутала. А ее звать Сима…
– Ну, Сима! Не все ли равно…
– Совсем не все равно, большая разница…
– Все таскаешь небось ее карточку в кармане?
– Какую карточку? – возмущается Семенов. – Что ты болтаешь?
– Какую – ту самую! В профиль… блондинка, волосы ниже плеч… красивая, конечно, дак не любит она тебя и никогда не любила!
– Ну, что это ты такое… никаких карточек я не таскаю… Я тут семгу ловлю, понимаешь?
– А в Самарканде таскал ее карточку! Я сама у тебя из пиджака вынула…
– Ну, вот! Все ревнуешь! – сердится Семенов. – Давно я ту карточку порвал да выкинул… и тогда – в Самарканде – когда ты ее у меня нашла – я уж давно про нее забыл… Пиджак-то старый был, ты его стирать собралась!
– Не ври, Петя! Ох, не ври!
– Я ж тебе еще тогда объяснял, – волнуется Семенов, – что, когда мы с тобой познакомились, я на всем том уже крест поставил… ведь муж ее в Самарканд приезжал, я ж тебя с ним знакомил – маленький такой, толстый – волосы ежиком… Фима тот самый…
– Муж мужем, Петя… а все-то ты ее любишь!
– Брось! – повышает голос Семенов. – Всегда ты была дура ревнивая и сейчас тоже… Пойми: давно у меня жена, дети… И у тебя тоже – какие тут Сима и Фима могут быть – ведь жизнь прошла!
– Ну, а сейчас, жена-то у тебя какая – веселая? – спрашивает она вдруг с тою же грустью.
– Сейчас – веселая, – растерялся Семенов. – Все хорошо… семгу вот ловлю, да не берет что-то… ливень был, наверно, поэтому…
– Возможно… – отвечает она, будто понимает что-нибудь в семге. – Дак я не о том совсем, Петя! Я вот что хотела спросить: почему ты тогда – в Самарканде со мной жил, а ее любил? Что я малограмотная была, да?
– Как тебе не стыдно, Лида! Я не ее любил, а тебя!
– Что она интеллигентная и красивая – это еще ничего не значит, – не слушала его Лида. – Позолота-то сотрется – свиная кожа остается, вот что! Я бы тоже могла интеллигентной стать… сам виноват… А в Самарканд – хоть и говоришь, что командировка, – за мной ведь приезжал… не надо врать, – неожиданно закончила она, положив трубку…
135
«Так вот в чем дело! Она решила, что я приезжал в Самарканд за ней, – смешно! Муж ее бил, любовь у них, наверное, быстро кончилась, а может, и не было ее новее… и вдруг приезжает он, Семенов, старый принц из сказки, – ищет ее – а ее уже там нет! Значит, я был в ее жизни тем самым необходимым принцем, который вечно любит! И ищет! Комедия», – усмехнулся Семенов, ко смеяться не стал.
Весь этот разговор по телефону был и трогательным, и глупым…
«Просто посмотреть на тебя, – опять вспомнил он ее взволнованный, полный слез голос в трубке. – Посмотреть, какой ты стал…» – но Семенова не то что не тронули, а даже испугали эти слова. Он не любил теней прошлого.
– Поздно, – сказал Семенов, глядя на низкое солнце.
День кончался, уже начинало желтеть небо – «созревать» – как определял он его вечерний цвет.
– Слишком поздно! – повторил он, имея в виду не солнце, а Лиду. – Она хотела увидеть свое прошлое. Я бы тоже хотел увидеть свое прошлое – в его лучших мгновениях, – но прошлого не увидишь. Его давно уже нет. «Остановись, мгновенье!» – его не остановишь, прекрасное мгновенье… Представляю, как она сейчас выглядит, – подумал он о Лиде.
Он попробовал представить себе Монну-Лиду сейчас: круглое, в морщинках, лицо, очки, седые волосы из-под платка, сутулые плечи, живот… о господи!
– Где она – прекрасная форма мгновений? А человеческое – душа, так сказать? К Лиде все и в душе выветрилось – ведь столько лет не видались… Странно, что в ней еще не выветрилось… Но тут романтика виновата – Легенда о Принце… И на меня тоже нечего смотреть – и я не тот, что был… Хотя нет: я-то еще не так плох, – возразил он сам себе с наивной гордостью. – Но в том-то и мощь искусства, что только оно способно остановить мгновение – во всей его красоте!
– Это вы верно сказали! – подтвердил Дюрер веселым голосом, отчетливо прозвучавшим в шуме реки.
136
Он смотрел на семью берез в устье ручья: одинаково красивы они были в золотых лучах солнца – и старые, возле воды, и на берегу – молодые. «И каждую весну – даже на старых, – думал Семенов, – свежие листочки распускаются – обновленная форма! Что бы нам так, людям! Но наше – вечно молодое – в творчестве. Более того: произведение искусства только выигрывает от смерти художника. Живая слава содержит много случайного, ненужного… смерть все очищает».
137
Семенов сидел возле палатки, курил, когда ему вдруг почудились голоса за шумом реки. Он прислушался: вроде бы песни…
Он затаил дыхание:
Вот скоро я вернусь из дальнего похода…
Голос был слабый, ломающийся – то ли далекий, то ли близкий…
И не сады склонятся предо мною,
А я садам головушку склоню-у!..
– На том берегу поют! – определил Семенов. – Неужто бичи спускаются? А может, геологи?
Он заволновался. Говорили же ему летчики перед отлетом, что сезонная работа в геологических партиях кончается и спускаются с гор в долину сезонные рабочие-бичи – на зимовку. Самое их время – как птиц перелетных! Но эти птицы летят на зимовку не по небу, а скатываются пешком, собираясь по дороге из разных партий. «Нагрянут еще тут, нашумят, – удрученно думал Семенов. – Водки потребуют… мало ли что… Но делать нечего, надо принимать гостей. Все равно в тайге никуда не убежишь…» – невесело стало Семенову. Никакой охоты не было кого-нибудь сейчас видеть, тем более бичей.
Песни больше не слышно было – только река ревела. «Может, мимо пронесет… Дорога на том берегу проходит под холмом за густыми ивовыми зарослями, не заметят оттуда мою палатку…»
Но не тут-то было: на галечный пляж за рекой вышли из ивовых кустов – один за другим – четыре человека. Они остановились, разглядывая палатку и Семенова, разговаривали о чем-то, жестикулируя. И Семенов смотрел на них. Солнце за его спиной слепило тем четырем глаза, и они загораживались ладонями, а Семенов в тени палатки смотрел открыто.
– Эге-гей! – раздалось с того берега – приглушенно сквозь рев порогов, будто издалека.
– Эге-гей! – ответил Семенов, помахав рукой.
«Неужто вброд пойдут?» – подумал он, и еще он подумал, что неплохо было бы ему иметь нечто существенное, вместо кинжала на поясе.
А они уже входили в реку – прямо в ботинках и в одежде – у одного в руке вроде чемодан красный? – он шел крайним. Все они положили руки друг другу на плечи и двигались через речку наискосок против течения. Вода сразу забурлила вокруг них, пытаясь сбить с ног, – доходила им местами до пояса. Пена в реке здорово побурела, заметил Семенов, – будет ли семга теперь брать, в мутной воде?
Четверо медленно шли, борясь с течением, держась друг за дружку, а Семенов смотрел, как они идут.
Солнце светило уже ближе к западу, но стало еще теплее, чем днем: все вокруг высохло после ливня, нагрелось, ветер утих.
«Просто благодать! – подумал Семенов. – Тепло, тишина, комаров почти нет – и вот… на́ тебе!»
138
Четверо вышли на берег немного выше того места, где стояла палатка, и сейчас быстро приближались, прыгая с камня на камень, а потом поляной от реки.
Один был молодой – в руке он действительно держал красный чемодан, что показалось Семенову весьма странным, – «может, хозяйственник какой-нибудь из партии?». Другой был седой, средних лет, третий совсем старый, как трухлявый корень, а четвертый великан, с руками точно грабли…
Подойдя, они сдержанно поздоровались, протягивая руки, – назвали себя по именам, которые Семенов тут же забыл. Молодой поставил наземь свой удивительный в тайге чемодан из красной кожи и стал раздеваться, а потом выжимать мокрую одежду. Другие тоже разделись и стали выжимать одежду…
– Воды-то в реке прибыло, – сказал Молодой – все зубы у него были железными, – Скоро снег должон выпасть.
– Да, – сказал Семенов. – Но для снега еще рановато…
– Не говорите, – сказал Молодой.
Он полез в чемодан, достал спички, потом не спросясь Семенова – положил на вымытую ливнем земляную лысину охапку высохшего на солнце хвороста, на него дрова потолще и стал разводить огонь. Трое других, придвинув к огню сучковатый неразрубленный ствол лиственницы, который притащили Семенову летчики, развешивали на нем для просушки одежду.
Семенов смотрел на своих гостей внимательно, ничего не говоря, изучая их. И они между делом тоже его изучали, – так сказать, приглядывались, как собаки припихиваются. «Не иначе – бичи», – подумал Семенов. Он и раньше видал их на Севере, – правда, никогда не встречался с ними вот так, один в тайге, но его всегда поражало в их лицах какое-то странное нечистое выражение… было это и в улыбках, и в блеске глаз, и во всем выражении лиц. «Нечто порочное, – думал Семенов, – а вот попробуй-ка – объясни! Только нарисовать это можно…»
Он раскурил трубку…
– Какой табак-то у вас? – повел носом Молодой. – Видать, не нашенский?
– Голландский, – сказал Семенов.
– А – извините спросить: по каким делам вы здесь пребываете? – подчеркнуто вежливо спросил Семенова Седой. – Экспедиция – или как?
– Экспедиция, – кивнул Семенов.
Он знал: сказать, что просто отдыхает, проводит здесь свой отпуск – рисует и рыбачит, прозвучало бы слишком странно: кто же приезжает в тайгу просто так – комаров кормить? Приличные люди отдыхают на юге, у Черного моря…
– Геологи? – снова спросил Седой.
– По спецзаданию, – небрежно сказал Семенов, зная по опыту, что этот загадочный его ответ сразу внесет ясность в их отношения. Так он всегда отвечал, и всегда были довольны – даже придирчивые пьяные, с особо развитым у них на Севере чувством шпиономании.
И действительно – бичи сразу посмотрели на него с каким-то спокойным удовлетворением.
– Сейчас я тут один, – добавил Семенов, чтобы сразу все объяснить. – Подготавливаю кое-чего… Вертолетом меня забросили. Завтра-послезавтра прилетят остальные.
«Ну, конечно! – подумали бичи. – Конечно, вертолетом забросили, а иначе он как бы сюда попал? Видать, шишка!» – они были окончательно растроганы такой встречей.