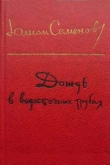Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Вот, послушайте, – сказал он.
Великое чувство! У каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далеких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем!
Так запой, о поэт, чтобы всем матерям
На Руси на святой, по глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушен, полонен,
А твой сын невредим
И победа за ним —
«Не велит унывать, посылает поклон»…
– Вот и я о том самом, – сказал Дюрер. – Прекрасные стихи.
– Когда я читаю эти стихи, – сказал Семенов, – я всегда думаю о матери: что она умерла, ничего обо мне не зная… Ей бы легче умирать было, если б она знала, что я жив… Вот чего я никогда простить не смогу!
– Кому?
– Жизни!
– А она и не нуждается в вашем прощении… Да и нечего ей прощать…
91
Семенов прищурился, задержал в легких воздух и быстро мазнул большой плоской кистью светлую вершину горы – охристое пятно легло на волглую бумагу почти точным цветом… он быстро капнул в охру мазок умбры – стало абсолютно точно! И по силе тона тоже… Но там – на фоне горы – плавала туча, и Семенов, отложив на мгновение кисть, смочил и выжал пальцами пористую губку – стер ею на горе часть краски – туча воздушно легла на плоть горы… он вздохнул и опять взялся за кисть. Он смотрел, как туча нежно расплывалась по охре, а сам писал переход вершины в густую зелень тайги по склонам горы. Теперь надо было писать еще быстрей, пока бумага окончательно не высохнет, – дул легкий ветерок – и бумага быстро теряла влагу. Кисть Семенова летала по бумаге, и все время старался он видеть весь этюд в целом – и весь пейзаж в целом – соотносить во взгляде и в мыслях взаимоотношения больших плоскостей цвета – друг к другу и к небу. В то же время разворачивались в мозгу Семенова все те же воспоминания…
92
Он вдруг вспомнил, как поступал в МИПиДИ – Московский институт прикладного и декоративного искусства, был такой когда-то. Потом его закрыли, в конце сороковых годов, а студентов рассовали по другим институтам. Ему почему-то везло поступать в учебные заведения, которые потом закрывались: словно нюх у него был – на все обреченное. Поступил в среднюю школу имени Карла Либкнехта в Москве – закрыли, поступил в Самаркандское художественное училище – закрыли, в МИПиДИ хотел поступать – закрыли… «Будто только ждали, когда я выберу себе хорошее учебное заведение и поступлю в него – и сразу закрывали, чтоб помешать мне учиться…»
93
– Простите мне эту шутку! – произнес он вслух, словно те, кто это все закрывал, могли его услышать, – Да и были ли они – которые все закрывали?
Все эти слова он сказал громко, обращаясь к горам, и вздрогнул: от прозвучавших в одиночестве слов сразу стало таинственней на пустом берегу. Казалось: сейчас из-за кустов и камней, из-за деревьев выйдут к нему все герои минувших лет… он даже оглянулся. «Все от шума реки, – подумал он. – Когда вот так постоянно шумит в ушах одно, кажется, что позади тебя происходит еще что-то, что ты не слышишь».
94
В МИПиДИ он поступал два раза – после первого курса Самаркандского училища и после второго, приезжал на свой страх и риск, один раз даже зайцем в поезде – путь-то не близкий! – и все неудачно, а на третий раз – уже развязавшись окончательно с Самаркандом – поступил в Суриковский. Хотя МИПиДИ ему нравился больше. Семенов до сих пор жалел, что туда не поступил. Помещался этот закрытый потом институт в большом здании сороковых годов на окраине Москвы – сейчас Семенов даже не помнит где – помнит только: вокруг было страшно много железнодорожных путей, институт был окружен ими, как плоской поблескивающей паутиной, уходящей вдаль в оба конца. Через эти пути Семенов пробирался утром среди железнодорожных вагонов – напрямик – с этюдником через плечо – спешил на экзамены в своем синем бумажном костюме и китайском, защитного цвета, плаще «Дружба», в брезентовых туфлях… По этой железной, поблескивающей на мазутной земле паутине он полз на экзамены, как синяя муха на сладкое. Да, сладкими были для него эти экзамены, и сладким этот институт, и сладкими эти годы, несмотря на все неудачи! Сладким было и непонятное иностранное слово «абитуриент»…
Абитуриентом ему пришлось быть довольно долго – благодаря тому, что его не принимали, – это было ему и неприятно, и приятно в одно и то же время. Неприятно – потому что не принимали, он уже стал бояться, что вообще никогда никуда не поступит, а приятно – потому что быть абитуриентом – это щемящее счастье неизвестности, полной великих обещаний! Поэтому он и страдал, и радовался, что продлевалось это сладкое состояние. Само мгновение победы он всегда ценил меньше, чем полное борьбы и ожиданий время до и полное удовлетворения время после. Вот и сейчас тоже было такое время после всех его побед…
Семенов отошел от этюда на два шага, посасывая кончик колонковой кисточки, которой он уже начал отрабатывать детали – камни на склоне горы, стволы и ветви деревьев.
– Хоп! – удовлетворенно произнес он свое любимое самаркандское слово, склонив голову набок. – Прекрасно!
Серовато-зеленая гора на этюде получилась на славу – вместе с плавающими на ее фоне серыми тучами… и контур оранжево проглядывал местами, оживлял гамму…
– Ты должна мне сказать спасибо, гора! За портрет! – улыбнулся Семенов. – Подумать только, – наклонил он голову набок, – и такого художника они не захотели принять в МИПиДИ!
95
– Что вы талантливы – спору нет! – услышал он вдруг позади себя давно позабытый, но знакомый голос – И кто же спорит?! Но вы сами должны понять, что таланта еще мало – необходимо знать общественное лицо человека!
– А, это вы! – ответил он, не оборачиваясь: боялся спугнуть эту даму из прошлого – заведующую приемной комиссией МИПиДИ. Он ее и так видел: полная дама в очках, в ореоле ярко-рыжих крашеных волос. На лице глубокое сознание собственной интеллигентности.
– Разве мало вам моего общественного лица? – обиделся он. – Скольких комиссий я член, не говоря уже…
– Да, сейчас-то это так! – заискивающе перебила рыжая дама. – Разве мы вас сейчас бы не приняли, Петр Петрович? Нашего дорогого классика?
– Так вам нравится мой этюд? – спросил он самодовольно.
– Восхитительно! – воскликнула она. – Облака дышат! И река внизу под горой – так и плещет, отражая небо… великий вы мастер, Петр Петрович!
– А ведь не приняли! – сказал он торжествующе. – Сколько горя и боли вы мне тогда принесли, не можете себе представить!
– Понимаю, Петр Петрович! – она перешла на шепот. – Но признайтесь: по композиции у вас все же тройка была… в первый раз!
– Согласен! Хотя это спорно… Но допустим: в первый раз я очков недобрал – а во второй раз? Сдал на круглые пятерки!
– Не совсем так! – возразила дама. – Сначала вам поставили все пятерки, а на другой день комиссия пересмотрела ваши работы, и за композицию вас снизили до четверки… разве не помните? И в результате вы опять недобрали очков.
– Помню, – сказал он огорченно. – Это был удар! Несправедливый, жестокий! Удар в спину!
– Но почему же так резко… – залепетала дама.
– Так! – крикнул Семенов, и его голос отскочил от гор, смешавшись с шумом реки. – Я был твердо уверен, что у меня одни пятерки! Да что там уверен – я это просто знал! И спокойно приехал через два дня за результатом. Вошел в здание института, уже чувствуя себя его хозяином, с ощущением заслуженной причастности смотрел я на картины и скульптуры в коридорах и залах, даже просто на пустые подрамники и холсты, на куски мрамора и деревянные чурбаки будущих статуй, многие из которых могли быть моими! Я подошел к доске объявлений, на которой вывешен был список принятых, и не нашел себя там! Я растерялся… Сперва я подумал, что это недоразумение, а потом вы же и объяснили, что комиссия снизила мне балл за злополучную композицию. А ведь моя композиция была отличной, согласитесь! – вызывающе закончил он эту длинную тираду.
– Согласна, Петр Петрович! – пролепетала дама. – Но я же вам тогда и все остальное объяснила, вы меня вынудили…
– Вы сказали, что я не комсомолец…
– Вы не были ни комсомольцем, ни членом партии, ни участником Отечественной войны! – вскинулась дама. – Мы совершенно не знали вашего лица! Могли ли мы знать, что вы в действительности из себя представляете? Скажите.
– Ну, не могли, – ответил он мрачно.
– А что за время было! – победоносно продолжала рыжая дама. – Вспомните, Петр Петрович! Страна залечивала послевоенные раны, ужасная война была за плечами! Много шаталось по нашей земле тайных, неразоблаченных врагов, бывших полицаев, разных подонков, сотрудничавших с фашистами… и вообще! Это надо понимать. Вы на моем месте поступили бы так же.
– Это еще как сказать!
– Не спорьте, Петр Петрович! А потом – я же не закрыла вам дорогу! Я сразу увидела, что вы талантище необычайный, что вы сильный человек, что пробьете себе дорогу! Я… я полюбила вас! Да, да! Помните, что я сказала вам напоследок?
– Вы сказали: «Риск – благородное дело… рискуйте в третий раз…» Но через год институт был закрыт…
– В том-то и дело, – примирительно сказала дама. – Так что весь этот разговор выеденного яйца не стоит…
96
Семенов оглянулся – палатка была приоткрыта, и ветер теребил входную полость. «Надо зашнуровать полость, – подумал он. – Как же это я так оставил? Ведь комары налетят…»
Зашнуровав палатку, Семенов захлопнул коробку с красками, сполоснул кисти, стряхнул их, положил в этюдник, выплеснул воду из банок – в траву, скомкал и бросил в потухший костер листки палитр. Потом он достал трубку и закурил, ожидая, пока высохнет этюд.
Когда этюд просох, Семенов закрыл этюдник, убрал ножки – сдвинул их – и полез с альбомом и этюдником в палатку. Там он положил все аккуратно в уголочке и присел на матрац, скрестив ноги, продолжая дымить…
97
…«Ведьма!» – подумал он о рыжей даме. Жаль, что он с ней только мысленно разговаривал. Что больше ее так и не встретил. Через несколько лет он поступил в Суриковский – после разных новых передряг, – рыжая дама ему больше не встречалась…
И все-таки он поговорил на эту тему! Отвел-таки душу! С другим, правда, человеком, но удивительно похожим на рыжую даму. Хотя человек этот вовсе и не рыжий и вовсе не дама – лысый старик со смешной фамилией Лев-Зайченко. С одной стороны, он был действительно Лев – гроза института, куда поступил Семенов, с другой же стороны, это был довольно жалкий человечишка, безликий, и к этой его сущности очень подходила вторая половина фамилии – Зайченко. Был этот старик – как и та дама – председателем приемной комиссии да плюс еще завкафедрой искусств.
«Все в них одинаковое, – ехидно подумал Семенов, – за исключением волос… и еще кой-чего… а так никакой разницы!» Он усмехнулся и тут же подумал мельком, что это ехидство весьма запоздалое утешение. Хотя от разговора со Львом-Зайченко он хоть как-то утешился…
Разговор состоялся совсем недавно, перед отлетом сюда, на Север. Семенов пришел в свою поликлинику на так называемую диспансеризацию, которую он в шутку называл «инвентаризацией». И тот старик тоже пришел, тоже прикреплен был. В общем, встретились они возле рентгеновского кабинета, в пустом коридоре перед закрытой дверью, на которой светилось красное табло: «Не входить! Идет сеанс!»
– Вы крайний? – спрашивает Семенов, сразу узнав старика. – За вами никого?
– Никого, – подобострастно улыбается тот, тоже узнав Семенова. – Подсаживайтесь.
Семенов отметил про себя эту легкую подобострастность. Перед его мысленным взором встали институтские годы; в те годы подобострастно улыбался не Лев-Зайченко, а наоборот: Семенов всегда подобострастно улыбался ему, этому четверть века назад кровью налитому бодряку. Особенно памятен был Семенову один случай, когда он чуть не на коленях перед этим Львом стоял.
Дело в том, что и в этот второй институт – в третий уже раз! – Семенова тоже не хотели принимать. Хотя на этот раз дела Семенова выглядели лучше, – у него уже была справка об окончании художественного училища. Семенов опять отлично сдал все экзамены, но в список принятых почему-то не попал. Это «почему-то» уже было ему ясным до боли. Семенов был одинок как перст, у него не было никаких покровителей, никакой поддержки, тетка к тому времени уже померла, да и живая она не могла бы ему помочь. Он опять был белой вороной, залетевшей сюда бог знает откуда, – весьма неясной призрачной белой вороной. К этому самому Льву-Зайченко он и ходил тогда слезно умолять принять его. И Лев-Зайченко сказал наконец: «Рисуете вы, дорогой мой, прекрасно, вполне профессионально, и учиться вам у нас нечему… Но так уж и быть! Приму я вас на заочный… возвращайтесь назад и работайте. Будете приезжать к нам два раза в год сдавать экзамены». Все это была, конечно, ложь – работы Семенова были хорошими для абитуриента, но отнюдь не профессиональными – все это была отговорка, чтобы отвязаться от нежелательной темной личности, какой был тогда Семенов для всех институтов. Может быть, эти мысли уже отдавали манией преследования? – но куда прикажете деваться! Семенов отлично понимал, что если уедет заочником назад, в свою Среднюю Азию, то никогда этот институт не закончит: приезжать два раза в год на экзамены было бы ему не под силу. Засосала бы его провинция, спился бы там, вероятно. И Семенов, поступив на заочный, оставался в Москве на птичьих правах. Как он тут жил, не имея ни прописки, ни квартиры, как питался, как одевался – вспоминать долго. Достаточно вспомнить вьюжную московскую ночь, когда он не знал, куда ехать спать, да и денег не было буквально ни копейки, и вдруг один странный милиционер, проверив у Семенова беспрописочный паспорт, дал ему рубль на дорогу, чтоб Семенов смог уехать за город к случайным знакомым, – достаточно это вспомнить, чтобы опять на мгновение остро пережить все те годы. Встретить бы сейчас того необычайного милиционера – но где ж его найдешь… вместо того милиционера – вот, видит он этого тихого, благообразного Льва-Зайченко. И Лев-Зайченко тоже смотрит на Семенова – с подобострастной любезной улыбочкой, не теряя, между прочим, добропорядочного стариковского достоинства. «А он, пожалуй, еще здоровее меня», – с неудовольствием подумал Семенов.
В общем, Семенов остался в Москве, ходил ежедневно на занятия. И это тоже был его подвиг! Он был, пожалуй, единственным вольнослушателем в столице. Он до сих пор гордился этим – и по праву. Профессора сначала удивлялись ему: «Ваша фамилия? А вы, собственно, кто?» – потом привыкли, даже внесли его в классный журнал как некую курсовую достопримечательность. Стипендии он, конечно, не получал, и голодал, и существовал бог знает как… а учился отлично! Однокурсники тоже к нему постепенно привыкли, но чем и как он жил – не интересовались, да Семенов, конечно, сам старался держаться от всех подальше, чтобы расспросов меньше было. «Это наш сын полка!» – говорили про него студенты. У него даже появились среди них кое-какие вроде бы друзья, хотя он в сущности оставался для всех чужим. Человек, жизнь для которого – игра в очко, не может иметь друзей. Да к тому же были все студенты намного моложе его, многие совсем желторотые, только что со школьной скамьи, не видавшие горя – наивные, самоуверенные и конечно же обеспеченные: у каждого были родители или родственники в Москве или в других городах. И все стипендию получали. Относились они к Семенову свысока, хотя не понимали, глупые, что самым мудрым из них всех – вместе взятых, как любят писать газеты, – был этот нищий Семенов.
Несмотря на все трудности, Семенов был бесконечно счастлив – учился все-таки! – он считал, что все складывается для него прекрасно. Хотя и была одна закавыка: в любой момент мог он не выдержать этой воробьиной зимней жизни, холода и голода, да и в любой момент могли его выкинуть, если бы кое о чем узнали… И тут он совершил ужаснейшую глупость, а если хотите – и преступление: подделал документ! Хотя была это в сущности – чепуха, наивная игра, никакой материальной корысти в этом не было – а все-таки преступление!
В студенческом билете Семенова стояло, что он «студент заочного отделения». Словечко «заочного» его страшно мучило, оскорбляло его гордость, вернее, две первые буквочки этого слова: «ЗА…» Ему страшно хотелось быть очником, ну, если не быть, то хотя бы иногда кое-кому похвалиться, что он настоящий, полноправный студент. Он чувствовал себя униженным этим «заочничеством» – да он и в действительности же очником был: ежедневно ходил на занятия, даже аккуратнее других… Все это его страшно мучило, особенно если приходилось билет кому-нибудь показывать… и тогда он стер эти две первые буквочки! Аккуратно соскоблил их острой бритвой – ведь художник все-таки! – потом чуть-чуть мягкой резиночкой подчистил, а под конец подшлифовал ногтем среднего пальца – и порядок! Теперь он был очник! Он всем показывал свой билет с гордостью – вот, мол, нате! – и когда халтуру брал – разные там плакаты по учреждениям, – и просто милиционерам на улице (к сожалению, не тому – замечательному, который дал ему рубль, – не мог его больше найти!), и разным новым знакомым… только не в институте, естественно! Глупо все это. Понятно, но глупо. Даже более чем глупо: потому что билет как-то случайно попал в руки Льва-Зайченко. Вот это было – да, скажу я вам! Лев-Зайченко даже не закричал, он просто посмотрел на Семенова. Семенов стоял уничтоженный, коленки его дрожали, как уже не раз в жизни, даже живот вдруг заболел, и что-то опустилось в нем – в животе – книзу… «Все кончено!» – пронеслось в мозгу Семенова, когда он так стоял на дрожащих ногах в кабинете Льва-Зайченко.
– Как же это вы? – спросил Лев-Зайченко. – Как это у вас укладывается в нашу мораль? Вы понимаете, что это подлог? Вы осознаете, что вам за это полагается?
– Ка… какой подлог? – заикнулся Семенов.
– Как – какой? – повысил голос Лев-Зайченко. – Вы же на заочном, а тут написано очное! Где буквы «за»? Приставка где?
– Наверное, стерлась, – тихо сказал Семенов. – Стерлась она, товарищ профессор… Билет все в кармане таскаю, вот и стерлась…
Лев-Зайченко медленно вертел в руках злополучный билет, листая и изучая его, как будто Семенов мог там еще что-нибудь стереть или добавить. Семенов понимал, что решается его судьба, – вот он, конец учебы! Глупый конец!
– Стыдно! – Лев-Зайченко избегал глядеть на Семенова. – Позор! Преступление в стенах нашего института! А я-то вас принял! Разрешил ходить на занятия… Объявляю вам строгий выговор с предупреждением! Еще один неверный шаг – и вы вылетаете! Комсомолец?
– Нет, – приглушенно буркнул Семенов.
– Оно и понятно, – резюмировал Лев-Зайченко.
Он взял ручку и жирно, почти насквозь вписал в билет две буквочки…
– Идите и помните!
И Семенов помнил. Помнил все институтские годы, когда без конца приходилось ему в классе и в коридорах униженно кланяться Льву-Зайченко, помнил на экзаменах по истории искусств, получая явно заниженные отметки. Помнил Семенов и после. Помнил и сейчас, сидя на стуле в коридоре поликлиники и глядя в приветливо улыбающиеся глаза своего бывшего профессора.
– Следим мы за вами, следим! – произносит вдруг Лев-Зайченко.
«Что – следим?» – подозрительно, даже с испугом подумал Семенов, но тут же рассмеялся, потому что Лев-Зайченко продолжал уважительно:
– И на выставках видим ваши работы, и в печати… репродукции… прекрасно! И в докладах руководящих работников почитываем лестные о вас отзывы. Работаете отменно! Так сказать, живой классик стали… Чему смеетесь? – удивился старик.
«Смеюсь тому, что подделывать больше ничего не надо», – подумал Семенов и сказал:
– Да что там! Работаю я мало… – и рукой махнул.
– Не скромничайте! – возражает Лев-Зайченко. – Мы следим…
– А вы все еще в институте? – в свою очередь спросил Семенов.
– Все еще там, – разводит руками старик. – Куда ж нам еще?
– Ну, и как? Есть талантливые ребята?
– Есть хорошие ребята, есть… но таких, как вы, пока не появлялось, – опять подобострастно улыбается профессор. – Ваша выпускная композиция до сих пор у меня в кабинете висит… помните: «Геологи на трассе»?
– Помню…
– Зашли бы как-нибудь, по старой памяти…
– А ведь вы не хотели меня принимать-то, – переменил вдруг тон Семенов. – С трудом на заочный попал! А на очный я только на третьем курсе перешел… и то не знаю как…
– Разве? – сразу сникает Лев-Зайченко. – Да, действительно… помню… Были, действительно, трудности…
– У меня эти трудности всю жизнь были, – продолжал Семенов. – С восемнадцати лет, когда мать арестовали, а я – в Казахстан, – закончил он бестактно.
– Вот как, – бормочет Лев-Зайченко. – Я и не знал…
– Вы ничего не знали! – зло отрезал Семенов. – Вся моя автобиография, с которой я к вам поступал, липой была…
Лев-Зайченко смотрит теперь на Семенова растерянно, все еще пытаясь улыбнуться, но улыбка эта получается у него теперь странной: то ли еще подобострастной, то ли уже осуждающей, то ли извиняющейся…
– Ведь я все врал в этой биографии, – радуясь тому, что говорит, продолжает Семенов. – Все! И что мобилизован был в угольную промышленность, и фамилию матери врал. И что «потомственный шахтер» – тоже врал… справку такую достал…
В этот момент из рентгеновского кабинета вышла и удалилась какая-то женщина-пациент, а из-за приоткрытой двери выглянула сестра:
– Заходите! Оба заходите!
Лев-Зайченко и Семенов встали – Семенов зло, с колотящимся сердцем, с болью в груди, а Лев-Зайченко как-то подчеркнуто вежливо пропустил Семенова вперед.
В рентгеновском кабинете, за завешенной изнутри тяжелыми портьерами дверью, было темно. Только где-то в уголочке светилась маленькая лампочка над столом врача, склонившегося над историями болезней.
– Раздевайтесь! – сказала откуда-то из преисподней сестра. – Кто первый, готов, проходите к аппарату.
«Действительно преисподняя, – подумал Семенов, оглядываясь в густой темноте, с трудом угадывая расплывчатые силуэты рентгенологических аппаратов, казавшихся ему фантастическими. – Словно мы с этим Львом-Зайченко на том свете, раздеваемся перед Богом, и вся наша земная жизнь уже позади».
– Так что вот, – раздеваясь и успокаиваясь, сказал Семенов. – А вы говорите – следим… Не уследили вы меня…
– Ну, что же, – серьезно и примирительно прозвучал из-под стаскиваемой через голову рубашки тихий голос Льва-Зайченко. – Вся эта ваша ложь была во спасение, я не осуждаю… во спасение была эта ложь…
– Да что вы там?! Не слышите, что ли? – крикнул из освещенного уголочка вселенной Господь Бог женским голосом. – Сколько вам лет, Семенов?
– Пятьдесят пять, – громко ответил Семенов.
– А вам? Львов… Львов-Зайченко, кажется?
– Да… семь… семьдесят…
Семенов злорадно отметил про себя эту цифру. В то же время ему жалко стало старика. И как хорошо он это сказал: «во спасение»…
«Не ожидал я от него», – подумал Семенов.
– Кто готов – проходите! – приказал Бог.
И Семенов первый пошел на оранжевый огонек…
98
– Вот так! – подытожил свои мысли Семенов. – А теперь пойду семгу ловить… на время картины отложим…
Ему вдруг весело стало: от живописи ли, от воспоминаний ли о Льве-Зайченко. Он еще раз взглянул на пейзаж, лежавший в углу на этюднике, – здесь он хорошо смотрелся, правда, детали таяли в зеленоватом сумраке…
И вдруг он увидел на бумаге не вангырский пейзаж, а гривастых коней детства на лугу за деревьями – и себя в траве – раскинувшего руки – глядящего в белые быстрые облака…
– Надо бы это тоже нарисовать, – улыбнулся он внутренне далекому видению. – Как это я раньше не подумал! Сделать такую композицию – светлую, радостную… но как передать это безмятежное детство, как передать все, что я чувствовал тогда и ощущаю сейчас, когда это видение возвращается ко мне, уже почти старику? Трудновато… а успех имело бы!
Говоря это, он вылез из палатки, снял сапоги и натянул на себя комбинезон, еще мокрый от дождя, но уже нагревшийся на солнце – возле палатки в траве. «Сейчас опять холодным станет в реке, – подумал он. – Ноги ломить будет… ладно, пошли…»
Взяв прислоненный к палатке спиннинг – серебряная блесна на его кончике сверкнула солнечной вспышкой, – Семенов пошел опять влево от палатки – через ручей – вниз по течению. Почему-то он любил ходить именно туда, да и глубже там река была, ямы замечательные. «Вверх таких нет… может, и есть где, да повыше – далеко идти…»
Подойдя к ручью, Семенов поразился: ручей набух, выйдя из берегов, помутнел – вода в нем стала как кофе с молоком, – он злобно тащил в рыжей пузыристой пене первые осенние листья, ветки и грязь – смытые в горах ливнем. Преобразившийся ручей достигал волнами до поваленного через него бревна – продолжение тропы, – перехлестывал через него, – Семенов осторожно балансировал на скользкой, раскисшей коре этой давно уже высохшей лиственницы. Перейдя, он еще раз оглянулся: там, где ручей вливался в реку, особенно ясно видна была разница вод реки и ручья – в реке вода была еще прозрачной, а ручей вливался в эту голубую прозрачность темной струей и шапками рыжей пены… Река, нехотя принимая грязь и пену, кружила их, стараясь вытолкнуть на берег, а потом уносила с собой… темная полоса ручьевой воды далеко прослеживалась вниз по течению…
«Придется воду для питья выше в реке брать, – подумал Семенов. – Авось дождей больше не будет… рановато еще… Жаль, ведра не взял – отстаивать воду…»
Он пошел дальше – через кустики под березами, – вышел тропой на край поляны, и перед поворотом тропы в тайгу свернул вправо к реке, и пошел кромкой берега, по мшистым камням. И вдруг он увидел радугу! Она стояла совсем рядом, над рекой, упираясь тающими концами в оба берега. Река втекала в нее, как в цветную триумфальную арку. Полукруглая вершина радуги была бледной на фоне солнечного неба, а нижние концы ее ясно выделялись на фоне берегов всеми полосками спектра. Но, несмотря на эту отчетливость, видны были сквозь радужные полосы малюсенькие – издалека – деревья на склонах гор, и камни, и трещины в скалах. Радуга была четкой и вместе с тем прозрачной.
«Нарисовать ее надо, – подумал Семенов. – Вот такой, как есть… Но неохота возвращаться. Ну, ничего: еще много будет у меня таких радуг… нарисую!»
Эта мысль, как все такие мысли, откладывающие что-либо на будущее, была кощунственной, но он, конечно, не подумал об этом – в своей устарелой наивности.
– Сейчас я войду в радугу – и поймаю семгу! – громко сказал Семенов.
Он заспешил, прыгая по камням возле воды, и радуга тоже вдруг заспешила, удаляясь. Он поднялся повыше на берег – к деревьям над обрывом – и радуга поднялась выше, тоже передвинувшись влево, к краю тайги, и все время удаляясь. Теперь она стала своей левой половиной еще ярче – на фоне темного таежного склона, – хотя детали гор сквозь нее все равно видны были. А правая половина на небе совсем побледнела… «Только бы войти в эту арку!» – подумал Семенов.
99
Перед ним вдруг встала – в сиянии радуги, как в нимбе, – его богомольная тетка, сестра отца – Фруза Гавриловна. В действительности ее звали Ефросинья, но это имя казалось ей слишком простонародным, грубым, и она окрестила сама себя поинтеллигентней: Фрузой. В этом имени было что-то персидское. Как и в самой тетке, между прочим: черные волосы, большие, тоже черные глаза и яркие губы, которых она никогда не красила. Они были покрашены от природы, так же как и щеки…
– Вот всегда ты так, Петенька, веришь в разные приметы – в эту радугу… А ведь это грех!
– Да это так просто, – отвечает он вслух. – Просто кажется: войдешь в радугу – и семгу поймаешь! Это просто от желания семгу поймать… Да и уж очень она красивая, эта радуга…
– Не говори, Петя, не говори! – звучит осуждающий голос тетки. – И в другие приметы ты веришь! Вот – во сны, например…
– Да не верю я во сны! Просто во снах мне иногда что-то открывается…
– Это бог тебе открывается! А ты в него не веришь… Веришь в бога – признайся?
– Да не верю я в бога, тетя! Ну, что вы пристали! Но так я воспитан…
– Вот, вот! – торжествующе восклицает тетя Фруза Гавриловна, грозя ему указательным пальцем. – Ни отец твой не верил, ни мать! Это они виноваты! Почему – ты думаешь – они погибли?
– Война… – нехотя отвечает Семенов. – Судьба, видно, такая…
Он лежит на полу в тетиной комнате, приготовился спать, за окном московская темная ночь. Тетя сидит за столом, настольная лампа завешена косынкой, и тетино лицо в тени. И лицо еще одного человека тоже в тени, но глаза его светятся в темноте. Это тетин друг, богомолец. Странный тип с горящими глазами на бледном лице, наголо обритой головой на тонкой шее, плохо одетый, какой-то немытый. Человек без определенных занятий. Они с тетей только что вернулись со всенощной, из маленькой церкви неподалеку, в Брюсовском переулке. Тетя часто приводит в дом таких вот людей, с которыми знакомится в церкви: разговаривает с ними о боге. Потом они у нее ночуют. Этот тип ночует чаще всех. Он всегда приходит с узелком, в котором завязаны священные книги, кусок хлеба и старинные справки о состоянии здоровья – нужные ему якобы для прописки. Но прописки у него нет.
Семенов тогда тоже временно жил у тетки – когда возвращался в первый и второй раз из Самарканда в Москву – обстоятельства заставили – больше негде было…
– Судьба – судьбой, – говорит Фруза Гавриловна. – А вот если бы твои отец и мать верили в бога, может, и живые бы остались! Как вы думаете? – обращается она к человеку с горящими глазами.
– Все в руке божьей, – отвечает тот тихо. – Не нам судить…
– Вот я и говорю! – вскидывается тетка. – А почему ты в институт не можешь поступить? Ты думаешь – недобрал каких-то очков? Это все тебе наказание за отца, бедного брата моего, что коммунистом был! Сказано: «И падет проклятье на детей его, внуков и правнуков». Да и вообще – блажь все это – твой институт! Вон – задница голая! А ведь как-никак уже двадцать шесть лет! Работать надо идти, а не чепухой заниматься! Художник! Это раньше были художники – Рафаэль, Леонардо да Винчи! Так они верили! А он, – тетка опять обращается к странному типу, – портрет мой нарисовал: смотреть не на что, ужас! Разве у меня такие маленькие глаза, ну, скажите? Разве я такая страшная? А? – она показывает портрет.
– Вы интересная женщина! – говорит странный тип.
– А он что нарисовал?.. Вот – снова уезжает назад, в свою Среднюю Азию… опять не поступил. Стыдно в его годы чепухой-то заниматься… Работать надо, жениться…
Вот так – бесконечно – пилила его тетка. И тяжело было жевать ее хлеб, когда он боролся в Москве за институт. В третий раз, когда он наконец поступил, бедная Фруза Гавриловна умерла в сумасшедшем доме – в Белых Столбах, – не выдержал ее ум общения с Богом…