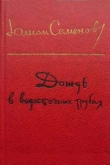Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Без любви жить можно, а без влюбленности нельзя, Петенька! – слышит он голоса Симы и Фимы – сразу обоих.
– Да бросьте вы! – отмахивается он: запоздалые комарики испуганно отлетели в сторону и закружились над ним в нагретом воздухе.
Река ревела, блестя на солнце, небо сияло широко и светло. «День будет хороший», – подумал Семенов.
– Я наоборот: без влюбленности могу жить, а без любви не могу, – ответил он своим воспоминаниям.
Сколько он в жизни искал этой любви. Взять хотя бы ту же Симу – стыдно вспомнить, как он любил ее! Давно это было, в десятом классе, в самом начале войны. Если б не война, неизвестно, чем эта любовь кончилась. Ничем хорошим, конечно. «Война все списала, и правильно сделала, – подумал Семенов. – А я ведь еще долго любил ее, там, в Средней Азии… Пока не вылечился от этого глупого заблуждения, когда опять в Москву вернулся. Поздновато вылечился…»
То, что он так долго искал, Семенов нашел совсем недавно: жену, которая сейчас в Москве его ждет. А может, это вовсе не он ее нашел, а она его? Не все ли равно! Главное – что нашли друг друга в этой жизни. И слава богу, что эта его любовь нашлась не раньше, а именно сейчас, под конец всех мытарств. Нашлась бы раньше – неизвестно, чем кончилось бы…
Да раньше он и не мог ее найти – слишком молода была… ведь девчонка совсем… Девчонка, которая росла для него. А он мужал для нее, для нее ошибался и мучился, и искал, и не находил…
28
Семенов взял в траве прислоненный кончиком к валуну спиннинг, встал и пошел влево, вниз по течению.
Он уже высох и согрелся на солнце. Оно сияло вовсю, тучи над верхушками гор совсем растаяли. Празднично ревела река, золотисто-белая в солнечных лучах; ослепительно сверкала пена порогов. Здесь, где он только что искупался в единственной глубокой яме, было тесно от порогов и мелко, да еще каменный, вытянутый вдоль течения остров посередине реки – кидать блесну было некуда. Семенов шел туда, где блестела ровная гладь: небольшой, но глубокий плес. Семенов решил там побросать. Два года назад – еще до инфаркта – он поймал здесь неплохую семгу: десять с половиной кило. Семенов помнил всех своих пойманных семг, недаром они в блокноте зарисованы.
Он не спеша перешел по высоко перекинутому через мелкий ручей бревну – оба конца плотно упирались в травянистые берега, – улыбнулся лопотавшим березам: «Вот ведь – вместе растут! Не расстанутся – семья!» – и вошел в густые высокие ивовые заросли с торчавшим в них иван-чаем. Тропинка совсем не видна была под ногами – так тесны были заросли, – и Семенов осторожно нес спиннинг, стараясь не задеть за спутанные ветви. Миновав это место, он ушел с тропы вправо – она поворачивала здесь налево в тайгу, – спустился через поляну к реке и пошел дальше по воде и камням. Ему не хотелось уходить от света, да и ближе здесь было: по тропинке надо было большой крюк давать – в гору и через чащу.
Берег, вдоль которого он шел, спускался к воде зеленовато-рыжими волосами мха по головам камней – вдоль верхнего края тянулся белый березовый частокол, – а внизу камни полысели, были мокрыми и блестящими от речных брызг…
Скользя подошвами по камням и хлюпая по воде, он смотрел на приближавшийся, широко блестевший плес и опять думал об училище…
29
В стенах Самаркандского художественного училища – как и во всяком святом месте – обитают боги. Живые и мертвые. Мертвых рисуют в классах. Это копии греческих и римских скульптур. Белые гипсовые слепки. Целые фигуры и отдельные головы, и носы, и уши, и глаза, и руки… Божественные фигуры, божественные головы, божественные носы и уши.
– Это наше детство, – говорят новичкам. – Детство человечества. Потому мы к нему тянемся и изучаем его. Рисуем, и рисуем, и рисуем…
И Семенов рисует. Он прилежно рисует этих давно умерших людей, которых, может быть, никогда и не существовало. Может быть, все они созданы воображением древних художников. Может, эти древние тоже отображали мир не таким, какой он есть, а каким он должен быть. Кто их сейчас разгадает, этих древних. Слишком уж их боги правильны, идеально красивы. Прямые носы и лбы. Линия лба переходит в линию носа совсем или почти без углубления в переносице. Крупные, как яблоки, подбородки. Четко очерченные губы, причем верхняя губа всегда чуть больше нижней, уж так полагается, потому что это красиво. Красота этих лиц математически совершенна. Если смотреть на них анфас, то расстояние от конца подбородка до кончика носа равняется расстоянию от кончика носа до переносицы – и расстоянию от переносицы до верхней линии лба… и так далее. Все эти величины студенты измеряют карандашом в вытянутой руке и переносят соотношения на бумагу. Рисуют – стирают – рисуют – стирают – опять рисуют… Постепенно бумага становится грязной, боги мало похожи… Но они должны получиться похожими, черт возьми! Семенов готов их рисовать сутки напролет. Недаром он приехал сюда, чтобы стать художником.
30
Основателем и вождем Самаркандского художественного училища был Павел Петрович Беньков. Когда-то, еще до революции, он учился в Париже, в этой Мекке художников. Потом вернулся, попал в Среднюю Азию и основал в Самарканде свою школу живописи. Злые языки говорили, что Беньков приехал сюда не совсем добровольно, но ничего конкретного Семенов не знал. Когда он поступил в училище, слава Бенькова уже сходила на нет; он был тяжело болен и в училище не появлялся. Семенов застал только яркую и трагичную агонию беньковского духа. Эта агония еще усиливалась тем, что сосуд духа был невидим. Бенькова даже на улице нельзя было увидеть, потому что он вообще не выходил из дому. Физически этот дух воплощен был в картинах Бенькова, которые висели в классах и коридорах. Написаны они в хлесткой эскизной манере, исходящей от импрессионизма, – но нет в них ни настоящего цвета, ни настоящего рисунка. Их и сейчас еще можно увидеть – и в музеях Средней Азии, и даже в Москве, в Третьяковке. Но в 1949 году, когда училище было закрыто и слито с ташкентским, Беньков был разруган за космополитизм, хотя ругать его за это, конечно, не стоило. Когда же туда поступил Семенов, картины эти стояли вне критики – они считались верхом совершенства. Апологетика эта была столь же провинциальной, как и обвинение в космополитизме.
Яркие халаты и тюбетейки, заросшие виноградом дворики, минареты, мечети, базары, плохо нарисованные узбекские лица в этой пестрой кутерьме – и все в намеке незавершенности. Краска на холстах нанесена очень неровно: то толстыми нашлепками, то впритирочку, а то и вовсе просвечивает между мазками серый девственный холст…
«Этим картинам цены нет! – говорят Семенову бывалые студенты-старшекурсники. – Ты только посмотри, как сияет, и льется, и блестит, и переливается, и сверкает на холстах солнце! Ослепительное солнце! А чем оно сделано?»
Студент Семенов водит носом по поверхности холста, по мазкам краски, ничего не соображая.
«Белилами оно сделано! – орут ему в ухо. – Цинковыми белилами! Ни в коем случае не свинцовыми, потому что свинцовые быстро темнеют. Цинковыми – ясно?»
Студент Семенов ощущает носом толстый мазок белил.
«А теперь отойди! – опять кричат ему в ухо и оттаскивают от картины на два-три метра. – Смотри! Видишь ты белила?»
«Вижу!» – глупо отвечает Семенов.
«Ни черта ты не видишь белил! – возмущенно орут на Семенова. – Олух ты! Ты видишь не белила, а солнце! Ослепительное азиатское солнце! Оранжевое, голубое, желтое, красное, синее! Как в спектре! А в результате оно белое! Белое солнце! Видишь ты солнце? Ну?!»
«Вижу! – орет бедный Семенов. – Я вижу солнце!»
«Ну, вот! – говорят ему торжествующе. – Вот это оно и есть – школа Бенькова!»
Новоиспеченный студент Семенов стоит потрясенный. Ему надо приобщиться к этому таинству писания солнца белилами. Как это велико и как… и как просто! А почему так просто?
«Все великое просто, – говорят Семенову. – И чем величавее, тем проще. Из чего состоит белый цвет? Из спектра основных цветов! А во что они все объединяются? Опять в белый! Потому и надо их писать белилами! Гениально просто. Живопись Бенькова правильна, потому что она верна! Ясно?»
31
Дойдя до середины речного плеса – дальше вниз по Вангыру опять белели пороги, – Семенов остановился. Тихо было вокруг, умудряюще тихо, если не считать шума реки. Этот шум заполнял весь мир – но странно: именно рев реки создавал эту умудряющую тишину, в которой так хорошо думалось и вспоминалось. Рев реки как бы создавал для Семенова тот первозданный музыкальный фон, который отгораживал его мозг от всего случайного и мимолетного, от привычной суеты московской жизни и позволял думать и размышлять о главном: о прошлом. Потому что главным для Семенова оставалось прошлое, его непреодолимое прошлое, с которым связан был смысл его существования, его прихода в этот мир, и которое требовало от Семенова неразрешимых ответов. Может быть, именно поэтому – а не только из-за рыбалки и пейзажей – он так любил сюда приезжать: здесь он мог спокойно сосредоточиться и думать – разрешать вопросы. Здесь он мог громко разговаривать сам с собой и со своими видениями, Река, которая была его главным слушателем, безразлично принимала его слова и мысли и безразлично топила их в шуме порогов.
Окинув глазами плес – тут совсем не было торчащих из воды камней, – он отошел в воду почти по пояс, чтобы не зацепить при забросе за деревья, – и размахнулся, и далеко бросил блесну слева направо – вверх по течению…
Крутя катушку, он подтаскивал блесну и улыбался своим воспоминаниям о Бенькове. Он нарочно посмотрел, прищурившись, в сторону солнца, висевшего над вершинами гор: на расплавленный воздух, на зеркало плеса, на все вокруг – в надежде увидеть где-нибудь хоть мазок чистых белил – их не было! Все цвета спектра были, а белил не было.
«Боже мой, – подумал Семенов, – сколько нужно было смотреть на этот мир, чтобы не увидеть в нем проклятых белил!»
Подтащив блесну к самым ногам, Семенов поднял ее на воздух и, размахнувшись, снова забросил далеко в плес – почти до другого берега, но вниз – и опять стал подтаскивать, то быстрее, то медленнее, чтобы блесна в воде веселее играла…
32
– Ну, что же дальше-то? – слышит он голос Дюрера. – Что вы еще расскажете мне о белилах?
– И не скучно вам со мной? – весело спросил Семенов. – Ведь я же рыбу ловлю.
– А вы ловите, – отвечает Дюрер. – Ловите и рассказывайте. Одно другому не мешает.
– Пожалуй, что так, – согласился Семенов. – Так вот… был у нас еще один своеобразный художник – совсем иного порядка. Я о нем уже мельком вспоминал – помните, когда бежал в парк на свидание с Монной-Лидой?
– Грюн, кажется? Вы еще обвинили его в обжорстве…
– Да. Преподаватель старшего курса Виктор Христианович Грюн.
– Немец?
– Да, из русских немцев.
– В мои времена, – говорит Дюрер, – в Россию уезжало много немцев. И голландцев. Как у вас, кажется, говорят: за длинным рублем. Это были в основном ремесленники… но Самарканд! В Самарканд никто не уезжал.
– В Самарканд Грюн попал во время войны… той самой, о которой я вам рассказывал. В первой половине двадцатого века. Я тоже попал туда из-за этой войны. Ее затеяли ваши соотечественники…
– Весьма сожалею. Я ненавижу войну!
– Я тоже, – сказал Семенов.
– Ну, так что же Грюн?
– Грюн был, очевидно, далеким потомком тех ваших ремесленников, которые когда-то к нам приехали. Грюн тоже остался ремесленником – и прекрасным! Хотя в этом, отчасти, было его горе: на истинного художника он не тянул. Он хорошо рисовал, но в его рисунках не было полета, души, фантазии… И живописи, как таковой, у него тоже не было – он раскрашивал свои рисунки, понимаете?
– Вполне, – отвечает Дюрер.
– В высшем смысле студенты его не уважали. И вместе с тем отдавали ему должное: он был у нас Богом Халтуры…
– Не совсем понимаю…
– А вы слушайте! – перебил Семенов. – Сейчас все поймете. Слово «халтура» занимает особое место в жаргоне художников нашего века…
33
Семенов все бросал, стоя в воде, – то на середину плеса, то вверх, то вниз – но поклевок не было… У него даже руки заболели. Он вспомнил, что врач, перед отъездом сюда, рекомендовала ему избегать резких движений. Он, конечно, не сказал ей, что будет спиннинг бросать. Говорил только об этюдах. «Этюды – пожалуйста! – сказала она. – Я даже удивляюсь, как это при вашей профессии вы инфаркт заработали… Живопись – это самое полезное занятие!»
«Балда! – подумал Семенов. – А нервы? Да и будто я занимался одной только живописью! Живопись была всю жизнь моей целью. Но добивался я ее разными средствами… не исключая всего резкого».
Подтаскивая в прозрачной воде нехотя вращавшуюся блесну, он увидел возле самых своих ног – на песчаном дне – небольшую золотисто-пятнистую кумжу… Он замер, перестав крутить катушку, и блесна тихо опустилась на дно, тоже возле его ног… Любопытная кумжа подплыла к блесне, понюхала ее и медленно поплыла прочь – в зеленоватую от солнечных лучей глубину воды, грациозно виляя хвостом…
Он вздохнул и вытянул блесну на воздух.
«Она приплыла из ручья, – подумал он о кумже. – Здесь, в реке, она почему-то никогда не клюет – ни на блесну, ни на мушку, ни на что-либо еще… А в ручье я ловил немало кумж – на червя… У кумжи розовато-желтое мясо, нежное и вкусное…»
Ему вдруг захотелось кумжи отведать. «Вернусь-ка я, поднимусь по ручью вверх и наловлю себе к обеду кумжи», – подумал Семенов.
Тяжело шагая в воде, он выбрался на берег и присел сначала на мшистых камнях – перекурить и отдохнуть…
Не спеша набив трубку и раскурив ее, сн опять вспомнил о своем невидимом собеседнике.
– Так вот… – сказал Семенов, пыхтя трубкой и продолжая свой рассказ уже молча, без слов. В словах они с Дюрером иногда не нуждались.
34
Бог Халтуры Виктор Христианович Грюн почти так же велик, и неприступен, и таинствен, как Беньков, – хотя Грюна мы видим каждый божий день. И в коридорах училища, и во дворе, где мы до поздней осени спим в кроватях под карагачами – просто живем тут. А Грюн с семьей живет рядом во флигеле, через стенку общежития. Мы все время видим его худую носатую жену. – как она отправляется по утрам на базар, или стирает, или развешивает под карагачами белье – и его маленького сына, который тут же в песке играет. Каждую минуту вы можете столкнуться носом и с женой Грюна, и с его сыном, и с ним самим – и они с вами вежливо поздороваются – и все равно остаются чужими. Они окружены полупокровом тайны.
Сам Грюн всегда изумительно, с иголочки одет – лучше всех в училище, – ходит важно, высоко подняв белобрысую лысеющую голову, и близоруко щурится вдаль, становясь от этого еще надменнее. Уходя в город, он всегда надевает шляпу и, здороваясь с вами, или снимает ее, отводя в сторону и кланяясь, или просто притрагивается к ней пальцами, чуть приподняв ее над головой. Это смотря по тому – кто перед ним… Мне его немножко жаль, за то что его не любят. И за его безвольные обжорства в ресторане, после которых он болеет. И за то, что все студенты – даже с его курса – с восторгом говорят о Бенькове или о Гольдрее – но никогда о нем. Он одинок. О нем говорят со смешанным чувством презрения и зависти.
Дело в том, что никто никогда не видел его этюдов. Зато все знают его портреты – сухой кистью на здании университета, его огромные панно в Комсомольском парке. Злословят, что и это он бы сам сделать не мог: у него бригада из четырех студентов-выпускников. Они-то якобы и рисуют все эти панно и портреты. Грюн только руководит и берет работу. То есть – эту самую халтуру. На нашем языке «халтура» означала побочный заработок. Этот заработок надо было найти и взять, и так, чтобы за него хорошо заплатили. И сдать готовую работу тоже надо уметь – так, чтобы заказчик плакал от восторга! Согласитесь, что это не каждый умеет. А Грюн все это делал виртуозно. Потому-то он и считался Богом Халтуры. Когда я с ним работал, я увидел, что он действительно таков…
– Вы работали с ним? – удивленно переспрашивает Дюрер.
– Это я потом с ним работал. С ним многие хотели работать – особенно из бедных студентов, – но он брал к себе не каждого. Он точно знал – какие лошадки ему нужны. Ведь не каждый, даже талантливый студент, может хорошо халтурить. Тут необходимы особые свойства…
– Какие же? – интересуется Дюрер.
– Аккуратность, если хотите! – громко сказал Семенов, шагая по мшистым камням назад, к ручью, вдоль берега реки. – И прилежание. И исполнительность. Ну, и работоспособность – бычья жила, как у нас говорили. Ведь халтурить надо было в основном по ночам, а днем опять заниматься в училище. И все делать так, чтобы не страдало ни одно, ни другое… Халтура не только отнимала время и физические силы: она мстила вам как художнику… Убивала со временем подлинный художественный вкус…
– Я тоже писал по заказам, – удивляется Дюрер, – и в какой-то степени это было моей халтурой – но я не изменял в ней своим вкусам…
– В наше время это невозможно! – возразил Семенов. – Тут надо уметь следовать не своему вкусу, а вкусу заказчика – в некотором смысле проституировать. Никаких новых мыслей, никакого творческого искания: есть каноны среднего обывательского вкуса – и им ты должен следовать и выполнять в этих рамках работу возможно аккуратнее и глаже… На все это у Грюна было шестое чувство… Между прочим, что меня в нем еще поражало – и даже нравилось в нем – так это любовь к вам, Дюрер! – громко сказал Семенов.
– Ко мне?! – удивляется его мысленный собеседник.
– Да! Потом я это и сам увидел, но сначала мне рассказали об этом студенты его курса. Они рассказывали, что на своих уроках он постоянно прославлял вас: за вашу любовь к геометрии, за вашу математичность, точность. Он всем рассказывал, что вы любили рисовать по клеточкам. У нас все халтурщики рисуют по клеточкам. Разобьют на клетки фотооригинал и чистый холст – и дуют по ним! Но это считалось зазорным, считалось, что надо рисовать без клеток. А Грюн отстаивал этот метод. Он показывал в классе какую-то старую гравюру, на которой изображена ваша мастерская. Вы сидите за мольбертом и пишете с натуры портрет, и между вами и натурщиком стоит на ножке проволочная сетка на раме. Вы смотрите через эту сетку и переносите натуру на холст, который разграфлен на соответствующее число клеток… Было такое?
– Было, – признается Дюрер. – Но я не понимаю, что тут плохого…
– Вот то же самое и Грюн говорил! И я не нахожу в этом ничего плохого, не думайте! Но в училище все над этим смеялись, называли это немецким чудачеством, педантизмом, недостойным великого мастера. Грюн возражал студентам, что вы могли, конечно, рисовать и без клеток, что это для вас просто подспорье, по ним вы себя проверяете… А потом, – говорил Грюн, – если вы такие гении, то нарисуйте мне портрет по клеточкам, но так, как это делал Дюрер! Можете? Не можете! Ну, и замолчите! По клеткам – не по клеткам – главное, чтобы здорово было…
– Не такой уж он плохой человек, – с сочувствием откликается за спиной Семенова Дюрер. – Жаль, конечно, что он столь много времени посвящал этой вашей халтуре… И – конечно – это его обжорство… любовь к деньгам… Но то, что он в классе про клеточки говорил, я считаю верным.
35
Обо всем этом они говорили молча, пока Семенов шел назад, к ручью. Не переходя его, Семенов повернул от реки и направился – в горы – сначала по берегу ручья через поляну, где ручей был широким и болотистым, а потом – войдя в самую тайгу, которая карабкалась дальше все круче вверх по склонам, стал идти прямо по каменному руслу, по которому низвергался ручей. Местами, где ручей образовывал водопады или ямы, Семенов опять карабкался берегом. Он решил подняться повыше – он знал там, в верховьях, несколько глубоких ям, где водилось много кумжи, и довольно крупной… Ее там отлично видно в воде, если тихо стоять на берегу – в тени деревьев или кустов.
36
– Вот в этих-то трех Богах, – продолжает Семенов свой молчаливый рассказ, – как в трех соснах – мне и надо было в те первые годы учебы не заблудиться… Надо было выбирать между Беньковым, Гольдреем и Грюном…
– И кого же вы выбрали? – спрашивает Дюрер.
– Я выбрал Гольдрея и Грюна… Вернее, я выбрал Гольдрея, а Грюн выбрал меня. Но не сразу. Он выбрал меня, когда убедился, что я именно та лошадка, на которую стоит поставить: это в смысле моих художнических наклонностей. А еще в смысле того, что я – как, может быть, никто другой в нашем училище, разве что как и мой друг Кошечкин, – нуждался в деньгах. Члены его бригады кончали училище и должны были вскорости отчалить… Я уже давно заметил, что Грюн ко мне приглядывается. То вдруг поймаешь на себе его пристальный взгляд где-нибудь в коридоре училища или на улице, то его жена со мной во дворе заговорит – спросит, откуда я да где мои родители, то Виктор Христианович вдруг зайдет к нам в класс во время урока, осмотрит бегло все холсты на мольбертах, а потом подолгу стоит за моей спиной… Все это, конечно, сразу отметили… А как противно работать, когда кто-нибудь под руку смотрит! Черт бы его взял, этого Грюна! – злился я. Хоть бы сказал что-нибудь. Но он все молчал: посмотрит-посмотрит и уйдет…
Но в то время, когда он ко мне так приглядывался и уже внутренне решил меня взять, я сам нашел себе халтуру, – конечно, смехотворную по сравнению с той, которую мог дать Грюн…
37
Семенов все еще медленно шел вверх по ручью, навстречу тучам. Он уже постепенно входил в них, незаметно для самого себя, потому что края этих туч были прозрачными. Поляна, и палатка на ней, и река остались далеко внизу, невидимые за толпами деревьев, особенно тесными у подножия гор, вдоль течения реки. Отсюда уже не слышно было речного монотонного рева. Таежная тишина обняла Семенова. Только шелестел ветерок, да ручей тоненько пел под ногами. Семенов шел по нему, как по каменной неровной тропе. Спиннинг он опять осторожно нес кончиком вперед, стараясь не зацепить за склоненные над ручьем космы берез да кудри лиственниц. Проход по ручью под деревьями был узок и петлист. Ручей здесь был все еще мелок, прыгал веселыми завитками по блестящим разноцветным камням. Когда в позапрошлом году Семенов ловил здесь, кумжа особенно хорошо клевала на свой собственный глаз. Но сначала надо было поймать хоть одну на червя. Семенов нес в нагрудном кармане комбинезона – в спичечном коробке – трех червяков. С трудом нашел их по дороге в мокрой земле, отвалив тяжелые валуны.
Семенов шел, глядя то вниз – куда поставить в воде ногу, то по сторонам – высматривал этюды. Про запас. Чтобы опять прийти сюда рисовать. Или по памяти сделать.
Склон горы поднимался вверх почти под 60 градусов. Вместе с Семеновым поднимались – рассыпавшись в стороны – темнохвойные лиственницы – как черные свечи, редкие светлые березы, коренастые сосны. Чем выше, тем тайга становилась реже, дальше вверх она вообще кончалась – сквозь стволы деревьев уже проглядывали широкие ярко-зеленые лужайки. Кругом сгущался туман, сырая плоть – это окружали Семенова тучи, как бесформенные привидения; он уже вошел в них. Иногда тучи вдруг рассеивались – и появлялся кусок горного склона с деревьями, голубое небо, солнце… И опять ничего не видно. Тучи всегда в горах хороводят. Семенов остановился, переводя дух. Зябко стало от этих влажных небесных привидений…
38
…Голова студента Семенова полна высоких идей, костюм оборван, брезентовые туфли каши просят, как и он сам. Стипендия 140 рублей 50 копеек в месяц. Это на старые деньги. Некоторые студенты получали из дому по 800 рублей, да еще продукты посылками. Ему получать было неоткуда, он был здесь перелетной птицей из разоренного гнезда…
Но что это за благодатный город – Самарканд! Недаром Семенов выбрал его себе, когда удирал из Караганды, – по слухам выбрал. Уж не говоря о лете – даже зимой здесь можно было прожить почти даром. Естественно – и здесь холодно бывает, промозгло, но терпеть можно и в легкой одежке. Морозов нету.
Весной же наступала райская жизнь. Тогда он собирал с ничейных деревьев по обочинам дороги приторно-сладкие ягоды тутовника. Летом – там же – абрикосы да яблоки. Но за ними охотиться было уже не так просто: узбеки их сами собирали, следили за ними. Особенно ревностно виноград охранялся – тут уж просто воровать приходилось. Но колхозные плантации большие, а охраны мало – получалось.
Иногда Семенов ходил на базар. Раза два в месяц скромно обедал в маленьких ресторанчиках.
В чайхану он ходил каждый день: утром, в обед и вечером. Чайник чая стоил 10 копеек. Лепешка 50 копеек. Вскоре же после поступления на первый курс Семенову крупно повезло: даже эту лепешку и чай – к тому же с сахаром! – он стал получать бесплатно. Он нашел свою собственную халтуру!
Чайхана расположилась на краю базара, рядом с училищем, – только дорогу перейти. Небольшое продолговатое глиняное здание с плоской крышей. Перед зданием росли полукругом три огромных карагача – в несколько человеческих обхватов каждый ствол – с раскидистыми кронами густой листвы. Летом пили чай в тени карагачей, на деревянных помостах над арыком. Помосты были застелены коврами и подушками. В жару здесь было свежо и прохладно.
Зимой пили чай в помещении. Вдоль одной из стен кипела в огромных котлах вода, стояла на прилавке целая армия пузатых разноцветных чайников и пиал, лежала под стеклом груда кристаллического сахара, стояли весы. За прилавком хозяйничал высокий, худой, всегда мокрый от пота чайханщик. Он ловко орудовал всеми этими котлами, чайниками, пиалами, отвешивал сахар, разносил чай посетителям. Его звали Махмуд-ака. Этот Махмуд-ака и стал добрым гением Семенова.
Надо добавить, что чайханщик еще управлял приемником: разыскивал в нем бесконечно тягучую, как азиатское солнце, узбекскую музыку. Она никогда в чайхане не умолкала. И самой любимой певицей Махмуд-аки была народная артистка Узбекистана Халима Насырова. Когда она пела, чайханщик ставил приемник на полную мощность.
Стены чайханного помещения были побелены известкой, и висели на них портреты вождей, а также плакаты – в основном об уборке хлопка.
У входа в помещение, на краю глиняной ступеньки, всегда сидела маленькая девочка в ярком платье, босая, со свисавшими на плечи бесчисленными черными косичками. Перед девочкой на тряпке возвышалась гора коричневых лепешек – она их продавала посетителям. Были лепешки простые и подороже – с тмином.
Вот и вся картина чайханы… Некоторые старики сидели в чайхане буквально с утра до вечера. Семенову никогда не забыть там одного древнего старца: он сидел там всегда – прихлебывая чай – на одном и том же месте. Он продавал какой-то табак, завернутый в газетные пакетики, доставая их из-под ковра. Представить себе чайхану без этого старика просто невозможно. Это был очень мудрый старик, всеми в околотке чрезвычайно уважаемый…
Один раз, промозглым декабрьским утром, Семенов зашел в чайхану по дороге в училище. Над Самаркандом дул холодный ветер, бежали тучи, землю покрыли смерзшиеся лужи. «Сейчас съем лепешку, согреюсь чаем… а что в обед? А завтра?» До стипендии было еще далеко…
В полупустой чайхане гремела Халима Насырова, несколько посетителей, скинув туфли, сидели на покрытых коврами возвышениях вдоль стен, тянули черный и зеленый чай из пиал, курили. Своеобразный запах витал в холодном воздухе, улетал синими струйками в окна. Неизменный мудрый старик тоже восседал на своем месте, в углу, раскачивался, как башня, с белой чалмой на голове. Он периодически говорил в пустоту: «Хоп!» – и запивал это слово чаем. Девочка с кучей лепешек прижалась к стене у входа. Семенов купил у нее дешевую лепешку, взял у Махмуд-аки полный горячий чайник и пиалу. Сняв туфли, он уселся на краю ковра, скрестив ноги. Этюдник он положил рядом.
Семенов пил горячий чай маленькими глоточками, согревая себе внутренности, и думал все о том же: где бы достать денег… взгляд, как всегда, равнодушно скользил по плакатам, по белой поверхности стен… и вдруг его осенило! Со странным предчувствием успеха Семенов поднялся и подошел к Махмуд-аке.
– У меня к тебе дело! – сказал Семенов помедленней и посолидней.
Махмуд-ака посмотрел на него с любопытством. Семенов уже год пил здесь чай, чайханщик звал его «Петя-ка», знал, где живет, где учится, – уже к нему привык. Семенов был его верным клиентом.
– Какое дело?
– Смотрю я на твои стены и думаю: «бедная чайхана»! Только старые плакаты! А где призывы? Придет начальство, увидит – будет нехорошо! Надо призывы написать. Взять из газет и написать на стенку. Придет начальство – будет очень хорошо! А я с тебя дорого не возьму…
Семенов с удовольствием увидел, как Махмуд-ака обрадовался:
– О, Петя-ка, ты большой человек! Давай пиши… а как буду платить?
– Чепуха! – успокоил его Семенов. – Там договоримся… сколько дашь! – боялся его отпугнуть.
Махмуд-ака весело и таинственно прищурился.
– Я буду платить тебе чаем! – сказал он. – Пей сколько хочешь чай! С сахаром. И с лепешками. Пока ты работаешь – в день сколько хочешь чай пей, три куска сахара ешь, три лепешки ешь… Согласен?
Семенов просиял:
– Конечно!
Они ударили по рукам.
Семенов взял этюдник, влез в брезентовые туфли и бодро пошел на занятия. Отныне он был кум королю!
В тот же день он притащил в чайхану к обеду кучу старых газет – отобрал с Махмуд-акой необходимые призывы. Вечером принялся за работу: расчертил карандашом на стене голые места и стал писать кисточкой по известке.
Каждое утро он вставал теперь веселый, не думая о куске хлеба. И учеба в училище пошла лучше. В общем – он был вполне счастлив.
И Махмуд-ака был счастлив: стены чайханы покрывались красными боевыми буквами в орнаментальных рамках. Махмуд-ака даже смотреть стал как-то веселей, с большим достоинством. Внимание всех он обращал на семеновские лозунги. Больше всего он говорил о них с постоянным посетителем – мудрым старцем. А тот кивал головой и повторял только одно слово: «Хоп!»
Теперь Махмуд-ака вдоволь поил Семенова чаем, покупал ему каждый день три лепешки с тмином, важно обсуждал с ним тематику. И где что написать. Вскоре в чайхану наведалось районное начальство, похвалило чайханщика за наглядную агитацию, благосклонно скользнуло взглядами по прилежной фигуре бедного студента – и Махмуд-ака совсем расцвел.
Время шло. Семенов писал новые и новые призывы. Работа подошла к концу.
Грустный пришел Семенов в тот вечер в чайхану: за своей последней, как ему казалось, лепешкой. Но не тут-то было! Махмуд-ака на него даже обиделся:
– Зачем такой грустный, Петя-ка?
– Да вот… Работе конец!
Чайханщик осуждающе всплеснул руками:
– Ай-яй-яй! Зачем так, Петя-ка? Будем дальше работать!
– Как – дальше работать?
– Будем эти снимать и писать новые!