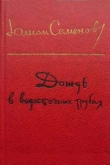Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Жалко ведь старика, Петр Петрович! – говорит она. – Делать ему с ними действительно нечего. Ну, как – выпишем вам бюллетень?
Если Семенов, при входе в кабинет, не целовал ей руку, она обижалась. И про Италию тогда не рассказывала. Самое же грустное, что лечила она его, к сожалению, не всегда от чего нужно, хотя была страшной перестраховщицей и выписывала лекарства пудами. В проклятый инфаркт свой он влетел, как ему казалось, благодаря ей.
Зашел он как-то с букетом к ней провериться – стенокардия замучила, – кардиограмму сделал, она ему говорит: подождите. Провела в отдельную комнату, велела прилечь на клеенчатую белую койку, сестру рядом посадила. Семенов лежал, еще ничего не понимая, а докторша темнила, мило и вместе с тем загадочно улыбалась, жалостливо смотрела на него, склонив голову набок, – все это он только потом осмыслил – понял только, когда в комнату вдруг вошла плачущая жена… Инфаркт! «Да бросьте вы! – рассердился Семенов. – Мне картину кончать надо! В Болонью надо ехать, на симпозиум!» – но ему ни встать, ни говорить не дали. «Скорая» была уже тут как тут. Велели перелечь на носилки – черт знает что! Ехал он в Боткинскую вместе с женой и всю дорогу злился, сердился на всех вообще врачей. Так и положили его, возмущенного, в больницу, где он долго лежал сначала в коридоре, глядя на окружавших его действительно еле дышащих доходяг, и все не мог успокоиться, все думал об остановившейся работе, о симпозиуме, где его ждут западные коллеги, – казалось, что вся его жизнь вдруг бессмысленно остановилась! И всем существом он отказывался это принять.
Он и сейчас еще толком не знал – был у него в действительности инфаркт или нет. Его доктор в Боткинской сказала вскоре: «Видите ли, Петр Петрович, инфаркт у вас маленький… но все же есть. Хоть и не такой страшный». А совершавший в первую же неделю обход профессор, остукав, рассердился: «На спине все лежите? Вам надо нормально лежать! И на левом боку надо лежать! И ходить надо!» – он так все это выпалил, что Семенов почувствовал себя симулянтом. Зато другой профессор – за месяц лежания их появлялось несколько – другой мягко сказал: «Инфаркт у вас есть-таки, мой милейший. Странно, как это он у вас при занятии живописью… Но главное – сосуды! Спазмы сосудов. Так что лежите вы здесь на всех законных основаниях. И успокойтесь».
«Так какого же черта! – возмущенно реагировал на все это Семенов. – Пойми их попробуй! Халтурщики!»
Но жена ему потом сказала – когда вышел, а ей он верил больше, чем всем профессорам, вместе взятым:
«Твои спазмы сосудов – это действительно плохая штука, и ты уж о них никому не говори…» И он молчал. Молчал и в поликлинике, перед отъездом сюда, хотя чувствовал себя неважно.
17
Он сидел на сухом дереве возле потрескивавшего огня и ждал, когда закипит вода в котелке.
В палатке он уже все уютно устроил – даже пепельницу поставил в изголовье постели. «Формалист немецкий!» – сказала ему жена, когда он укладывал в рюкзак пепельницу. «Действительно, – улыбнулся он сам себе. – Пепельницу не каждый в тайгу возьмет»…
– Выпью сначала чаю – в тишине, в первоодиночестве, – сказал он вслух, убеждая себя. – А потом пойду к рыбам, навещу их наконец. Заждались небось…
Но в мыслях была нетерпеливость: ему хотелось пойти сразу же…
Ветерок – откуда-то с гор – задувал временами на поляну, шевелил высокую траву, пытался сорвать с побелевших углей пламя. Семенов посмотрел за реку, куда улетели вертолетчики, – там, над поросшими лесом холмами, еле угадывались перламутровые разводы зарождающихся акварелеподобных то ли облаков, то ли туч.
Над самой высокой горой позади палатки – тоже увидел он, обернувшись, – нахально торчала синяя тучка. «Не быть бы дождю!»
Вода закипела. Он осторожно снял с огня котелок, всыпал в дымящуюся воду горсть чаю, сразу всплывшего кверху густой коричневой пеной. Подождав немного, Семенов помешал в котелке ложкой и зачерпнул треть кружки: он всегда так пил – треть кружки, треть стакана, треть чашки – как в Узбекистане пьют: треть пиалы. После Самарканда привычка осталась, так пить не столь горячо.
Он вынул из продуктового рюкзака полиэтиленовый мешок с хлебом, отрезал ломоть черного, потом развернул завернутое в тряпочку сало и тоже, отрезал кусок, вернулся к потухавшему костру и стал с аппетитом жевать, запивая чаем… и тут у него опять заныло в груди и в локтях.
«Надо отдохнуть, – решил он. – Рыбы подождут».
Он залез в палатку, лег спиной на спальный мешок. Боль постепенно отходила.
18
О прошлой его жизни сейчас мало кто знал, разве что жена, остальные только догадывались, да и то не все.
А все знали его сегодняшнюю жизнь – богатую, интересную, даже счастливую… Но была ли его жизнь действительно такой счастливой? Это знал только он один, потому что только он один знал всю свою жизнь – все ее проспекты, улицы и переулки, все тупики, все ее воздушные дворцы и глиняные трущобы. Сейчас он был для окружавших его знаменитым мастером, лауреатом разных больших и маленьких премий, автором знаменитых картин.
19
Тут его вдруг обняла усталость. «Вздремну чуток», – подумал он. Но спокойного сна не получилось… опять явился этот мертвец! Откуда он взялся, Семенов толком не знал. Но мертвец был, и был топор – весь в крови, – и сани были, и пара взмыленных лошадей… и Семенов был один.
«Хорошо, что я один, – подумал Семенов. – Никто ничего не видел. А теперь надо гнать лошадей…»
Он сидел в санях боком – это были розвальни, ноги свесились над снежной колеей, – держал в руках вожжи, чмокал – лошади ровно бежали вперед…
Много раз приходил к нему этот сон, как приходили наяву дикие мысли – при виде топора. И вот он опять, его зарезанный, – в санях, под соломой…
Бегут лошади – взмахивают головами, потряхивают сбруей – из ноздрей у них рвется пар, оседает на мордах, на спинах морозным инеем – шипят в снегу сани – день мглистый, низкие тучи обгоняют лошадей. Дорога вихляет по высокому холмистому берегу – слева заснеженная, непролазная тайга, справа, внизу, – белая лента замерзшей реки. «Вангыр», – узнает речку Семенов.
Он завалился в сани боком, держит в покрасневших от холода пальцах обледенелые вожжи, дергает ими, понукая лошадей. Бедром он ощущает сквозь тулуп – под соломой – жесткую голову топора, а левым локтем – живот мертвеца, еще мягкий.
Куда он скачет? Куда несут его лошади? Куда он повезет этого мертвеца? А черт его знает – куда! Надо бежать – вот это он знает… пока не поздно… Бежать, бежать…
– Но-о-о! – кричит Семенов замерзающим голосом и думает: «Подальше уехать надо… Где-то спустить его в прорубь».
«Эх, заехать бы спокойно в село, заявить в милицию! – тут же думает он мучительно. – Чем в прорубь-то опускать… Сказать: так, мол, и так – зарубил человека! Уж простите! Давно это было, да и человек плохой, никчемный совсем человек. Мне бы награду за это убийство дать, а не судить. Хотя не надо мне награды, отпустите только с богом, оправдайте. И – дело с концом! И – забудем! Он-то мертвый, а я живой еще! Мне еще работать надо, для будущего, для нашего общего дела…
Да и не я его убил в общем-то! Верите? Вовсе не я! Подсунули мне его – это правда, – а убили другие. Я видел, потому что рядом стоял. Они потом убежали, оставили меня с ним… Да я толком ничего-то и не помню: давно это было! Поймите меня, отпустите с богом, ведь понять – значит простить. А я вам тогда еще много чего расскажу, более важного, страшного – мысли свои разные… ведь мысли страшней поступков. Я вам все расскажу, вы только простите! Я ведь хочу, чтобы все хорошо было, чтоб никаких больше сомнений, обид – никаких – никаких подозрений – чтобы все ясно стало раз и навсегда! Да и не человек это вовсе – в санях – разве не видите? Посмотрите сами: разве это человек? Это мысли мои, которые я убил! Не мог иначе… а я ведь не хотел убивать, от этого мне еще тяжелее, невозможно просто…»
– Тпррр! – он остановил лошадей, встал на рыжий снег возле саней.
«Посмотреть надо, – подумал он. – Может, живой еще…»
Семенов нагнулся, разворошил с краю солому – топор блеснул сквозь красную ледяную корочку матовым блеском. Семенов вздрогнул, быстро прикрыл топор соломой, оглянулся – дорога позади терялась в густом холодном воздухе – там, над самым горизонтом – откуда спешили, возникая и разрастаясь вширь, тяжелые тучи, – чуть светилось перламутром в просветах между черными верхушками тайги по холмам. Никого не было. Он опять наклонился, разрыл обеими руками шуршащий ворох соломы: мертвец взглянул на него широко раскрытыми остекленевшими глазами… Семенов в ужасе увидел свое застывшее белое лицо, свои снежные усы и короткую бороду, кровавые волосы на голове примерзли концами к рассеченному лбу…
– Ах, боже мой! – пробормотал Семенов. – Боже мой! Кончено все!
Он быстро закрыл труп соломой, оглянулся на пустую дорогу, бухнулся в сани, крикнул на лошадей – те понесли…
«Удирать надо! – опять подумал он с тоскливым страхом. – Ведь заберут, как пить дать! Хоть самого себя убей, им все одно! Все равно расстрел! А не убивать я тоже не мог. Нельзя было не убивать! Ибо эта моя откровенность – воспоминания эти, мысли – хуже убийства! Нет, бежать надо, заехать в тайгу подальше, спустить его в прорубь…»
Он глубоко вздохнул.
Лошади уминали брызжущий снег копытами, тяжело дышали морозным паром. Суетливо мелькали слева занесенные ели, замерзший Вангыр красиво и плавно петлял справа – под берегом. Вон и палатка стоит, покрытая снегом, – на белой поляне, где он осенью рыбу ловил… Странно, однако: почему палатка все еще тут, на замерзшей реке? Разве он не уехал отсюда вместе с палаткой – тогда, в августе? Может, чужая это палатка? Нет – его палатка! Точно на том же месте стоит. Возле пяти берез, только березы голые… Там – под ними – ручей должен быть, сейчас его под снегом не видно. А вон и скалы знакомые… Странно!
Палатка медленно скрылась за поворотом реки. Опять потянулись пустые заснеженные берега, мелькала стволами и сучьями тайга.
Вдруг Семенов с удивлением увидел впереди высокий монастырь – зубчатая красная стена изгибалась по склону холма к реке, над ней уходили вверх серые строения – таяли в небе – золотые купола ушли крестами в тучи. «Это еще ничего – забытый монастырь! – пронеслось в голове. – Да и все равно – деваться-то некуда!»
Через минуту он остановился возле каменных ворот – заглянул в них и понял – в монастыре живут: снег во дворе утоптан, его пересекают темные тропинки, порхают под карнизами голуби, а вон и окошко слабо светится дрожащим светом… неужто монахи?
Какой-то высокий старик шел, прихрамывая, наискосок через дорогу – вверх от реки.
– Дед! – крикнул Семенов.
Старик подошел. Он опирался на палку: худой, длинный, с клочковато-рыжей бородой, цвета куполов. Глаза смотрели подслеповато-слезяще.
– Монастырь тут, что ли? – спросил Семенов.
– А как видишь! – ответил старик тоненько.
– Монахи живут?
Старик захихикал:
– Какие те монахи? Монахи давно не живут!
– А свет вон – в окошке? – Семенов указал кнутовищем в ворота.
– Так то ж учреждение! – строго сказал старик. – Милиция тута.
«Вот те на!» – внутренне охнул Семенов.
А старик вдруг посмотрел на него пронзительно: куда слепота подевалась!
– Что везешь-то?
– Да так, – с замиранием сердца, нехотя ответил Семенов, стараясь сказать это по возможности безразлично, и тронул вожжи.
– Стой! – завопил старик.
Семенов со всей силы хлестнул коней – снег взвился – помолодевший старик сразу отстал в метели – но все еще бежал следом, кричал: «Стой! Держи его! Убивец!»
Оглянувшись, Семенов увидел, как вдоль ограды монастыря забегали тени, какие-то фонари – или факелы, – коптя, сгущая сумерки, заколыхались ему вдогонку…
Он колотил и колотил коней, уносясь в наступающую ночь, понимая, что теперь ему все равно конец…
Тут он всегда просыпался, радуясь в первый миг, что это только сон. Лежа в кровати, усталый и разбитый от этой погони во сне, Семенов понимал, что зарезанный – это он сам, его двойник, его второе, правдивое «я»… Все сомнения, которые он мечтал высказать людям, все вопросы, которые мучили, – о самом тайном, сокровенном, правдивом, о всей жизни – своей и других. Но хоть сон и кончался, а страх перед мертвецом не проходил – словно еще кто-то видел этот сон и понял его… Да и сон-то уходил, а проклятые вопросы оставались!
Всю жизнь преследовал его этот сон – в разных вариантах: то вместо подводы удирал он со своим трупом на поезде – то на лодке через огромное пустое озеро – то пешком, таща труп на спине, – но всегда в конце была милиция… и всегда он ускользал от расплаты, просыпаясь…
20
Семенов лежал поверх спального мешка на спине и смотрел в брезентовый потолок, по которому дождь барабанил. Он повернулся на бок… и тихо открылась дверь в полутьме комнаты, и вошла натурщица Лида – самаркандская.
Лицо у нее было вполне обыкновенное – круглое, курносое, в прыщиках, – но когда она снимала ситцевое платье и всходила на помост перед мольбертами – тогда лицо этой простой русской девушки забывалось, она становилась богиней! Это была даже не Лида-натурщица, это была Вечная Женственность! Само Совершенство!
– Откуда ты, Лида? – спрашивает Семенов. – А училище?
– Не пошла сегодня, – говорит Лида. – Скажусь больной.
– Хочешь – большой свет включу, порисую тебя? – говорит он обрадованно. – Тройка у меня по натуре, надо бы поупражняться.
– Упражняйся, если хочешь, в кровати, – отвечает Лида. – Устала я. Спать хочу. Но поесть сперва надо… что у тебя найдется закусить-то?
– Кусок лепешки только, – говорит он смущенно. – Да вода вон… свежая… Скоро стипендия будет.
– Ох, надоели вы мне, студенты! Как вы только существуете? И все-то тебе рисовать меня надо! Будто скульптура я, а не живой человек! – она возмущенно снимает с себя тонкое ситцевое платье.
Она всегда так ходит – в одном платье на голое тело – благо жара… да и промозглой самаркандской зимой она тоже в этом платье. Закаленная. Разве что платок накинет.
– Красивая ты! – любуется он. – Венера Милосская! Дай – порисую!
– Жестокие вы люди – художники! – мрачно говорит Лида, ныряя к нему в кровать. – Уйду я от тебя… между прочим: там у меня в кармане три рубля, – добавляет она. – Возьми утром.
– Я ж тебе растолковывал, – обижается он. – Пойди куда-нибудь к подругам, поешь… у меня пусто… стипендию жду… А рисовать мне всегда надо, такая уж моя жизнь!
– Не жизнь это, – говорит она и сразу засыпает.
Он лежит рядом и думает: у кого бы денег занять? Перебирает в уме однокурсников… нет, никто не даст. Кто может, те уже дали. «Вот положение! – думает он. – Есть Богиня, так прокормить ее нечем!» Он откидывает одеяло и смотрит, как она спит. Ровно колышется идеальная грудь… Идеальный живот… Идеальные ноги…
Эта Лида живет как птица небесная. Он часто, лаская, называл ее кукушкой. Кукует то у него, то неизвестно где. Ревности у него не было, ревность денег стоит. Подло это, конечно, – что ревности нет, – но такой уж он человек, и она это знает. Если ревновать, то надо училище бросать, идти работать, вить гнездо… Не здесь же ему вить гнездо – в Самарканде, – он здесь птица перелетная – его гнездо на Севере. В Москве его гнездо, правда, пустое, разоренное, но он еще туда вернется! Он в это верил свято. А еще он верил, что главное для него – живопись… И Лида для него тоже – живопись.
Он смотрит на ее божественное тело – и от этой красоты просыпается… барабанит дождь по палатке.
– Надо же, – проворчал Семенов. – Никуда, видно, от нее не денешься!
И звонок опять зазвучал – будто рядом, в палатке стоял телефон. Звонок настойчиво звал его назад – на среднеазиатские дороги его молодости…
Семенов протянул руку, чтобы закурить.
– Спи, – бормотал снаружи дождь. – Ну, чего проснулся? И курить не надо! Вот кончу лить – пойдешь к своим рыбам.
– А ты не очень-то хлюпай, – ответил дождю Семенов. – Все равно ловить пойду, хоть и в дождь!
«Напряженный я какой-то, – подумал он. – И спать хочу – и не могу. Сказался, видно, перелет из Москвы: восемь часов летели, да еще тут – вертолетом…»
Он сел в пасмурной полутьме палатки, прислушиваясь к лепету дождя. Капли то редкие, тяжелые, то мелкие, частые… Вдруг солнце откуда-то блеснуло – невидимое! Тучевая и солнечная кутерьма за стенами. Всегда здесь так, в горах. Но выглядывать из палатки не хотелось: он все еще думал о натурщице… Он понял, что ему хотелось о ней думать… Он опять лег.
21
Лиду он нашел на Самаркандском базаре. Виноват был во всем преподаватель живописи и классный руководитель Айзик Аронович Гольдрей:
– Ви би сходили на базар, Семенов, – сказал он как-то на перемене. – Достали би натурщицу.
Гольдрей произносил «и» вместо «ы». Всех студентов он называл на «вы» и только по фамилиям.
– Как это я вам натурщицу достану? – смеется Семенов. – Что они там – продаются?
– Вы не говорите глупостей, Семенов! – сердится Гольдрей. – Там полно натурщиц! Они только не знают, что они – натурщицы… А вы объясните им это! Только смотрите, чтобы фигура была… и скажите ей, что она будет зарабатывать сто рублей в месяц…
Смешной человек – Гольдрей! Говорит «ей», как будто натурщица уже у него в кармане! Но на базаре Семенов теперь не просто виноград покупал, да лепешки, да тутовниковую халву и в чайхане там не просто так сидел, чай прихлебывая, – он присматривался к девушкам… Девушек на базаре хватало – речь идет, конечно, о русских – ибо об узбечках и заикаться бессмысленно: это особый мир, они уж никак не годятся в натурщицы. Но и с русскими у Семенова ничего не получалось – робок был бесконечно: сам как девушка. Ему казалось, если он заикнется какой-нибудь незнакомке о том, чтобы позировать обнаженной, – она его просто к черту пошлет… Так Семенов приглядывался, желая угодить Гольдрею и страдая от собственной неполноценности, пока не представился случай.
22
Как и все бедные студенты Самаркандского художественного училища, студент Семенов мечтал иногда о любви. Он, конечно, мечтал о любви высокой, беззаветной, вечной. И о мимолетной тоже мечтал. «Хотя бы мимолетная, – думал он, – если уж вечной пока нет». Но и мимолетная любовь от него отворачивалась.
Лучший друг и однокурсник Семенова – Кошечкин – разбитной малый и такой же бедняк – утверждал, что для успеха в любви необходимы хорошие шкеры и корочки. «Шкеры» – это значит штаны, а «корочки» – туфли. Так они тогда выражались на своем студенческом жаргоне. Главное, говорил Кошечкин, это конечности. Когда конечности гениально оформлены – ноги, руки, голова, – тогда у тебя вид! От этого вида все девушки просто таять будут.
Голова их не особенно мучила, потому что ходили они там без головного убора. По перчаткам тоже не тосковали. Шляпу и перчатки вполне могли заменить красивая прическа и чистые руки. Но ноги – тут необходимы были корочки – не босиком же за девушками ухаживать!
Кошечкин даже процитировал известное изречение Чехова: «В человеке должно быть все прекрасным: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Что касается лиц, душ и мыслей, то они с Кошечкиным были на высоте. Были молоды, красивы, водку не пили – денег не было, – питались воздержанно, грызли гранит науки, думали о живописи, мечтали о высокой любви… но одежда! Вот в чем была трагедия.
Как раз в то время – на первом курсе – писал Семенов вывеску для одного старика узбека, продавца фруктов на базаре. Самаркандские узбеки были в этом отношении замечательными людьми: они любили заказывать студентам художественного училища вывески. И не только вывески: они иногда даже покупали этюды. Сидишь, например, перед мечетью Биби-Ханым или перед гробницей Улуг-Бека и рисуешь себе. Тут подойдет какой-нибудь хозяин близлежащего ларька, тихо сядет позади тебя на корточках в пыль и долго молча смотрит. Если этюд ему понравится, он говорит: «Эту мечеть (или гробницу) ты хорошо взял! Я видел, как это брал большой художник Герасимов. Но и ты хорошо взял, молодец! Продай – я тебе два кило винограда даю (или яблок, или груш)…» Ну ты, конечно, делаешь вид, что этот этюд тебе самому очень нужен. А узбек тогда делает вид, что этюд ему в общем-то не очень нужен. Но все это говорится только для приличия. Так вы некоторое время торгуетесь, ибо не торговаться там просто нельзя. Тогда тебя могут посчитать за дурака или решить, что этюд плохой, и сделка не состоится. А поторговавшись несколько минут, получаешь за обыкновенный этюдик два-три килограмма отличнейшего винограда без косточек! Это было для студентов большим подспорьем. В основном-то они и питались фруктами, овощами да хлебом: самая дешевая еда. Должен еще добавить, что самаркандские узбеки стали такими ценителями живописи неспроста: во время войны в Самарканде находилась Ленинградская Академия художеств, она-то и привила самаркандцам любовь к живописи. Стихийно. Так что город этот был для студентов-художников действительно благословенным городом: ходишь на пленэр да еще за это гонорар получаешь! Получали студенты плату натурой и за вывески, которые писали по заказу. Были это те же натюрморты, только на них еще требовалось написать несколько слов, например: «Фрукты и овощи. Колхоз такой-то, район такой-то» – по-узбекски. Работа эта была с авансом: сначала получали энное количество плодов, чтобы поставить натюрморт и написать его – на фанере или железе – масляными красками, потом этим натюрмортом питались, пока картина сохла, а под конец получали за работу еще… восточная сказка!
Ну, так вот… Кончил Семенов очередную вывеску, съел натюрморт и, когда работа высохла, понес ее сдавать в базарный ларек знакомому старику узбеку, который уже не раз покупал у него этюды. Подходит к ларьку – было их в Самарканде тьма, и на самом базаре, и в улицах-проулочках, и все почему-то небесно-голубого цвета, – подходит Семенов к ларьку, а там вместо старика молоденькая девушка сидит! Да еще к тому же русская! Вот тебе и натурщица! – подумал Семенов. Этакая милая курносая красавица (ему тогда почти все девушки казались красавицами). «Где ака? – спрашивает Семенов. – Я тут вывеску принес». – «Скоро, – отвечает, – придет… подожди». А сама сидит возле весов и так задумчиво и грустно в самаркандское жаркое небо смотрит, подперев щеку маленьким кулачком… А вокруг нее на широком прилавке горы винограда – янтарного, черного, красного, горы яблок, слив, груш, гранатов, персиков… тьфу ты, черт возьми, даже слюна во рту сбежалась! «Франса Гальса бы сюда! – подумал он. А потом подумал: – А я разве не Франс Гальс? Я тоже Франс Гальс! Да что там Гальс – я Дюрер! Я бы сам мог ее написать, такую девочку с виноградом… Щеки – персики, глаза – маслины, волосы – спелая рожь…» Стал он ее разглядывать. И все больше она ему нравится. И все больше ему ее жаль становится.
«Вот, – думает, – попала бедняга к этому старику! Небось не от хорошей жизни… Откуда-нибудь из России приехала на дешевые харчи. Родителей, наверное, нет… тоскует, как и я…» – разные мысли в голове завертелись. А сам все разглядывает ее, разглядывает. По всему видно, что она на одной, так сказать, ступеньке с Семеновым стоит. Платье на ней самое что ни на есть дешевенькое, ситцевое, стираное-перестиранное, и пожалуй что на голое тело надето… Ну, а что касается конечностей, то и они не лучше семеновских. Ноги ему, правда, не видны были, а руки – маленькие трогательные руки – пригляделся он – с грубой, потрескавшейся кожей, ноготочки обкусаны. И голова – хоть и пышные волосы цвета ржи, но плохо промытые, спутанные. Зато – глаза! Большие, коричневые! Брови черные, губы – гранат раздавленный… и «как синие птицы, трепещут ресницы»…
– «Освежи меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!» – это Семенов вслух сказал, цитату из «Песни песней». Он в те годы много читал и часто огорошивал людей цитатами…
Красавица удивленно колыхнула ресницами – и протягивает ему яблоко! Она подумала – он есть хочет! И тут он – естественно – загадал! Он загадал: если яблоко будет кислым – тогда ничего не получится (сами понимаете – что!), если же сладкое или кисло-сладкое, все будет хорошо!
Надкусывает яблоко – сам смотрит на нее, смотрит! – жует: яблоко кисло-сладкое! «Ну, наконец-то! – радостно подумал Семенов. – Будет и на нашей улице праздник!» Ему вдруг жарко-жарко стало, кровь к сердцу прилила, в висках застучала… «Будь, – думает, – что будет!»
– Я, – говорит ей, – художник!
А что она натурщицей быть должна – совсем забыл!
Она молчит, смотрит только сочувственно.
– Вывеску вот принес, – говорит Семенов.
(Черт бы ее взял, эту вывеску, – зачем она ей?)
Она улыбается.
– Знаешь что, – отчаянно решился Семенов, – пойдем вечером в Комсомольский парк, погуляем… не на танцы, а просто так? А?
(На танцы, – подумал он, – ни ей, ни мне идти нельзя: из-за этих проклятых неоформленных конечностей!)
– Ну, так как? Придешь вечером в восемь к фонтану?
(Сердце бьется! Яблоко-то кисло-сладкое! – вертится в голове.)
Он заглянул ей прямо в большие коричневые глаза под ресницы…
Она слегка кивнула.
– Без обмана? – шепнул он отчаянно и жарко.
– Без обмана! – сказала она тихо.
В глубине ларька скрипнула дверь, и появился хозяин. Ему было уже лет под семьдесят, жилистый, коричневый, с классической черной тюбетейкой на серебре стриженых волос. Семенов заметил, как он стрельнул острыми глазами на него и девушку, что-то быстро каркнув ей по-узбекски. Она встала и вышла. Семенов сдал, не торгуясь, вывеску, взял свой заработанный куль винограда и побежал в училище…
Там – во дворе – стояла его койка под толстым раскидистым карагачом. Возле койки табуретка, под койкой – деревянный сундучок. Южная комната, так сказать, – без стен и потолка. Рядом под деревьями стояли еще койки – других студентов. Уже была осень, но все еще предпочитали спать под открытым небом: тепло! Сейчас во дворе никого не было, все разбежались по делам – кто куда, – только Кошечкин лежал на соседней с семеновской койке, заложив руки за голову, – смотрел вверх, ждал Семенова с виноградом. Они с ним всегда всем делились. Завидя Семенова, Кошечкин весело вскочил, и они стали хлопотать над ужином: лепешки, виноград… вода из колонки весело полилась в кружки, перехлестывая через край… Семенова тоже перехлестывало через край, и он все сейчас же рассказал Кошечкину.
«Ну и ну! – удивился Кошечкин. – Та самая, что в ларьке возле входа на базар?» – «Та самая». – «Знаю, я сам не раз у нее покупал… красивая! Да не про нас, пожалуй: старик не отдаст! Она же со стариком живет…» – «А я и спрашивать не буду! Уведу, и все!» – «Молодец! – поражался Кошечкин. – Я и не знал, что ты такой… Вот Гольдрей-то обрадуется!» – «Ну, уж нет! – возразил Семенов. – Она вовсе не для этого. Я ее в натурщицы не отдам». – «Почему?» – «Так…» – «Понимаю… собственник ты!» – «А ты на чужой каравай рот не разевай!» Они уплетали виноград с лепешками, запивая водой. «Ну, хоть портрет», – сказал Кошечкин. «И портрет не будем… может, когда потом. Она тебе не для рисования». – «Ну, ладно, – сказал Кошечкин. – Я тебя понимаю… ну, хоть виноград-то она нам будет доставать? Бесплатно?» – «Это можно», – согласился Семенов. «И груши! И помидоры!» – «Все! – сказал Семенов. – Все из фруктов и овощей! Это я тебе обещаю!» – «Прекрасно! – обрадовался Кошечкин. – Теперь мы с тобой обеспечены. Будем спокойно учиться. И поменьше халтурить». – «Эта так», – кивнул Семенов, набив рот виноградом. «Ты только береги ее!» – сказал Кошечкин, тоже набив рот. «Уж как-нибудь!» – гордо кивнул Семенов. «Защищай ее! И я помогу, в случае чего… за это я отвечаю!» – «Спасибо». – «От узбека ее заберем!» – «Заберем! – согласился Семенов. – Только куда?» – «Там увидим, – сказал Кошечкин. – Может, уборщицей в училище устроим?» – «Ты просто гений!» – обрадовался Семенов. «Снимем вам комнатку – на двоих…» – «О! А деньги?» – «Придется все же подхалтурить». – «Придется», – согласился Семенов. «Можешь рассчитывать и на мой заработок», – великодушно сказал Кошечкин, опорожняя кружку с водой. «А ты как же?» – спросил Семенов. «Я к вам буду в гости приходить!» – «Само собой!» – Семенов тоже опорожнил кружку. «Этюды вам дарить буду! Развесим по стенам – красота!» – «Конечно, красота! – согласился Семенов. – Ты обязательно заходи! Каждый день!» – «Может, она и мне какую-нибудь подружку найдет?» – «Найдет, – сказал Семенов уверенно. – Не сомневайся! Она, знаешь, у меня – такая решительная! И самостоятельная!» – «Ну, и отлично! – обрадовался Кошечкин. – А теперь давай готовиться. Штаны твои грязноваты – почистить надо. И куртку тоже… Раздевайся! Я чистить буду, а ты мойся, у колонки. Голову мой, шею… Эх, жаль, одеколона нету!»
Они принялись за дело. Семенов разделся и побежал в одних трусах мыться под краном в середине двора. А Кошечкин взял кастрюлю с водой, тряпку и стал чистить его костюм, разложив на койке. Время неумолимо двигалось к восьми. Семенов волновался. В глубине души он стал вдруг сомневаться в успехе. А может, она не придет? Старик не пустит… Мало ли что может быть… Но Кошечкину он о своих сомнениях не сказал.
Наконец Семенов оделся. «Холодновато, – сказал он. – В мокром-то костюме». – «Ничего, – ободрил его Кошечкин. – Мокрый чище выглядит. Когда он высохнет, опять грязным станет. А сейчас – видишь: стушевались все пятна… Скажешь, под дождь попал…» – «Дождя-то нет…» – «Скажешь, у нас дождь был… Ну, жми! Время! Я сейчас в училище бегал – уже полвосьмого. Ни пуха тебе, ни пера!» – «К черту!» – ответил Семенов и пошел.
Солнце уже село – где-то там – за тополями, карагачами, каменными и глиняными домами, минаретами, виноградными полями… Стало быстро темнеть. «Это хорошо, – пронеслось в голове, – ночью всю кошки серы». Семенов не спешил – до парка было недалеко, – медленно шел вдоль арыка, сопровождавшего его своим журчанием от дерева к дереву. В каменных плитах тротуара отражалось темнеющее синее небо – они только что политы были худым поливальщиком в закатанных до колен белых подштанниках и белой рубахе: он бегал босой, зачерпывал в арыке полное ведро и с криком: «Э-э, бргись!» – выплескивал веером воду. Белая фигура поливальщика в вечернем лиловом воздухе – под черной листвой с бледными просветами – между коричневыми стволами деревьев и охристыми стенами домов с оранжевыми окнами – на блестящих, словно стекла, плитах – это было красиво… «Надо написать такую картину: «Поливальщик», – думал Семенов. – А спешить нечего, лучше чуть позже прийти, чем раньше…»
У входа в осенний парк было многолюдно, горели еще бледные фонари, тянуло из-за деревьев шашлычным запахом. В воротах Семенова обогнал преподаватель старшего курса Виктор Христианович Грюн: он быстро прошел вперед под ручку со своей костлявой женой. Сделал вид, что не заметил Семенова. И Семенов сделал вид, что не заметил: Грюн с женой спешили в ресторан, это он знал точно. Был канун ноября, и Грюн со своей бригадой только кончил оформление парка к праздникам. Всюду – у входа и в глубине, по аллеям – висели лозунги, панно, портреты. Судя по их обилию, куш Грюн оторвал немалый. После такого куша он всегда бежал с женой в ресторан, там они наедались до умопомрачения, а потом болели несколько дней, и Грюн не приходил на занятия. Грюн с женой были странными обжорами. Все в училище давно это знали, смеялись над Грюном, но и завидовали его лукулловским пирам. Но Семенов сейчас не завидовал: «Каждому свое, – думал он весело, – Грюну шашлык, а мне – девушка…»