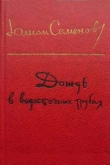Текст книги "Вся жизнь и один день"
Автор книги: Юрий Коринец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
100
– С Богом лучше не общаться! – сказал Семенов.
Он вспомнил своих богов – в Самаркандском училище – не гипсовых, а живых… тоже его немало попугали, чуть сам с ума не сошел… но он победил их!
Семенов не спеша шел в тени березового частокола над невысоким обрывом каменистого берега – то по мшистым головам камней под полуоголенными корнями берез, то по голым черепам нижних камней возле самой воды. Солнце, просвечивая сквозь стволы и листву, так же медленно сопровождало его, а река справа обгоняла – бликами на водяных лысинах, темными родинками водоворотов, кудрявой пеной… Радуга уже исчезла – растаяла в сине-золотом воздухе. «Не поймать, видно, сегодня семги», – подумал Семенов.
Так он подошел наконец к скалам, вернее, к первой из них над речным поворотом, и тут ему пришлось карабкаться вверх по едва заметной тропинке, выводящей из тайги в небо – на вершину скалы. Внизу каменная стена поднималась прямо из глубокого сильного течения – там пройти нельзя было.
Поднявшись наверх, где росли в каменных трещинах кривые, ободранные ветром елочки, Семенов увидел дальше вторую скалу, а внизу – между скалами – изогнутый вправо и усыпанный мелкими разноцветными камнями берег – и в середине узкого течения реки глубокую яму с темно-зеленой водой и белыми гребнями волн под торчащим из них скальным обломком – свое семужное место.
– Должна же там семга стоять! – бормотал Семенов, скользя вниз со скалы по усыпанной прошлогодней хвоей тропинке. – Такая изумительная яма! Сам стоял бы там… на квартире… будь я семгой!
Он вспомнил, как нырял раньше с таких скал – тоже на Севере, на других реках… до инфаркта еще это было, здоров был! Сейчас не нырнешь…
«А может, она и стоит там? – подумал он о семге. – Может, она мечтает о моей красной блесне? Ничего, подождет – покидаю пока белую. Красную беречь надо, а то зацепишь за камень – пиши пропало!»
Спустившись к самой воде и пройдя еще немного вниз, Семенов остановился напротив ямы – река здесь громко ревела, спотыкаясь о мешавший ей огромный, упавший в воду обломок скалы. Расставив ноги в воде у берега, Семенов отцепил от верхнего спиннингового колечка блесну, спустил ее до половины спиннинга – и прицелился – куда бросать…
Входя в воду, он спугнул большие серые тени хариусов – две-три штуки, – они метнулись в глубину, а за ними рассыпалась во все стороны мелочь. «Уйду – опять вернутся, – подумал Семенов. – И чего им охота под берегом сидеть? Комаров, наверное, последних долавливают… скоро зима…»
Семенов размахнулся и кинул в яму блесну – и, как только та коснулась бурлящих струй и нырнула в них – подхваченная течением, – он ощутил далекий удар и вздрогнул – подумал, что это ОНА – СЕМГА, – но тут же, включив тормоз катушки и накручивая на барабан леску, понял, что ошибся, – сопротивление рыбы было слишком слабым – это попался хороший хариус, но не семга…
Семенов, еще волнуясь, быстро выволок его, яростно сопротивляющегося, на мелкую воду, отцепил и сунул в садок на поясе.
– Ничего, – успокаивал себя Семенов, – надо бросать, упорно бросать…
Здоровый хариус громко бился в воде у ног, а Семенов продолжал бросать – уже спокойно – и опять думал о прошлом – как всегда на рыбалке – спокойно бросал и спокойно вспоминал, думал…
101
Большой актовый зал Самаркандского училища выглядит необычно празднично: уставлен столами буквой «П», а столы – бутылками с вином и водкой, закуской в тарелках – салатами, вареной рыбой, мясом, фруктами… но праздничный вид обманчив, потому что это прощальный вечер: Самаркандского художественного училища больше нет – оно закрыто. Все студенты, преподаватели, гипсовые боги, фрукты из воска для натюрмортов, учебные скелеты, чучела птиц, мольберты, папки личных дел, вазы и прочее учебное барахло, и даже уборщицы с их ведрами, тряпками и прижитыми от студентов детьми, – все переводится в Ташкент, на слияние с тамошним училищем… Все переводится, только не Семенов – он сидит грустный и пьяный вместе со всеми за столом – но корабли за его спиной уже сожжены: он покидает Среднюю Азию, уезжает в Москву… судьбу пытать! В третий раз! Почти для всех это еще секрет, знают только Грюн, да Гольдрей, да Кошечкин, да Монна-Лида… и с ней тоже все кончено… они уже не живут в гримуборной…
– Тост! – кричит кто-то оглушительно-пьяным голосом. – Внимание! Айзик Аронович хочет сказать тост!
Гольдрей встает. Вид у него смущенный. И красный. Он вообще красный, а тут еще вина выпил.
Все смотрят в лицо Гольдрею: спокойно – уже ощущая себя где-то в дороге – смотрит Семенов; умиленно смотрит совсем пьяный Кошечкин; восторженно смотрит на Гольдрея весь его курс. И другие смотрят – кто как…
– Дорогие друзья, – тихо начинает Гольдрей. – Товарищи! Мы с вами сравнительно недавно встретились и вот – уже вынуждены расстаться. По не зависящим от нас обстоятельствам. Может быть, вы еще встретитесь друг с другом в других училищах… в институтах… кто знает… Может, и я еще с вами встречусь…
– Встретимся! – кричит кто-то. – Айзик Аронович, дорогой… – и не кончает мысли.
– Я хотел сказать вам, друзья, – продолжает Гольдрей, – что мы здесь много нашли за это короткое время. Мы стали нащупывать наш новый путь – в цвете… тут у нас уже были определенные успехи…
Становится так тихо, как будто в зале пусто.
– В старой Франции был такой обычай, – Гольдрей смотрит на стену, словно то, что он сейчас скажет, написано там: – Когда умирал король, на площадях кричали: «Король умер… Да здравствует король!» Вот и я хочу сказать: Самаркандское художественное училище приказало долго жить… Да здравствует Самаркандское художественное училище! Ура!
– Ура-а-а! – кричат голоса.
– Еще два слова! – повышает голос Гольдрей. – Все вы пойдете к одной цели, хотя у всех будут разные пути. Об одном заклинаю вас: никогда не забывайте о высшем служении искусству! – он поднял свой стакан и осушил его залпом.
В зале поднимается невообразимый шум. «Да здравствует король!», «Самаркандское училище приказало!» Студенты и преподаватели целуются. Кто-то плачет, склоняясь над столом, кто-то пьяно и тупо молчит… Но неважно, что почти все пьяны: Гольдрей задел во всех самую важную струну, во всех – даже самых бездарных и сомневающихся – он раздул на одно мгновение мечту – стать генералом… Только Грюн невозмутимо обводит всех прищуренным трезвым взглядом поверх голов. Он надменен и бледен, как всегда…
Семенов встал и вышел на крыльцо. Незаметно вышел за ним и Гольдрей. Они узнали друг друга в темноте южной ночи на каменных ступенях. Во дворе пусто. Толстые пышные карагачи уходят в черное, усыпанное звездами небо, сливаясь с ним над крышами училища.
– Посидим, Семенов, – говорит Гольдрей.
– Посидим, Айзик Аронович.
– Вот мы и расстаемся, Семенов… надеюсь, у вас там в Москве все удачно будет…
– И я надеюсь, Айзик Аронович…
– А ваша Монна-Лида – как вы ее остроумно прозвали?..
– Мы с ней расстались, Айзик Аронович.
– Это вы тоже правильно решили, Семенов… я же вам говорил… я же вас предупреждал! И я рад, что вы вовремя одумались. Это такое опасное дело – женитьба… берегитесь женщин…
Они опять молчат, потому что Семенову нечего больше сказать: в глубине души он жалеет о Лиде… но уж так получилось…
– Мало мы с вами пожили, Семенов… мало писали натюрмортов, мало спорили… я бы многое еще хотел объяснить вам… Главное: пишите всегда то, что любите, к чему душа лежит, и возможно меньше халтурьте…
– Айзик Аронович! – перебивает Семенов. – Я хотел вам сказать, что за эти годы очень полюбил вас…
– Бросьте, Семенов! – смутился Гольдрей, – Просто вы талантливый человек. Ваши последние работы прекрасны – да, да, и не спорьте… И художником вы станете, если… если вас не собьют с панталыку! Вы знаете такое выражение: панталык? – спросил он вдруг.
– Знаю, Айзик Аронович.
– Так вот: держитесь за свой панталык, Семенов!
Гольдрей в темноте счастливо засмеялся, как будто сказал нечто совсем гениальное…
102
Незадолго перед этим прощальным вечером вернулся Семенов в гримуборную – отпер дверь – переступил порог – и сразу понял: ушла Лида… На койке валялись ворохом вещи, – видно, выбирала свои, – а к мольберту прикреплен был лист ватмана с косыми словами поперек: «Не ищи!»
В первый момент ему стало холодно и пусто, он сел на ворох вещей, задумался. И почувствовал вдруг все то, что раньше мимо прошло: ее случайные улыбки на дрожащих губах, недомолвки, вопросы, на которые он все время шутками отвечал или ариями из оперетт. Она уже знала, что училище закрывают, что он собирается уезжать в Москву, спрашивала сначала: «А как же я?» – а потом – еще до того, как уйти отсюда, – ушла в себя… но это он понял только сейчас, сидя в осиротевшей ненастоящей их комнате: ведь была это всего лишь гримерная!
Не понимая еще, что поступила она удивительно точно, что так и надо – он потом отыскал ту же мысль в глубине своей души, – он сейчас отчаянно и лихорадочно казнился: «Как же так? Как же это сегодня день пройдет без нее? И ночь? Не простившись – уйти… нехорошо как-то… Она бы ко мне в Москву приехала, когда бы я там зацепился…»
В этот момент он не сознавал, что раньше думал наоборот – и что потом будет думать наоборот. Не понимал, что она уже тогда все поняла: ему дальше лететь, а ей оставаться. Она знала его больше, чем он сам.
В тот тоскливый для него момент он оказался во власти минутной слабости и кинулся ее искать – все через того же Кошечкина… и ведь подумать только! – опять Кошечкин нашел ее. Уж как – неизвестно, но, видно, знал что-то об ее уходе заранее.
Семенов отправился туда под вечер – «должна быть одна», – шепнул ему Кошечкин, проводив до места, и скрылся.
Семенов вошел в обнесенный дувалом двор, прошел по выложенной кирпичами дорожке под нависшими на решетках виноградными лозами в глубину – и тут увидел свою Джиоконду: она стояла согнувшись над корытом с бельем – стирала прямо на улице под окном глиняного узбекского домика с плоской крышей.
Семенов мгновенно распалил себя – смело шагнул навстречу – сказал:
– Лида…
Она обернулась, отвела мокрым локтем обнаженной руки прядь сбившихся на лоб волос – отошла – села на глиняную завалинку, скрестив на коленях руки, сказала спокойно:
– Привет… напрасно пришел. Хотя я знала…
«О, какой холод! – растерялся Семенов. – Какой божественный холод! Даже загадочная улыбка исчезла!»
Сделав над собой усилие, он вдруг запел:
– Ты знаешь, Марица! Нам нужно жениться…
– Брось, – перебила она без тени былого юмора, – я уже замужем… а вон и муж мой идет!
Оглянувшись, он увидел высокого худого русского парня в рабочей спецовке. Парень подошел, хмуро взглянул на Семенова, бросил Лиде: «Лидка! Жрать давай!» – и прошел в дом.
«Не надо слов, все ясно и без песен!»
– Все ясно, – сказал он возможно небрежнее. – Не поминай лихом!
– И ты дак! – сказала она дрогнувшим – как показалось Семенову – голосом. – Счастливо тебе до Москвы добраться… и остаться там…
Семенов повернулся и быстро пошел со двора…
103
«Глупо, что я жениться приходил, – подумал сейчас, на Вангыре, Семенов. – И если бы она тогда согласилась, было бы еще хуже… Тогда – в молодости – она была мудрее меня. Моя тогдашняя слабость пришла к ней сейчас… как тоска по великой любви, которой она так и не увидела.
А может, это все чепуха – это мое интеллигентское самокопание? Может, она действительно просто хочет меня увидеть по-человечески? Но почему она тогда сказала: «В жизни совершаешь ошибки»? Вот что противно…
Почему я чувствую себя перед ней виноватым? Будто украл у нее что-то – не гуся, как тогда в степи с Увалиевым, а нечто большее…
Не надо было ей о любви говорить, – понял вдруг Семенов. – Моя вина в том, что я подарил ей надежду, а потом украл ее.
Жену – вот – сейчас – люблю, и никаких конфликтов с призванием… Значит – бывает-таки гармония? Почему? Да потому что, когда мы с женой познакомились, у меня уже было мое место в жизни… и в живописи – самое главное уже было. А любовь приложилась. Лучший вариант. А иначе – если ничего у тебя нет, а хочешь все сразу – гармонии не бывать: что-нибудь непременно приносится в жертву другому…»
– Ну, ладно, старик! – сказал сам себе Семенов и встал, повеселев; и опять увидел он вокруг горы, и скалы, и тайгу, и кипящий Вангыр. – Хватит! Коли есть в настоящем гармония – так забудем о прошлом! Тем более сейчас, когда можно хариуса ловить… и семгу… и дышать этим воздухом. Где еще есть такой воздух, а? Небось где-нибудь его готовы покупать в консервных банках… – Он не подумал о том, что гармония в настоящем невозможна без участия прошлого.
Он вспомнил еще одну свою любовь – самую первую – школьную…
104
Первая любовь… святые слова! Какая бы она ни была – хранимая тайно, разболтанная пенсионерами возле подъездов, описанная в книге, показанная в кино – и почему-то всегда связанная с какой-нибудь «дикой собакой Динго», – эта любовь всегда считается прекрасной. Только потому, что она – первая…
Он знал в колхозе одну немку, которая говорила по-русски только две фразы: «Это правильно» и «Это неправильно»… так вот: это неправильно, – подумал Семенов о первой любви. Он не любил свою первую любовь уже давным-давно…
– Будем рассуждать логично, – сказал он. – Случилось предательство, но, слава богу, не с моей стороны…
Он в который раз обрадовался этому.
– Первая любовь глупа и наивна! – сердито выговорил он прыгающему на волнах поплавку, и тот испуганно нырнул в воду… но тут же выплыл и закачался дальше…
Семенов ловил хариуса на мушку.
Забрасывая и вытаскивая снасть, Семенов разговаривал сам с собой вслух, не замечая, как слова мешаются с шумом реки, а порой разговаривал в мыслях, не ощущая, что слова вовсе немые. Одновременно он следил за далеким поплавком, перезакидывая его, перепрыгивая с камня на камень, вываживал на мелкую воду бившихся хариусов, снимал с крючка, опускал в подвешенную к поясу сетку… Все это он делал автоматически, даже забывая на мгновение, что ловит рыбу… в мыслях была эта его давняя первая любовь…
105
«Глупые записочки в классе, бесконечные стояния возле библиотеки, сидения в читальном зале, когда смотришь в книгу и видишь фигу, а думаешь только о ней, а она сидит за длинным столом напротив – «обойди стол и у всех на виду подойди и поцелуй меня!» – заливающий лицо до самой шеи румянец и сердцебиение – и обилие высоких, случайных, нежных, пустых, горячих, банальных слов, в которых мерещится некий несуществующий божественный смысл, – а зачем? Ведь все впустую!
Конечно – если бы она поехала вослед за ним в Казахстан, самоотверженно, – тогда ясно! Но не поехала ведь!»
– Господи, я вовсе не требовал от нее этого! Но она должна была бы хотеть! – сказал Семенов.
«А люди – даже в старости – читая про эту пресловутую любовь или глядя на нее в телевизор – ахают, вытирают слезы… но почему же? Потому что это суррогат, а суррогат проще, понятней, сентиментальней подлинного. Недаром все начинающие поэты всегда пишут о любви. По-настоящему-то они еще не любили, их чувства бесплотны, расплывчаты, неясны, и хотя сам объект ходит по земле – но любовь их безнога! Влюбленные тонут в море общих слов, в розовых закатах и восходах, и – «увезу тебя я в тундру!» (почему непременно в тундру, а не в Киев?), и «я подарю тебе звезду» (почему непременно «звезду», а не чего-нибудь попроще, что действительно можно подарить?).
– Ты платье-то сумей подарить! – крикнул реке Семенов. – Нет – платьев почему-то должно не хватать. Бред!
Семенов как будто страстную речь держал, чувствуя в глубине души, что сам причастен к этому бреду.
– Настоящая любовь – это страсть к продолжению жизни! – воскликнул Семенов. – Организация своего бессмертия! В детях! Да, да! И не спорьте!
Но никто не спорил с Семеновым – река слушала его отрешенно, погруженная в свою борьбу с камнями, которые она шлифовала веками, и хариусы не слушали его, думая только о насекомых, и кидались на мушки, садясь на коварно спрятанный в них крючок, и тайга – и горы – погруженные в свои проблемы – не слушали его…
Да Семенов и не видел сейчас вокруг ничего – он видел свое прошлое, споря только с ним одним…
– Любовь связана не с дарением какого-то абстрактного глобуса и не с дикой собакой Динго – а с работой, с борьбой за жизнь – с невзгодами, когда жаждешь не их – а покоя и счастья! И обязательства перед ближними! Жизнь без обязательств – бесплодна и неуютна, как пустыня!
106
Он вспомнил, что долгое время – во все свои среднеазиатские дороги – чувствовал себя героем репинской картины «Не ждали». Этой висящей в Третьяковке картиной некоторые преподаватели ему все уши прожужжали – и в школе, и после в училище… передвижническая вещь восьмидесятых годов прошлого века, идеал литературной живописи, которой, как таковой, там, собственно, и не было – был сюжет: герой – отец семейства или сын – пребывал, очевидно, где-то в местах «не столь отдаленных» – революционер какой-нибудь, – и вот он вернулся и нежданно входит в гостиную своего дома – в арестантской одежде, – прислуга смотрит на него, как на нищего, дети за столом удивлены, только одна женщина – то ли мать, то ли жена – понимает уже, кто это, – ее чувства еще не прояснились – но вот сейчас она кинется ему на шею… таков этот трогательный – в красках – рассказ. И Семенов, думая о Москве и о своем возвращении, представлял себя именно тем самым героем, которого не ждали – но не в отношении семьи, которой у Семенова уже не было, – он представлял себя этим «не ждали» в отношении первой любви… А тут еще поэт Симонов подхлестнул мечты Семенова своим популярным во время войны стихотворением:
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди…
Черта с два! Не ждала Семенова его первая любовь! Более того: за то время, пока он странствовал по своим среднеазиатским дорогам, она ухитрилась стать первой любовью еще троих одновременно. Один из них был старым школьным другом Семенова, а с двумя другими Семенов познакомился позже… но не в этом дело.
«Пожалуйста! Влюбляйся! – думал Семенов. – Но какого черта ты писала мне нежные письма? И – что самое противное! – параллельно писала такие же нежные письма трем другим, которые всю войну были на фронте?»
После она объясняла это тем, что «поддерживала в тех троих солдатскую веру, – ибо должна же быть у солдата в тылу любимая!» – а в Семенове она поддерживала его «веру в справедливость, которая восторжествует, ибо должна же и у него – отверженного – тоже быть верная любимая!» – вот что, когда он впоследствии об этом узнал, оскорбило Семенова.
А он – дурак! – тоже нежно отвечал ей на письма и мечтал: вот он возвращается в Москву (в голове картина «Не ждали») – входит в ее дом (конечно, не гостиная, а просто комната в коммунальной квартире, и ни детей, ни матери, ни прислуги) – но она – кидается ему с воплем радости на шею…
А еще стояли в его памяти их юношеские свидания.
107
Опять схватил хариус, и Семенов стал аккуратно вываживать его на широкое мелкое место, где вода растекалась над галькой… Хариус отчаянно прыгал, звеня камешками. Семенов быстро шагнул вперед, приподняв левой рукой спиннинг, нагнулся – ухватил рыбу правой рукой под жабры… Руки тряслись, как у пьяницы, – хариус упруго и сильно вилял распущенным хвостом.
108
…Они стояли в начале Тверского бульвара, возле памятника Пушкину. Она любила тут назначать свидания. На ней была любимая им черная вязаная кофточка с тоненьким красным шнурком на груди – от этой кофточки всегда так волнующе пахло. Ему казалось, что это ее запах…
– Покажи тетрадь, – говорит она с улыбкой, но требовательно.
– Какую?
– Ну, хоть по русскому, – она нетерпеливо взмахивает копной желтых волос.
Он достает из ранца тетрадь – они идут в школу, – протягивает ей. Она быстро открывает ее наугад и начинает читать.
– Ага! – она лукаво улыбается. – Как ты здесь написал букву «т»? Вовсе не длинной ножкой и перекладиной наверху! Ты написал ее, как немецкое «м», – с тремя ножками… Значит, ты меня не любишь!
Она надувает губки.
– Но, Симочка, – говорит он растерянно. – Ты тут посмотри… вот тут, видишь? – он раскрыл тетрадь на другой странице. – Здесь написано, как ты просила…
– Я тебе велела везде так писать! Нет, не любишь.
Она сердито поворачивается, тряхнув копной волос, – ну и волосы у нее: пожар! – и уходит в глубь Тверского бульвара.
Он медленно волочится за ней на приличном расстоянии…
109
– Что за идиотизм! – воскликнул Семенов так громко, что зеленовато-золотистые рыбки в мелкой воде – подплывшие было к самым его ногам – они почему-то любили, осмелев, подплывать к самым ногам, – ринулись прочь… Что за идиотизм с этой буквой «т»! Разве это значило: любит или не любит? А ведь он до сих пор пишет эту проклятую букву с длинной палочкой! Хотя любви давно нет! Да и была ли она вообще, черт подери…
Он выволочил против течения тяжелый поплавок, быстро крутя катушку, и пошел дальше, потому что клевать перестало. Видно, выловил тут всю рыбу. Спустившись пониже, он опять забросил снасть в реку.
110
В десятом классе Семенов познакомил свою первую любовь со своим лучшим другом, с которым учился вместе с первого по десятый класс.
Сперва они с другом долго были в тайном Обществе женофобов – между собой они называли его «ОЖ» – ради конспирации. Это друг придумал – Семенов далек был от такого «интеллектуализма». У друга отец был известный детский писатель – в те годы известный, – он написал тогда свою единственную книгу, бывшую до войны весьма популярной, но сейчас уже всеми забытую. Семья этого писателя считалась весьма интеллигентной – как почти все писательские семьи, – хотя глава семьи был дикий пьяница и вскоре совсем спился. Так же и сын писателя – тогдашний семеновский друг – считал себя, конечно, большим интеллектуалом и вечно придумывал разные такие писательские штучки, вроде этого Общества женофобов. Причина этого заключалась в том, что друг его был в общем-то растяпа, весьма неуверенный в себе человек. Этакий долговязый меланхолик, каким он остался до сегодняшнего дня. Он всегда стеснялся девчонок, потому что был страшно длинен и некрасив, с оттопыренными губами, хотя и эрудит. Вот эта эрудированность и привела друга к идее женофобства.
Семенову с самого начала не нравилось это Общество – и было-то в нем всего два члена: Семенов и его друг, – но Семенов находился под сильным влиянием друга. А что не сделаешь ради святой мужской дружбы – думал тогда Семенов – да и сейчас еще многие думают…
Став членом Общества, Семенов вынужден был подчиниться жестокому правилу: презирать всех девчонок! Это значило: не сидеть с ними, не гулять, не играть, не разговаривать! И вообще – стараться не замечать… по мере возможности, конечно. «Ибо нельзя в обществе быть совершенно свободным от общества, – сказал друг. – Например, в классе, – объяснял он Семенову, – когда учитель потребует, или на пионерском сборе – ты можешь с девчонками разговаривать официально, но – с полным презрением!»
И Семенов строго выполнял правила Общества: страдал, но подчинялся… правда, иногда – вне школы – а любовь Семенова училась в другой школе, – иногда Семенов, пользуясь отсутствием друга, разговаривал со своей любовью безо всякого презрения – даже более того. Но – боже мой! – какой разнос устроил Семенову его друг, когда заметил, что Семенов любезничает с девчонкой – да еще с той самой! Лучший друг сказал Семенову, что не считает его более мужчиной, что Семенов предатель идеи, слюнтяй – и так далее… что их великой мужской дружбе конец! Семенов долго умолял друга простить его, и их дружба, конечно, восстановилась…
Вместе с тем лучший друг удивлял иногда Семенова своим прямо-таки противоположным поведением…
Один такой случай произошел еще в восьмом классе. Школа, в которой учился Семенов с другом, и та, в которой училась семеновская первая любовь, находились рядом – из переулка в переулок. И вот однажды друг узнал, что девчонки соседней школы будут готовиться по гимнастике к предстоящим праздникам, – уж как он это пронюхал, неизвестно! – но он сказал Семенову, что девчонки будут заниматься в одном из классов после уроков. Так вот: не хочет ли Семенов проникнуть в этот класс заранее, спрятаться там под партой и посмотреть – как девчонки заниматься будут? «И ОНА там тоже будет», – ехидно сказал друг. Семенова это удивило: «А зачем?» – спросил он наивно. «Дурак! – сказал друг. – Чтобы увидеть, какие они лошади! Как далеки они от физической культуры! Я хочу излечить тебя от преклонения перед бабской породой! Пойдем!» – и Семенов согласился.
После занятий пробрались они в соседнюю школу, в тот самый еще пустой класс – никто их не заметил, – залезли там под парты в задний ряд – и затихли… Они сидели, предвкушая, как сейчас войдут девчонки в трусах и в майках, вместе с физруком, и начнут там перед ними неуклюже прыгать и задирать ноги – вот будет умора! – как вдруг открылась дверь и в класс вошли здоровые ребята-десятиклассники, а за ними вкатился маленький лысый учитель математики в пенсне – тот же самый, что преподавал математику и у них, – и ни одной девчонки!
Семенов и его друг в ужасе затихли под партами, задавленные ногами здоровенных десятиклассников, – сидели не дыша… Но надо же было несчастным членам Общества хоть разок вздохнуть и пошевелиться! – и тут началось самое страшное: все, кроме учителя, увидели под партами незваных гостей! Десятиклассники были счастливы: вместо математики – такое приключеньице! Есть над кем поиздеваться! – их стали тайком пихать, давить, щипать, плевать в них жеваной бумагой – учитель удивлялся странному невниманию своих учеников – их смешкам, улыбочкам, косым взглядам, – но так ничего и не понял – он был близорук… И на том спасибо, а то получили бы еще выговор в школе…
Но это было еще в восьмом классе, в 1939 году, а через два года – в 1941 году – Общество женофобов лопнуло, потому что вообще все лопнуло…
111
Семенов не любил вспоминать о тех роковых днях, никогда не любил, и сейчас – на Вангыре, со спиннингом в руках, стоя по колено в быстрой воде и орудуя снастью – он тоже старался не думать об этом, не вспоминать – но картины тех дней лезли ему в голову – сумбурно – толкаясь, сменяя друг друга и опять возвращаясь – мучая Семенова, – и слова лезли, и песни… Эти воспоминания ассоциировались у Семенова с обилием песен – большинство из них старые, которых сейчас уже почти не услышишь, а некоторых и вообще не услышишь… почему так? Семенову казалось, что в те дни все особенно много пели. Всюду: в школе – на пионерских сборах и комсомольских собраниях, на улице – в колоннах демонстраций и просто так, дома и в гостях, – из черных тарелок радиоточек – тогда повсюду были радиоточки, даже на улицах и площадях, – лились песни, песни, песни… Это было время громких, бодрых, лирических и боевых песен, самоотверженно-высоких дум и речей – и тревожного чувства: что завтра?
Странно – что Семенов до сих пор любил эти песни, и пел их, и злился на них…
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер! Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда! Вьется дымка золотая, придорожная, ой ты, радость молодая, невозможная! Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой! Расцветали яблони и груши! Эшелон за эшелоном, эшелон за эшелоном – путь-дорога далека! Если завтра в поход, если завтра война…
И война наступила – и жданно, и нежданно…
112
Они сидят с другом на скамейке Тверского бульвара – тоже август, как сейчас на Вангыре, – спешат мимо озабоченные прохожие. И бульвар какой-то не такой – неуютный, покинутый… И школа позади…
– Война будет недолгой, – говорит Семенов. – От силы месяца два-три… мне сосед говорил, военный… и я так думаю: разобьем немцев быстро…
– К отцу вчера приходил товарищ, – говорит друг. – Уезжает на фронт, до утра сидели… говорили: война будет страшная… Я вот что думаю, надо после себя кого-то оставить… ну, ребенка… влюбиться надо, пока не поздно… ведь на фронт уйдем, мало ли что… кого-то оставить надо…
Семенов поражен:
– И… у тебя есть? Девушка?
– Да нету…
– Глупое было это твое Общество женофобов, – говорит Семенов. – Сколько времени зря потеряли…
– Глупо, – соглашается друг. – Но это же наше детство… А как у тебя с Симой?
– Нормально. Она в эвакуацию едет…
– Ты познакомь меня с ней на прощанье, – говорит друг.
– Хорошо…
113
В военкомате Семенов уже был, медкомиссию прошел: послали зубы залечивать – а так все в порядке. Сказали: ждите повестку, никуда из Москвы не уезжать…
114
Некоторые из его класса поступают все-таки в институты – в Бауманский, в Восточных языков, еще в какие-то – у них будет бронь. И Семенов подал заявление – еще за три дня до войны – в Изостудию ВЦСПС – там брони не будет… А к своему институту Семенов еще не готов – по живописи не пройдет… да и вообще: он уйдет на фронт!
115
Он ждет ее вечером на пустынном углу Садовой и Каляевской улиц – уже смеркается, а фонари не горят – Москва затемнена, окна домов изнутри плотно завешены, на стеклах бумажные кресты, чтоб не полопались от бомбежки, – по ночам Москву бомбят «юнкерсы» – что-то она долго не идет? «Она прелестная блондинка, всегда смеется так легко! Она картинка, она картинка, перед ней не может устоять никто-о-о…» – напевает Семенов.
К нему подходит какой-то человек – маленький, хмурый, с красной повязкой на потрепанном пиджаке: «Ваши документы?» – Семенов показывает: «Я тут девушку жду… свидание…» – «Ну, ладно… а вообще-то сейчас не до свиданий!»
116
Мать дома одна, тоскует, растеряна – отца у них давно уже нет – жалко мать, мечется она все, плачет: «Я не переживу твоей смерти!» – а сама – вот ведь молодец! – подала заявление добровольцем на фронт: «В эти дни, когда наша Родина в страшной опасности, я прошу вас тоже призвать меня в действующую армию – хочу внести свой посильный вклад в борьбу с проклятым фашизмом, могу быть хорошим переводчиком, ибо в совершенстве знаю немецкий…» – вместе писали. Семенов редактировал, потому что мать плохо говорит и пишет по-русски… «Молодец мать – настоящая коммунистка…»
117
Наконец-то Сима пришла! – и они вместе входят в семеновский подъезд, поднимаются на последний этаж – лифт не работает, – вылезают через пыльный захламленный чердак на крышу – Семенов в отряде противовоздушной обороны МПВО – и она пришла вместе с ним дежурить – тушить зажигательные бомбы, если упадут на их крышу…
118
О вершина тех роковых дней: поцелуи на крыше! Горячие, сладкие поцелуи на покатой железной крыше под открытым ночным небом – возле бочек с песком и с водой для тушения зажигалок – захватывающие дух поцелуи в зеленом и красном мерцании трассирующих пуль от черных теней «юнкерсов»…
119
И лучший друг тоже появляется на крыше – тоже пришел с Семеновым дежурить – ради дружбы – а может быть, для того чтобы с ней познакомиться? – «были два друга в нашем полку, пой песню, пой…» – что-то она так странно смотрит на друга – о чем они шепчутся?.. Трассирующие пули погасли – и «юнкерсов» нет – прогнали их наши ястребки – гудит сирена – отбой…