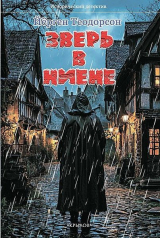
Текст книги "Зверь в Ниене"
Автор книги: Юрий Гаврюченков
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Столь же мощный, сколь и бескомпромиссный рассудок Артура идет дальше. Вдобавок к прежним сложностям беседа с Мэри повлечет за собой новые. Кончина Туи, как он теперь понимает, не положит конец его обманам. Ведь Мэри не должна узнать, что он долгих девять лет был влюблен в Джин. Не должен узнать этого и Кингсли. Говорят, мальчику еще труднее, чем девочке, примириться с предательством по отношению к матери.
Артур уже представляет, как выберет момент, как отрепетирует слова, как откашляется, чтобы получилось… как?.. как будто он сам не верит тому, что собирается произнести. «Мэри, дорогая, ты же помнишь, что сказала перед смертью мама? О возможности моего повторного брака. Так вот: должен тебе сообщить, что ее правота вскоре подтвердится».
И он услышит от себя такие слова? Если так, то когда? До конца года? Нет, конечно нет. В будущем году, через год? Через какой промежуток времени вдовцу прилично обрести новую любовь? Что думают на этот счет в обществе, ему известно, а что думают дети?.. и конкретно: его дети?
Затем он пытается предугадать вопросы Мэри. И кто же она, отец? Ах вот оно что: мисс Лекки. Я с ней познакомилась еще в детстве, правда? А потом где только мы с ней не сталкивались. И в конце концов она стала наезжать в «Подлесье». Я всегда считала, что ей пора замуж. Повезло тебе, что она до сих пор свободна. Сколько ей сейчас? Тридцать один? Да она уже вышла в тираж, ты не находишь, папочка? Удивительно, что никто на нее не польстился. А когда ты понял, что влюблен, отец?
Мэри больше не ребенок. Возможно, она и не собирается ловить отца на лжи, но заметит малейшую нестыковку в его рассказе. А вдруг он даст маху? Искусных лжецов Артур презирает: они строят свои чувства – и даже свои браки, – исходя из того, что им сойдет с рук, отделываются то полуправдой, то полновесным враньем. Артур всегда трубил детям о необходимости говорить правду; теперь ему предстоит выставить себя полнейшим лицемером. С улыбочкой, изображая смущенное удовольствие, разыгрывая удивление, он состряпает псевдоромантическую историю о том, как полюбил мисс Джин Лекки, и будет до конца своих дней пичкать этой выдумкой сына и дочь. Да еще будет просить домашних, чтобы его покрывали.
Джин. Из соображений приличия она не явилась на похороны; прислала свои соболезнования, а примерно через неделю Малькольм привез ее из Кроуборо. Встреча не задается с самого начала. Когда эти двое появляются в «Подлесье», Артур ловит себя на том, что не может обнять Джин в присутствии брата; вместо этого он инстинктивно целует ей руку. Жест получается неудачный, почти шутовской, отчего возникает общая неловкость. Джин – кто бы сомневался – держится безупречно, а сам он теряется. Когда Малькольм тактично просит разрешения осмотреть сад, Артур беспомощно озирается в поисках подсказки. Но от кого? От Туи, сидящей в постели со своим чайным сервизом на одну персону? Не зная, о чем говорить с Джин, Артур начинает оправдываться перед нею своей скорбью – и за возникшую неловкость, и за безучастную встречу. Он только рад, когда Малькольм возращается из своей надуманной садовой экспедиции. Вскоре брат с сестрой уезжают, и на душе у Артура становится совсем скверно.
Треугольник, внутри которого он так долго обитал – мучительно, зато надежно, – теперь сломан, и Артура пугает эта новая геометрия. Возвышенная скорбь уходит, и на него накатывает летаргия. Он бродит по угодьям «Подлесья», как будто их давным-давно распланировал кто-то чужой. Заходит проверить лошадей, но седлать не приказывает. Что ни день, посещает могилу жены и возвращается совершенно разбитым. Ему представляется, как она его утешает, заверяет, что всегда его любила, независимо ни от чего, и теперь прощает; но требовать этого от покойной как-то самонадеянно и эгоистично. Артур часами просиживает в кабинете, курит и разглядывает поблескивающие пустотелые кубки, полученные спортсменом и видным писателем. По сравнению с кончиной Туи эти безделицы лишены всякого смысла.
Всю переписку он оставляет на усмотрение Вуда. Секретарь давно научился имитировать его подпись, приветствия, обороты речи, даже мнения. Пусть некоторое время поживет в шкуре сэра Артура Конан Дойла – у реального носителя этого имени нет желания быть собой. Вуду позволено вскрывать любые послания, отправлять их в корзину или писать ответы.
Силы Артура на исходе; он почти ничего не ест. В такое время аппетит выглядел бы почти непристойностью. Ложась в постель, он не может заснуть. Никаких признаков болезни у него нет, только изнурительная слабость. Он обращается к старинному другу, врачу-консультанту Чарльзу Гиббсу, у которого наблюдается с момента возвращения из Южной Африки. Гиббс говорит, что находит у него все и ничего; другими словами, это нервы.
Однако нервами дело не ограничивается. У него разладился кишечник. Гиббс устанавливает это без труда, хотя помочь ничем не может. Должно быть, в Блумфонтейне или в вельде Артур подцепил какую-то инфекцию, и до поры до времени она дремала, поджидая ослабления организма. Гиббс прописывает снотворную микстуру. Но усыпить другую непобедимую бациллу, поразившую организм пациента, не представляется возможным: это бацилла вины.
Артур привык считать, что затяжная болезнь Туи хоть как-то подготовит его к неминуемому. Он привык считать, что скорбь и чувство вины, если уж они неизбежны, будут более острыми, определенными, конечными. Вместо этого они уподобились погоде или облакам, которые постоянно меняются по воле безымянных, неопознаваемых ветров.
Он знает, что должен подняться, но ничего не получается; да и зачем подниматься – разве лишь для того, чтобы снова лечь. Первым делом увековечить, сделать историческим фактом старую ложь о любви преданного мужа к Туи, затем создать и распространить новую ложь – как Джин подарила неожиданное утешение исстрадавшемуся сердцу вдовца. Одна мысль об этой новой лжи вызывает у него отвращение. По крайней мере, в апатии есть истина: обессилевший, страдающий животом, он влачится из комнаты в комнату и не вводит в заблуждение других. Хотя нет, почему же: другие приписывают его состояние исключительно скорби.
Он лицемер; он обманщик. В некотором смысле он всегда ощущал себя обманщиком, и чем известнее становился, тем больше. Его превозносят как выдающегося деятеля эпохи, но, хотя он и играет активную роль в современном мире, его сердцу здесь неуютно. Любой нормальный человек этой эпохи без малейших угрызений совести сделал бы Джин своей любовницей. Именно так поступают теперь мужчины, и, по его наблюдениям, даже в самых высоких сферах. Но его нравственная жизнь тяготеет к четырнадцатому веку. А его духовная жизнь? Конни причислила его к ранним христианам. Сам он предпочитает помещать себя в будущее. В двадцать первый век, в двадцать второй? Все зависит от того, как скоро дремлющее человечество проснется и научится использовать свои глаза.
А потом его рассудок, и без того уже опустившийся ниже некуда, и вовсе летит под откос. После девяти лет желания – и попыток скрывать свое желание – происходит невозможное: он свободен. Можно хоть завтра утром жениться на Джин и опасаться разве что пересудов деревенских моралистов. Но желание невозможного освящает само желание. Поскольку теперь невозможное стало возможным, где предел его желанию? Пока он этого знать не может. Как будто сердечная мышца от долгого перенапряжения начала крошиться, как резина.
Когда-то слышал он историю, рассказанную в мужской компании за портвейном, про одного женатого человека, который долгое время не расставался со своей любовницей. Женщина была с положением и вполне годилась ему в жены; она рассчитывала связать с ним свою судьбу, а он кормил ее обещаниями. В конце концов у него умерла жена, и в считаные недели вдовец чин по чину женился. Но не на любовнице: он взял в жены девушку из самых низов, с которой сошелся через пару дней после похорон. В ту пору Артур счел этого ловкача негодяем вдвойне: сначала в отношении жены, потом в отношении любовницы.
Теперь-то он понимает, как легко случаются подобные вещи. В болезненные месяцы после смерти Туи он почти не выходил в свет, а тех, с кем его знакомили, почти не запомнил. Но притом что он плохо разбирается в женщинах, некоторые представительницы противоположного пола делали попытки с ним заигрывать. Нет, это звучит пошло и несправедливо, но они посматривали на него как-то по-особому: знаменитый писатель, рыцарь королевства, с недавних пор вдовец. Ему не составляет труда представить, как ломается искрошенная резина, как простота юной девушки и даже благоухающая улыбка кокетки способны враз пронзить сердце, которое на время сделалось непроницаемым для многолетней тайной привязанности. Он может понять того двойного негодяя. И не просто понять, а увидеть преимущество его положения. Если ты позволяешь себе такую coup de foudre, то, по крайней мере, ставишь точку на лжи: тебе не придется выводить в свет свою давнюю любовь и выдавать ее за новую знакомую. Тебе не придется до конца дней лгать своим детям. Что же до твоей молодой жены, то ты будешь говорить: да, я знаю, она вас шокирует, она никогда не заменит того, что заменить невозможно, но она принесла чуть-чуть радости и утешения моему сердцу. Искомое прощение может быть получено не сразу, но в любом случае положение упростится.
Он опять встречается с Джин, один раз на людях и один раз наедине, и в обоих случаях неловкость никуда не исчезает. Он ждет, чтобы сердце его забилось вновь, – нет, он приказывает сердцу забиться вновь, а оно отказывается подчиняться приказу. Он так привык подчинять себе свои мысли, оказывать на них давление, направлять, куда ему требуется, что испытывает потрясение от невозможности проделать то же самое с нежными чувствами. Джин ничуть не подурнела, но ее прелесть не вызывает у него нормального отклика. Можно подумать, его сковала какая-то сердечная импотенция.
В прошлом Артур, чтобы облегчить эти муки, доводил себя до физического изнеможения; но сейчас его не привлекают ни верховая езда, ни боксерские поединки, ни крикет, ни теннис, ни гольф. Будь у него возможность перенестись в высокую, заснеженную альпийскую долину, ледяные ветры, глядишь, и развеяли бы затхлость, скопившуюся в его душе. Но, судя по всему, это несбыточно. Тот, кем он был прежде, Sportesmann, который приехал в Давос с норвежскими лыжами и пересек Фуркапасс вместе с братьями Брангер, давно исчез из поля зрения – не иначе как перебрался на противоположный склон горы.
Когда же наконец его рассудок перестает лететь под откос, когда утихает лихорадка ума и живота, он пытается расчистить место у себя в голове, приготовить крошечный пятачок для простых мыслей. Если человек не может решить, чем он хочет заняться, то ему нужно выяснить, чем ему следует заняться. Если желание недосягаемо, следуй долгу. Именно так он поступал с Туи, так должен поступить и с Джин. Все девять лет он любил ее с надеждой и без всякой надежды; такое чувство не может исчезнуть без следа; значит, нужно ждать его возвращения. А до той поры маневрировать, как на бескрайней Гримпенской трясине, где со всех сторон подступают подернутые ряской ямы и зловонные болота, которые грозят утянуть тебя вниз и поглотить навсегда. Чтобы выбрать там верный курс, требуется воспользоваться всем, чему ты научился до сих пор. Трясина подает тайные знаки: где пучки тростника, где воткнутые с дальним прицелом колья, призванные вывести новичка на твердую почву; то же самое происходит и с тем, кто потерял нравственные ориентиры. Тропа ведет туда, куда указывает честь. В последние годы честь не раз подсказывала ему, как поступить; теперь честь укажет, куда держать путь. Честь привязывает его к Джин, как привязывала к Туи. С такого расстояния он пока не может определить, будет ли по-настоящему счастлив снова, но твердо знает, что для него не может быть счастья там, где нет чести.
Дети в школе; дом притих; ветер срывает покровы с деревьев; ноябрь сменяется декабрем. Артур мало-помалу приходит в равновесие, как ему и предрекали. Как-то утром он заходит в кабинет Вуда просмотреть корреспонденцию. В среднем на его имя доставляют шестьдесят писем в день. За истекшие месяцы секретарю поневоле пришлось разработать такую систему: он сам отвечает на любые послания, с которыми можно разобраться моментально; те, которые требуют мнения или решения сэра Артура, откладываются на большой деревянный лоток. Если до конца недели его работодатель ни сердцем, ни нутром не собрался что-либо посоветовать, Вуд по мере возможностей освобождает лоток.
Сегодня поверх конвертов на лотке лежит мелкий пакет. Артур безразлично извлекает на свет его содержимое. Сопроводительное письмо подколото к пачке вырезок из газеты под названием «Арбитр». Он никогда о такой не слышал. Может, она как-то связана с крикетом? Да нет, розовый шрифт скорее выдает бульварный листок. Артур ищет глазами подпись. Это имя тоже ничего ему не говорит: Джордж Эдалджи.
Часть третья
Заканчивая началом
Артур и Джордж
Стоило Шерлоку Холмсу распутать самое первое дело, как со всех концов света посыпались просьбы и требования. Если где-то при таинственных обстоятельствах исчезали люди или ценности, если полиция оказывалась еще более несостоятельной, чем обычно, если не работало правосудие, то человеческий инстинкт, как можно было подумать, заставлял искать помощи у Холмса и его создателя. Сейчас почтовое ведомство автоматически ставит штамп «Адресат неизвестен» на те конверты, где значится только адрес: Бейкер-стрит, дом 221б, и отсылает их отправителю; так же поступают и с теми посланиями, которые адресованы сэру Артуру для Холмса. Альфред Вуд много лет не устает поражаться, как его хозяин одновременно и гордится, что сумел создать героя, в чье существование охотно верит публика, и досадует, когда эту веру доводят до логического завершения.
Есть еще воззвания, обращенные к сэру Артуру Конан Дойлу in propria persona и написанные с учетом того, что человек, которому хватает ума и хитрости придумывать такие запутанные фиктивные преступления, способен и распутывать преступления реальные. Если сэр Артур поражен или растроган, он может изредка ответить, хотя всегда отрицательно. Он объясняет, что из него такой же сыщик-консультант, как английский лучник четырнадцатого века или доблестный кавалерист наполеоновской армии.
Так что Вуд без особых надежд отложил досье Эдалджи. А вот поди ж ты: не прошло и часа, как сэр Артур вернулся в секретарский кабинет, разглагольствуя на ходу.
– Это же ясно как день, – твердит он. – На этом парне вины не больше, чем на твоей пишущей машинке. Нет, ты мне ответь, Вуди! Шутка. Дело о запертой комнате наоборот: закавыка не в том, как он вошел, а в том, как он вышел. Вопиющая несправедливость.
Давно уже Вуд не видел своего босса в таком негодовании.
– Прикажете написать ответ?
– Ответ? Ответом я не ограничусь. Я собираюсь разворошить осиное гнездо. Столкнуть кое-кого лбами. Они у меня попомнят тот день, когда допустили, чтобы это случилось с безвинным человеком.
Вуд еще плохо понимает, кто такие «они» и что значит «это», которое «случилось». В том письме он не заметил ничего (за исключением странной фамилии), что выделяло бы его из общего ряда жалоб на предполагаемые нарушения законности, с которыми сэру Артуру предлагают побороться в одиночку. Но в данный момент Вуда не заботят правые и виноватые в деле Эдалджи. Он лишь с облегчением отмечает, что за истекший час его патрон стряхнул, похоже, с себя вялость и уныние, от которых не мог избавиться долгие месяцы.
В сопроводительном письме Джордж объяснил свою аномальную ситуацию. Решение освободить его по особому распоряжению инициировал предыдущий министр внутренних дел, мистер Эйкерс-Дуглас, а довершил нынешний, мистер Герберт Гладстон; при этом ни тот ни другой не предложил официального обоснования своих решений. Обвинительный приговор Джорджу так и не был отменен, никаких извинений за лишение свободы ему не принесли. Некая газета, которую, безусловно, проинструктировал за тайным ланчем проныра-чиновник, беззастенчиво написала, что Министерство внутренних дел нисколько не сомневается в виновности заключенного, но выпустило его из тюрьмы, посчитав, что три года – достаточный срок за инкриминированное ему преступление. Сэр Реджинальд Харди, который назначил ему семь лет, слегка переусердствовал в защите чести Стаффордшира, а министр внутренних дел всего лишь корректирует его рвение.
В моральном плане это повергает Джорджа в отчаяние, а в практическом плане превращает его жизнь в ад. Считается он виновным или невиновным? Его освобождение – это извинение за несправедливый приговор или подтверждение приговора? Вплоть до отмены судебного решения он не сможет восстановиться в правах поверенного. Очевидно, Министерство внутренних дел ожидает, что от облегчения Джордж умолкнет и с благодарностью найдет себе другую стезю – желательно в колониях. Но нет, Джордж выжил в каторжной тюрьме исключительно в силу своих мыслей и надежд, направленных на возвращение к работе – как угодно, где угодно – в качестве адвоката-солиситора, и его сторонники, пройдя свой тернистый путь, тоже не намерены отступать. Один из знакомых мистера Йелвертона взял Джорджа к себе в контору на временное место письмоводителя, но это не выход. Выход способно предложить только Министерство внутренних дел.
На встречу с Джорджем Эдалджи в Гранд-отеле, что на Черинг-Кросс, Артур опаздывает: его задержали банковские дела. Сейчас он стремительно входит в вестибюль и озирается. Заметить ожидающего его человека несложно: метрах в сорока виднеется повернутое в профиль единственное темнокожее лицо; Артур готов подойти и извиниться, но что-то его удерживает. Наверное, неприлично разглядывать людей исподтишка, но не зря же Артур когда-то работал медрегистратором под началом доктора Джозефа Белла.
Итак, предварительный осмотр показывает, что человек, с которым Артуру предстоит познакомиться, невысокий, щуплый, восточного происхождения; коротко стриженные волосы расчесаны на косой пробор; носит очки, одет в хорошо подогнанный по фигуре неброский костюм провинциального солиситора. Конечно, все так, но это совсем не то что с ходу опознать полировщика-француза или сапожника-левшу. И все же Артур продолжает приглядываться – и возвращается в прошлое, но не в Эдинбург времен доктора Белла, а к годам своей собственной медицинской практики. Как и многие из присутствующих в вестибюле, Эдалджи отгородился газетой и высокими подлокотниками кресла. Однако сидит он не так, как остальные: газету держит неестественно близко, да к тому же как-то боком, склоняя голову под углом к газетной полосе. Доктор Дойл, некогда практиковавший в Саутси и на Девоншир-Плейс, уверенно ставит диагноз. Миопия, причем довольно серьезная. А если подумать, то, возможно, еще и астигматизм.
– Мистер Эдалджи.
Газета не выпадает из дрожащих от волнения рук, а тщательно складывается. Молодой человек не вскакивает, не бросается на шею своему возможному спасителю. Наоборот, поднимается он сдержанно, смотрит прямо в глаза сэру Артуру и протягивает руку. Такой человек не станет распинаться насчет Холмса. Учтивый, самостоятельный, он выжидает.
Они переходят в незанятый салон с письменными принадлежностями, и Артур получает возможность более пристально рассмотреть своего нового знакомца. Круглое лицо, полноватые губы, отчетливая ямочка на подбородке, чисто выбрит. Для человека, который отбыл три года в Льюисе и в Портленде, а до этого вел, не в пример многим, вполне домашнюю жизнь, этот не обнаруживает практически никаких признаков своих мытарств. Правда, короткие черные волосы тронуты сединой, но это придает ему вид мыслящего, интеллигентного человека. Такой вполне может быть действующим поверенным, но нет.
– Вам известны точные показатели вашей миопии? Шесть, семь диоптрий? Это, конечно, только мои догадки.
Первый же вопрос вызывает у Джорджа удивление. Из верхнего кармана он достает очки и протягивает Артуру. Артур их разглядывает, а потом переключает внимание на глаза, дефекты которых потребовали таких очков. Глаза слегка навыкате, они придают солиситору какой-то отсутствующий, но въедливый вид. Сэр Артур оценивает этого человека с позиций бывшего офтальмолога; но ко всему прочему он знаком с ложными выводами нравственного порядка, которые широкая публика склонна делать на основе особенностей органов зрения.
– К сожалению, даже не знаю, – говорит Джордж. – Очками я обзавелся совсем недавно и не уточнил их показатели. А иногда попросту забываю их дома.
– А в детстве обходились без них?
– Да, представьте. У меня всегда было слабое зрение, но когда меня показали одному бирмингемскому окулисту, он сказал, что ребенку очки лучше не прописывать. А потом… так сказать… времени не было. Зато когда я освободился, времени у меня, к сожалению, стало хоть отбавляй.
– Как вы и указали в письме. Итак, мистер Эда-а-ал-джи…
– Э-э-эдл-джи, с вашего позволения. – У Джорджа это вырывается машинально.
– Извините.
– Я привык. Но коль скоро такова моя фамилия… видите ли, во всех парсских фамилиях ударение на первом слоге.
Сэр Артур кивает.
– Вот что, мистер Эйдл-джи, я хочу направить вас к профессионалу, мистеру Кеннету Скотту; он принимает на Манчестер-Сквер.
– Как скажете. Вот только…
– За мой счет, разумеется.
– Сэр Артур, я не смогу…
– Сможете, и без труда. – Он произносит это негромко, и Джордж впервые улавливает раскатистое шотландское «р». – Вы же не нанимаете меня в качестве сыщика, мистер Эдалджи. Я просто предлагаю… предлагаю свою помощь. И когда мы добьемся для вас не только полного оправдания, но и солидной компенсации за незаконное лишение свободы, я, возможно, перешлю вам счет мистера Скотта. А может быть, и нет.
– Сэр Артур, когда я взялся вам писать, у меня и в мыслях не было…
– У меня, когда я получил ваше письмо, тоже. Но так сложилось. Вот и все.
– Денежная компенсация не играет первостепенной роли. Мне важно вернуть свое доброе имя. Мне, как солиситору, важно восстановить себя в профессиональных правах. На большее я не претендую. Лишь бы мне было позволено практиковать. Жить спокойно, приносить пользу. Вести нормальную жизнь.
– Разумеется. Но в одном я с вами не соглашусь. Деньги очень важны. Не просто в качестве компенсации за три года вашей жизни. А в качестве некоего символа. Британцы уважают деньги. Если с вас снимут все обвинения, общественность будет знать, что вас оправдали. Но если вам еще и заплатят, общественность будет знать, что вас оправдали целиком и полностью. А это отнюдь не одно и то же. Кроме того, денежная выплата будет означать, что вы оказались в тюрьме только из-за преступного бездействия Министерства внутренних дел.
Обдумывая его аргумент, Джордж медленно кивает. На сэра Артура этот молодой человек произвел большое впечатление. У него, похоже, уравновешенный и пытливый ум. От матери-шотландки или от священника-отца? Или от этого благоприятного сочетания?
– Сэр Артур, позвольте спросить: вы христианин?
Теперь настал черед Артура удивляться. Не желая обидеть пасторского сына, он отвечает вопросом на вопрос:
– А что?
– Как вам известно, я воспитывался в доме викария. К родителям отношусь с любовью и уважением; в юности я, конечно же, разделял их веру. Могло ли быть иначе? Из меня самого никогда бы не вышло священника, но я воспринял библейское учение как руководство к праведной и достойной жизни. – Он смотрит на сэра Артура, дабы увидеть его отклик; поощрением ему служит благожелательный взгляд и наклон головы. – Лучшего руководства я не знаю по сей день. И считаю, что законы Англии – это лучшее руководство к праведной и достойной жизни для общества в целом. Но потом начались мои… мои мытарства. Поначалу мне думалось, что это печальный пример некомпетентного отправления правосудия. Пусть даже полиция допустила ошибку – ее исправят мировые судьи. Пусть мировые судьи допустили ошибку – ее исправит уголовный суд квартальных сессий. Пусть суд квартальных сессий допустил ошибку – ее исправит Министерство внутренних дел. Это цепочка может причинить большие страдания и, мягко говоря, неудобства, но в ходе отправления правосудия справедливость в конечном итоге восторжествует. В это я верил и верю по сей день. Однако все оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Я всегда жил в рамках законности, то есть считал закон своим руководством к действию, а христианство давало мне моральную поддержку. В свою очередь, для моего отца… – Тут Джордж делает паузу, но, как подозревает Артур, не потому, что не знает, как продолжить, а потому, что продолжение давит на него тяжким бременем чувств. – Мой отец живет всецело в рамках христианства. Как нетрудно догадаться. В этом смысле мои мытарства для него вполне понятны. Для него существует… должно существовать… религиозное оправдание моих страданий. По его мнению, Божий промысел направлен на то, чтобы укрепить мою веру и показать пример другим. Неловко произносить это вслух, но он считает меня мучеником. Мой отец – человек преклонного возраста, силы его на исходе. Не хотелось бы с ним спорить. В Льюисе и Портленде я, конечно же, посещал часовню. До сих пор каждое воскресенье хожу в церковь. Но не рискну утверждать, будто тюрьма укрепила мою веру, да и мой отец… – на его лице появляется осторожная ироническая улыбка, – вряд ли сможет похвалиться, что за последние три года в церкви Святого Марка и в окрестных храмах увеличилось число прихожан.
Сэр Артур размышляет над странной помпезностью этих вступительных речей – они, как может показаться, отрепетированы, причем слишком усердно. Нет, строго судить не следует. Чем еще занимать себя человеку в ходе трехлетнего заключения, как не переосмысливать свою жизнь – эту запутанную, только начавшуюся, не до конца понятую жизнь, – чтобы придать ей сходство со свидетельским заявлением?
– Ваш отец, надо полагать, сказал бы, что мученики не выбирают свою судьбу и, быть может, даже не понимают сути происходящего.
– Возможно. Но то, что я сейчас сказал, – это даже не вся правда. Тюремное заключение не укрепило мою веру. Наоборот. Тюрьма, как мне кажется, ее разрушила. Мои страдания оказались совершенно бессмысленны как для меня лично, так и в качестве назидания другим. Но когда я сообщил отцу о вашем согласии на эту встречу, он ответил, что это все – наглядное проявление Божьего Промысла в этом мире. Вот потому-то, сэр Артур, я и спросил, христианин ли вы.
– На доводы вашего отца это все равно бы не повлияло. Понятно, что Господь может выбрать своим инструментом хоть христианина, хоть язычника.
– Верно. Только вам совсем не обязательно меня щадить.
– Совсем не обязательно. И вы увидите, мистер Эдалджи, я не сторонник околичностей. До меня не доходит, каким боком ваше пребывание в двух тюрьмах, лишение профессии, потеря своего места в обществе могут быть угодны Господу.
– Поймите, мой отец считает, что нынешний век принесет с собой более гармоничное единение рас, чем век минувший, – таков Божий Промысел, и мне выпало стать, если можно так выразиться, его посланником. Или жертвой. Или и тем и другим.
– Не имея в виду критиковать вашего отца, – Артур тщательно выбирает слова, – я бы сказал, что для демонстрации Божьего Промысла было бы куда полезнее, если бы вы сделали блестящую карьеру поверенного и таким образом показали пример стирания расовых границ.
– Вы мыслите так же, как и я, – отвечает Джордж.
Артуру нравится этот ответ. Другие сказали бы: «Я с вами согласен». Но в словах Джорджа нет самодовольства. Они лишь доказывают, что Артур подтвердил его мысли.
– Впрочем, я согласен с вашим отцом, что новый век способен вызвать к жизни небывалый прогресс духовной природы человека. Более того, я считаю, что к началу третьего тысячелетия официальные конфессии сдадут свои позиции, а вызванные их обособленностью войны и разногласия прекратятся.
Джордж собирается возразить, что его отец имеет в виду совершенно другое, но сэр Артур настойчиво продолжает:
– Человечество вплотную приблизилось к открытию истинности парапсихологических законов, подобно тому как на протяжении веков оно открывало истинность физических законов. Когда эта истинность станет общепризнанной, весь ход нашей жизни – и смерти – придется переосмыслить, начиная с основополагающих принципов. Диапазон нашей веры расширится, а не сузится. Мы более глубоко поймем жизненные процессы. Мы поймем, что смерть – это не дверь, захлопнутая у нас перед носом, а дверь, оставленная приоткрытой. И к началу нового тысячелетия мы найдем в себе больше способностей к счастью и товариществу, чем за всю историю жалкого подчас существования человечества. – Тут он, пламенный уличный оратор, спохватывается: – Прошу прощения. Оседлал любимого конька. Нет, это нечто большее. Но вы сами спросили.
– У вас нет причин извиняться.
– Нет, есть. Я увел нас от основной темы. К делу. Можно спросить: вы кого-нибудь подозреваете в совершении это преступления?
– Которого?
– Всех. Эта травля. Подметные письма. Нанесение резаных ран – не только шахтерскому пони, но и другим животным.
– Если честно, сэр Артур, за последние три года я и мои сторонники больше занимались поисками доказательств моей невиновности, нежели чужой вины.
– Резонно. Только одно неизбежно связано с другим. Итак, вы кого-нибудь подозреваете?
– Нет. Никого. Все совершалось анонимно. А кроме того, я не могу представить, чтобы кому-то нравилось калечить животных.
– В Грейт-Уэрли у вас были враги?
– Вероятно. Только невидимые. У меня там знакомых мало, что друзей, что недругов. Мы держались в стороне от местного общества.
– Почему?
– Я лишь недавно стал догадываться почему. В детстве я считал, что так и должно быть. Если честно, мои родители жили очень небогато; все деньги они тратили на образование детей. Я ничуть не переживал, что другие ребята не зовут меня в гости. Полагаю, у меня было счастливое детство.
– Да. – (Услышанное не похоже на полный ответ.) – Но смею предположить, с учетом происхождения вашего отца…
– Сэр Артур, должен сразу заявить: я не считаю, что в моем случае хоть какую-то роль сыграла расовая неприязнь.
– Надо признаться, вы меня удивляете.
– Отец считает, что, будь я, к примеру, сыном капитана Энсона, я бы пострадал куда меньше. Это безусловно так. Но с моей точки зрения, в этом деле есть ложный след. Сомневаетесь – приезжайте в Уэрли и спросите деревенских жителей, верят они мне или нет. Если расовые предрассудки и существуют, они свойственны лишь очень небольшой части населения. Время от времени случаются мелкие эксцессы, но какого человека они не касались в той или иной форме?








