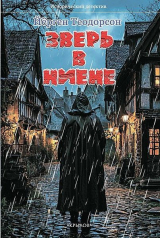
Текст книги "Зверь в Ниене"
Автор книги: Юрий Гаврюченков
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– Да, но это односторонне, это еще не знание, это еще не доказательство.
– Женщины зачастую доказывают свою любовь так, как повелось испокон веку.
Артур быстро косится на мать, но та решительно смотрит перед собой. Ему виден только изгиб капора и кончик носа.
– Но и это не доказательство. А просто желание внешнего проявления. Сделай я Джин своей любовницей, это еще не означало бы, что мы любим друг друга.
– Согласна.
– Возможно, это доказало бы обратное: что наша любовь идет на убыль. Порой создается впечатление, что честь и бесчестье стоят очень близко, ближе, чем я мог себе представить.
– Я никогда тебе не внушала, что путь чести легок. Иначе ей была бы грош цена. Да и вообще доказательства вряд ли возможны. Видимо, лучшее, что мы можем для себя выбрать, – это предполагать и верить. А подлинное знание, по всей вероятности, придет к нам только в другой жизни.
– Доказательство, как правило, сводится к действию. Наша уникальность и наше проклятье заключаются в том, что доказательство сводится для нас к бездействию. Наша любовь стоит особняком, отгорожена от мира и ему неведома. Для мира она незрима и неощутима, тогда как для меня, для нас вполне отчетлива: и зрима, и ощутима. Вероятно, существует она не в вакууме, а на такой территории, где по-другому дышится: быть может, легче, а быть может, тяжелее, я и сам не могу разобраться. И эта территория лежит вне времени. Так было всегда, с самого начала. Это мы признали сразу. Что нам выпала редкостная любовь, которая меня… нас… всецело поддерживает.
– И все же?..
– И все же. Не смею даже озвучить эту мысль. Она посещает меня в самые мрачные минуты. Я невольно задаюсь вопросом… невольно задаюсь вопросом: а вдруг наша любовь, вопреки тому, что мне кажется, вовсе не лежит вне времени? Вдруг все, во что я верил, ошибочно? Вдруг никакой уникальности в наших отношениях нет, а если и есть, так заключается она лишь в том, что они не преданы гласности и… не освящены? А вдруг после смерти Туи, когда мы с Джин будем свободны и любовь наша сможет наконец быть предана гласности, узаконена и явлена миру, вдруг в эту минуту я обнаружу, что время исподволь делало свое дело, а я просто не замечал, как оно вгрызается, подтачивает, подрывает? Вдруг в эту минуту я обнаружу… мы обнаружим, что я не люблю ее так, как мне думалось, и она тоже не любит меня так, как ей думалось? Что тогда делать? Как быть?
Матушка благоразумно не дает ответа.
С матушкой Артур делится всем: глубинными страхами, возвышенными эмоциями, а также разнообразными промежуточными треволнениями и радостями материального мира. И лишь об одном он не может даже заикнуться: о своем растущем интересе к спиритуализму или, как он предпочитает говорить, спиритизму. Матушка, оставив позади католический Эдинбург, перешла в англиканскую веру – просто явочным порядком. Трое из ее детей венчались в церкви Святого Освальда: сам Артур, Ида и Додо. Мир психических явлений она инстинктивно отторгает как воплощение анархии и шаманства. Утверждает, что люди только в том случае могут прийти хоть к какому-то осознанию жизни, если общество донесет до них свои истины; и далее: что религиозные истины должны выражаться через посредство официальных институтов – не важно, католических или англиканских. Нельзя забывать и о роли семьи. Артур – защитник королевства; он обедает и ужинает с королем, он публичная фигура; здесь матушка ссылается на его собственную похвальбу, что по степени влияния на здоровых, спортивных молодых сограждан он, дескать, уступает только Киплингу. А вдруг всплывет, что он посещает сеансы и все такое прочее? Это же зарубит на корню все его шансы на причисление к сословию пэров.
Напрасно он пытается пересказать ей свою беседу с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Матушка, безусловно, должна признать, что Лодж – абсолютно здравомыслящий индивидуум с высокой научной репутацией: не зря же его назначили ректором вновь открытого Бирмингемского университета. Но матушка стоит на своем, наотрез отказываясь потакать сыну.
С Туи он и вовсе не касается этой темы, дабы не нарушать ее сверхъестественного спокойствия. В вопросах веры жена, как ему известно, простодушно доверчива. Она полагает, что после смерти отправится на небо, сущность которого описать не в силах, и будет пребывать там в таком состоянии, которое не способна даже вообразить, до той поры, покуда к ней не присоединится Артур; за ним в своей черед последуют дети, и все они будут жить вместе – примерно как в Саутси, только более возвышенно. По мнению Артура, лишать ее этих иллюзий нечестно.
Но еще тягостней ему оттого, что он не может поговорить с Джин, – ему хочется делиться с нею всем, от последней запонки до последней точки с запятой. Он пытался, но Джин с подозрением – а может, со страхом – относится ко всему, что касается паранормального мира. Более того, свое неприятие она выражает, по мнению Артура, совершенно нехарактерным для ее любящей натуры способом.
Как-то раз он с осторожностью, сознательно подавляя свой энтузиазм, заводит рассказ о посещении сеанса. Ее милые черты тут же искажаются крайним неодобрением.
– Что такое, дорогая моя?
– Артур, – говорит она, – это люди не нашего круга.
– Кто?
– Да все эти люди. Цыганки, которые в ярмарочных шатрах гадают на картах и кофейной гуще. Они всего лишь… простолюдины.
Артур не приемлет такого снобизма, в особенности исходящего от его любимой. На языке у него вертится, что лучшие представители нижних слоев среднего класса всегда были духовными ориентирами нации: взять хотя бы пуритан, которых, разумеется, многие недооценивают. На языке у него вертится, что по берегам Галилейского моря немало было таких, которые считали Господа нашего Иисуса Христа в некоторой степени простолюдином. Апостолы, как и большинство медиумов, не могли похвастаться книжной ученостью. Естественно, об этом Артур помалкивает. Устыдившись своего внезапного раздражения, он меняет тему.
Значит, единомышленников надо искать за пределами железного треугольника. К Лотти он даже не обращается: не хочет рисковать ее расположением, тем более что она помогает ухаживать за Туи. Вместо это он идет к Конни. К той самой Конни, которая, по его ощущениям, буквально вчера носила толстую, как корабельный канат, косу и разбивала мужские сердца на европейском континенте; к той самой Конни, которая чересчур прочно утвердилась в роли кенсингтонской мамаши и, более того, посмела осуждать его на стадионе «Лордз». Для себя Артур так и не решил, повлияла Конни на мнение Хорнунга или это он заставил Конни передумать, но при любом раскладе позиция ее достойна восхищения.
Однажды он наведывается к сестре в отсутствие Хорнунга; она велит подать чай в маленькую верхнюю гостиную, где когда-то выслушивала его признания о Джин. Подумать только: его сестренке уже даже не тридцать, а ближе к сорока. Впрочем, возраст ее не портит. Чуть менее эффектная, она теперь округлилась, но по-прежнему светится здоровьем и добродушием. Джером не так уж сильно ошибся, когда в Норвегии назвал ее Брунгильдой. Создается впечатление, что с годами она еще более окрепла в стремлении уравновесить недуг Хорнунга.
– Конни, – мягко начинает он, – ты никогда не задумываешься, что происходит с нами после смерти?
Она пристально смотрит на брата. Состояние Туи ухудшилось? Маменька захворала?
– Это отвлеченный вопрос, – добавляет Артур, уловив ее тревогу.
– Нет, не задумываюсь, – отвечает она. – Разве что самую малость. Меня тревожит, что могут умереть мои близкие. А о себе я не тревожусь. Когда-то, наверное, тревожилась, но материнство многое изменяет. Я верю в учение Христа. Моей Церкви. Нашей Церкви. Той, от которой вы с матушкой отошли. А на иные верования у меня нет времени.
– Ты боишься умереть?
Конни задумывается. Она боится смерти Уилли (еще до свадьбы она знала, что у него тяжелая форма астмы и он всегда будет слаб здоровьем), но страшит ее то, что его не станет, что его не будет рядом.
– Эта перспектива меня не прельщает, – говорит она. – Только зачем переживать раньше времени? Или ты клонишь к чему-то другому?
Артур коротко мотает головой.
– Значит, твою позицию можно обозначить как «поживем – увидим»?
– В общем, да. А что?
– Милая Конни… твое отношение к вечности – сугубо английское.
– Странная мысль.
Конни улыбается; похоже, уходить от разговора она не намерена. И все равно Артур не знает, как начать.
– В Стонихерсте у меня был друг по фамилии Партридж. На класс младше меня. Отличный принимающий в крикете. Любил втягивать меня в богословские диспуты. Выбирал наименее логичные церковные доктрины и просил меня их обосновать.
– Значит, он был атеистом?
– Вовсе нет. Истовый католик – мне до него далеко. Но он хотел внушить мне церковные истины путем их опровержения. Оказалось, что это не самая действенная тактика.
– Интересно, какая судьба постигла этого Патриджа.
Ее брат улыбается.
– Представь, он второй карикатурист в журнале «Панч».
Артур делает паузу. Нет, надо переходить к делу. Как он привык.
– Многие люди, Конни… большинство… страшатся смерти. В этом смысле они не похожи на тебя. Но сходятся с тобой в своих английских убеждениях. «Поживем – увидим», «не будем переживать раньше времени». Но разве страх от этого развеивается? Разве неизвестность его не усугубляет? И зачем жить, если не знать, что с тобой будет потом? Как осмыслить начало, если не знать, каков будет конец?
Конни так и не поняла, к чему он клонит. Она любит своего щедрого, шумного великана-брата. Считает, что он воплощает собой шотландскую практичность, освещаемую внезапными вспышками огня.
– Как я уже сказала, я верю в учение моей Церкви, – отвечает она. – И не вижу альтернативы. Кроме атеизма, который пуст, навевает невыразимое уныние и ведет к социализму.
– А что ты думаешь о спиритизме?
Она знает, что Артур уже не один год как приохотился к паранормальным явлениям. У него за спиной об этом поговаривают то намеками, то в открытую.
– Я, можно сказать, ему не доверяю, Артур.
– Почему? – Он надеется, что Конни хотя бы не проявит снобизм.
– Потому, что мне видится в нем фальсификация.
– Ты права, – к ее удивлению, отвечает он. – В значительной степени так и есть. Ложные пророки превосходят числом истинных – таких, каким был сам Иисус Христос. В спиритизме есть и фальсификация, и трюкачество, даже напористый криминал. Воду мутят весьма сомнительные личности. К сожалению, среди них затесались и женщины.
– Значит, я не ошиблась.
– И достойного описания он пока не нашел. У меня временами создается впечатление, что мир делится на тех, кто причастен к паранормальным явлениям, но не владеет пером, и на тех, кто владеет пером, но не причастен к паранормальным явлениям.
Конни не отвечает; ей не нравится логический вывод из этой сентенции, который сидит перед ней, не притронувшись к чаю.
– Но я сказал «в значительной степени», Конни. В значительной степени это фальсификация. Разве мы, оказавшись на золотом прииске, увидим только золото? Нет. В значительной степени – большей частью – мы увидим там пустую породу. А золото еще нужно поискать.
– Меня не убеждают метафоры, Артур.
– Меня тоже. Меня тоже. Потому-то меня и не убеждает вера – самая большая метафора. Я могу работать только с чистым и прозрачным светом знания.
Конни озадачена.
– Смысл исследования паранормальных явлений, – объясняет он, – сводится к устранению и разоблачению обмана и фальсификации. Остаться должно лишь то, чему есть научное подтверждение. Если устранить невозможное, то в остатке, скорее всего, будет пусть невероятная, но истина. Спиритизм не просит тебя совершать прыжок в темноту или переживать раньше времени.
– Выходит, он сродни теософии? – Конни почти исчерпала запасы своих знаний.
– Нет. Теософия по большому счету просто другая вера. Как я уже сказал, от веры я отошел.
– А как же рай и ад?
– Вспомни, как учила нас матушка: «К телу носи фланель, – наставляла она, – и не верь в муки ада».
– Значит, всем одна дорога – в рай? И грешникам, и праведникам? В чем же тогда стимул…
Артур не дает ей договорить. Он словно вернулся в юность и ведет споры насчет «тулия».
– Наши духи не обязательно успокаиваются с нашей смертью.
– А в Бога и в Иисуса ты не веришь?
– Верю. Но не в того Бога и не в того Иисуса, которыми на протяжении веков прикрывалась Церковь, порочная и духовно, и интеллектуально. И требующая от своих приверженцев отказа от мыслительной деятельности.
Конни сбита с толку и хочет обидеться.
– Так в какого же Иисуса ты веришь?
– Если внимательно посмотреть, что на самом деле сказано в Библии, если отрешиться от изменений и ошибочных интерпретаций, внесенных в текст по воле господствующих религий, то станет предельно ясно, что Иисус не кто иной, как прекрасно обученный экстрасенс или медиум. Апостолы ближнего круга, в особенности Петр, Иаков и Иоанн, явно были отобраны на основании своих спиритических талантов. Библейские «чудеса» – это всего лишь… нет, не всего лишь, а целиком и полностью примеры паранормальных способностей Иисуса.
– И воскрешение Лазаря? И насыщение пяти тысяч?
– Есть медиумы-целители, которые заявляют о своей способности видеть сквозь телесную оболочку. Есть аппорт-медиумы, которые заявляют о своей способности перемещать предметы в пространстве и времени. Существует Пентикостия, когда произошло сошествие Святого духа и все заговорили на язы́ках. Если это не сеанс, то что же? Это самое точное описание спиритического сеанса, какое мне только доводилось читать!
– Значит, ты обратился в раннехристианство, Артур?
– Не говоря уже о Жанне д’Арк. Она точно была великим медиумом.
– Неужто и она?
Артур подозревает, что сестра над ним посмеивается, – это было бы в ее характере; но так ему даже проще давать объяснения.
– Посмотри на это с другой стороны, Конни. Вообрази сотню медиумов, которые одновременно взялись за дело. Вообрази, что девяносто девять из них – мошенники. Значит, один – подлинный, верно? А если один – подлинный, то направляемые сквозь него паранормальные явления аутентичны, что и требовалось доказать. Мы должны получить всего одно доказательство – и оно будет справедливо для всех и на все времена.
– Доказательство чего? – Конни озадачило это внезапное «мы».
– Доказательство жизни духа после смерти. Всего один случай – и он станет доказательством для всего человечества. Позволь, я расскажу тебе историю, которая произошла двадцать лет назад в Мельбурне. В свое время она была тщательно документирована. Двое юных братьев отправились кататься на лодке по заливу. У румпеля стоял опытный матрос. Погода благоприятствовала морской прогулке, но они не вернулись. Отец этих юношей был спиритуалистом, и по прошествии двух суток он вызвал известного телепата, то есть медиума. Тот попросил какие-нибудь личные вещи братьев и посредством психометрии восстановил их перемещения. Остановился он на том, что их лодка в беде и в ней царит смятение. Казалось, больше они не вернутся. По глазам вижу, Конни: ты думаешь, что и без всякого медиума сказала бы то же самое. Но имей терпение. Еще через двое суток был устроен новый сеанс с тем же медиумом, и юноши, обученные спиритуалистским практикам, явились тотчас же. Извинившись перед матерью, которая не хотела отпускать их на ту морскую прогулку, они поведали, как лодка перевернулась и в воде их настигла смерть. Братья доложили, что сейчас пребывают в состоянии счастья, как и обещало учение их отца. Они даже привели с собой погибшего вместе с ними матроса, чтобы тот сказал несколько слов. Перед завершением контакта один из юношей поведал, как его брату откусила руку какая-то рыба. Медиум уточнил: акула? Но паренек ответил, что таких акул он не видывал. Заметь, все это было записано по горячим следам, и кое-какие отрывки даже публиковались в газетах. А теперь слушай продолжение. Через пару недель примерно в тридцати милях от тех мест выловили большую глубоководную акулу редкого вида, незнакомого поймавшим ее морякам и не встречавшегося дотоле в прибрежных водах Мельбурна. Во чреве у нее нашли кость человеческой руки. А также часы, несколько монет и другие предметы, принадлежавшие одному из братьев. – Артур выдерживает паузу. – Ну, каково твое мнение, Конни?
Некоторое время Конни размышляет. Ее мнение таково: брат путает религию с тягой к порядку. Видя тайну – смерть, – он стремится ее разгадать: это у него в крови. А кроме того, она считает, что спиритуализм Артура связан (хотя она пока не знает, как именно) с его романтичностью, любовью к рыцарственности и верой в золотой век. Но свои возражения она сводит к минимуму.
– По моему мнению, дорогой брат, это превосходный рассказ, а ты, как нам всем известно, превосходный рассказчик. Но, по моему мнению, двадцать лет назад в Мельбурне меня не было и тебя тоже.
Артур не возражает против этой отповеди.
– Конни, ты великая рационалистка, а отсюда один шаг до спиритизма.
– Вряд ли тебе удастся обратить меня в свою веру, Артур.
Его рассказ напомнил ей слегка измененную историю Ионы во чреве китовом, с той лишь разницей, что жертвам повезло меньше, но строить на ней какие бы то ни было убеждения – это такой же акт веры, как для первых слушателей истории про Иону. В Библии хотя бы предлагается метафора. Артур метафоры не любит, а потому он видит здесь притчу и толкует ее буквально. Это все равно что толковать притчу про овсы и плевелы как агрономическую рекомендацию.
– Конни, а вдруг человек, которого ты знаешь и любишь, умрет. После чего вступит с тобой в контакт, заговорит, сообщит нечто такое, что могла знать ты одна, какую-нибудь интимную подробность, которую никакое мошенничество не способно вытащить на свет?
– Я думаю, Артур, что не стоит опережать события.
– Конни, эх ты, англичанка Конни. Поживем – увидим, поживем – увидим, что получится. А я – всецело за то, чтобы действовать прямо сейчас.
– Ты всегда был таким, Артур.
– Мы сделаемся объектом насмешек. Наше дело грандиозно, однако битва будет неправедной. Готовься к тому, что твоего брата начнут вышучивать. И всегда помни: нам достаточно одного случая. Один случай – это и будет доказательство. Доказательство, не оставляющее сомнений. Доказательство, не допускающее научного опровержения. Подумай над этим, Конни.
– Артур, чай остыл.
А годы идут. Вот десять лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и шесть – как он встретил Джин. Вот одиннадцать лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и семь – как он встретил Джин. Вот двенадцать лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и восемь – как он встретил Джин. Туи по-прежнему бодра, не мучается болью и, по убеждению Артура, ничего не знает об окружающем ее благородном заговоре. Джин по-прежнему живет в съемной квартире, занимается вокалом, увлекается псовой охотой, наезжает с компанией в «Подлесье» и одна – в Мейсонгилл; она ни на что не жалуется, повторяя, что у нее есть все, о чем только можно мечтать; и так год за годом уходит пора ее несостоявшегося счастливого материнства. Опорой Артура, его конфиданткой и утешительницей остается матушка. Все по-прежнему. Наверное, так оно будет и дальше, если только сердце Артура однажды не переполнится до такой степени, что взорвется и умолкнет навек. Выхода нет, и в этом весь ужас его положения; или, точнее сказать, любой из возможных выходов помечен надписью «Страдание». В «Учебнике шахматной игры» Эмануила Ласкера он прочел, что такое цугцванг: это положение, в котором любой ход ведет к ухудшению и без того неблагоприятной позиции. Вот так Артур ощущает свою жизнь.
Но если посмотреть со стороны, он баловень судьбы. Мастер своего дела, дружен с королем, защитник империи, заместитель лейтенанта в Суррее. Всегда на виду. Как-то раз его пригласили в жюри конкурса силачей, который организовал в Альберт-Холле мистер Сэндоу, тоже силач. Артур и скульптор Лоус – консультанты, сам Сэндоу – судья. Восемьдесят спортсменов партиями по десять человек демонстрируют переполненному залу свои мускулы. Число трещащих по швам леопардовых шкур с восьмидесяти уменьшается сперва до двадцати четырех, затем до двенадцати, до шести и, наконец, до финальной тройки. Финалисты – все прекрасные экземпляры, но один коротковат, другой слегка неуклюж, а потому титул вместе с ценной золотой статуэткой присуждается атлету из Ланкашира по фамилии Мюррей. А для судей и ряда избранных, в свою очередь, предусмотрено поощрение в виде позднего ужина с шампанским. Оказавшись на ночной улице, Артур замечает, что перед ним, небрежно сжимая под мышкой статуэтку, шагает Мюррей. Сэр Артур нагоняет его, и дальше они идут вместе; Артур поздравляет его повторно и, видя, что Мюррей совсем простой деревенский парень, спрашивает, где тот собирается заночевать. Мюррей признается, что в карманах у него, не считая обратного билета до Блэкберна, хоть шаром покати, а потому он собирается до рассвета бродить по пустынным улицам, чтобы потом сразу сесть в поезд. Итак, Артур ведет Мюррея в гостиницу «Морли» и дает указания персоналу отнестись к этому гостю со всем вниманием. Наутро Артур приходит в гостиницу и видит, как Мюррей, развалившись на кровати, витийствует перед горничными и официантами, а рядом, на подушке, поблескивает его награда. Все это выглядит как счастливый финал, однако в памяти у сэра Артура остается другой образ. Образ человека, одиноко бредущего впереди; человека, который выиграл приз и сорвал аплодисменты; человека без гроша в кармане, собиравшегося одиноко бродить до рассвета с золотой статуэткой под мышкой.
Далее, есть третья жизнь – жизнь Конан Дойла, и в ней тоже все благополучно. В силу его профессионализма и бодрости духа любой творческий кризис проходит через пару дней. Артур задумывает сюжет, собирает необходимый материал, планирует книгу – и пишет. В этой жизни он полностью осознает писательские заповеди: во-первых, книга должна быть понятной, во-вторых – увлекательной и, в-третьих – умной. Он знает свои возможности, как знает и то, что в конечном счете все правила диктует читатель. Потому-то Артур и возродил мистера Шерлока Холмса, позволив ему спастись после падения в Рейхенбахский водопад и одарив знанием секретных японских боевых искусств, а также умением карабкаться по отвесным скалам. Если американцы настаивают на пяти тысячах долларов за каких-то полдесятка новых рассказов – и всего лишь в обмен на право публикации у них в стране, – тогда доктору Конан Дойлу не остается ничего другого, кроме как, подняв руки, сдаться и на все обозримое будущее приковать себя наручниками к детективу-консультанту Холмсу. Кроме того, приятель Шерлок обеспечил Артуру и другие преимущества: например, Эдинбургский университет присудил ему звание почетного доктора литературы. Пусть ему не суждено стать вровень с Киплингом, но, шествуя на параде по улицам родного города, Артур чувствовал себя в профессорской мантии совершенно свободно; надо признать, более свободно, чем в странной форме заместителя лейтенанта Суррея.
Наконец, есть жизнь четвертая – здесь он не Артур, не сэр Артур, не доктор Конан Дойл; в этой жизни имя не имеет значения, как не имеют значения внешность, богатство, должность и прочая видимость и мишура. Четвертая жизнь лежит в мире духовного. Чувство, что он рожден для чего-то иного, крепнет с каждым годом. Жить с этим непросто; и дальше будет не легче. Даже обращение в какую-нибудь из существующих религий – совсем другое дело. Нет, здесь нечто новое, рискованное, но крайне важное. Подайся ты в индуизм, общество скорее увидит в этом эксцентричную выходку, нежели умопомрачение. Но если ты решил посвятить себя спиритизму, то приготовься терпеть все плоские остроты и парадоксы, которыми неизменно пичкает своих читателей пресса. Однако кто они, эти насмешники, циники и щелкоперы, в сравнении с такими столпами, как Крукс, Мейерс, Лодж и Афред Рассел Уоллес?
Наука нынче правит бал; она и посрамит глумливцев, как бывает всегда. Разве прежде кто-нибудь поверил бы в существование радиоволн? Рентгеновских лучей? Аргона, гелия и ксенона, открытых за последние годы? Незримые, неосязаемые, они скрываются под поверхностью реального, под самой оболочкой вещей и все явственнее делаются зримыми и осязаемыми. Наконец-то мир и его полуслепое население учатся видеть.
Взять, к примеру, Крукса. Как говорит Крукс? «Невероятно, но факт». Ученый, чьи труды в области физики и химии вызывают всеобщее восхищение своей точностью и объективностью. Ученый, который открыл таллий и посвятил не один год исследованию свойств разреженных газов и редкоземельных элементов. Кто мог бы лучше его высказаться об этом равно разреженном мире, об этой новой территории, недоступной притупленному разуму и скованному духу? Невероятно, но факт.
А потом умирает Туи. Тринадцать лет минуло с тех пор, как она заболела, и девять – с тех пор, как он встретил Джин. Теперь, весной тысяча девятьсот шестого, у жены Артура начинаются периоды легкого помрачения рассудка. К ней срочно вызван сэр Дуглас Пауэлл; еще более бледный и облысевший, он остается самым учтивым посланником смерти. На этот раз отсрочки не будет, и Артур должен подготовить себя к тому, что уже давно предрекалось. Начинаются бдения. Грохочущая монорельсовая дорога останавливается, тир переносят за пределы усадьбы, теннисная сетка до конца сезона снимается. Туи не мучают ни боли, ни мрачные мысли, а между тем весенние цветы у нее в спальне сменяются ранними летниками. Мало-помалу периоды умопомрачения становятся более длительными. Мозг поражен туберкулами, левая сторона тела частично парализована, как и половина лица. Книга «О подражании Христу» больше не открывается; Артур неотлучно сидит дома.
Когда конец уже совсем близок, Туи узнает мужа. Говорит ему «храни тебя Господь» и «спасибо», а когда он помогает ей сесть в постели, шепчет: «То, что надо». Июнь перетекает в июль; Туи определенно при смерти. В роковой день Артур не отходит от ее постели; Мэри и Кингсли приглядываются в стыдливом ужасе, смущенные парализованным лицом матери. Все ждут в молчании. В три часа ночи, держа за руку Артура, Туи умирает. Ей сорок девять лет; Артуру сорок семь. После кончины жены он долго не выходит из ее комнаты; стоит над телом, говорит себе, что сделал все возможное. Он знает, что сия опустевшая оболочка, лежащая на кровати, отнюдь не все, что осталось от Туи. Это «бело-восковое нечто» всего лишь покинуто ею за ненадобностью.
В последующие дни под лихорадочным волнением овдовевшего начинает просыпаться сознание выполненного долга. Туи – леди Дойл – хоронят под мраморным крестом в Грейшотте. Соболезнования приходят и от великих, и от безвестных, от короля до горничной, от собратьев по перу до читателей со всех концов света, от лондонских клубов до форпостов империи. Он тронут словами сочувствия и поначалу считает их за честь, но их потоки не иссякают, и Артуром овладевает беспокойство. Чем именно заслужил он такую сердечность, не говоря уже о ее подоплеке?
От этого шквала искренних эмоций он чувствует себя лицемером. Туи была самой кроткой спутницей, какая только может достаться мужчине. Он вспоминает, как на Эспланаде Кларенса показывал ей военные трофеи, как на базе снабжения флота она сжимала в зубах корабельный сухарь; как Туи, уже основательно беременная их дочкой, вальсировала с ним вокруг кухонного стола; как он потащил ее за собой в морозную Вену, как укутывал одеялом в Давосе, как махал полулежащей фигурке на веранде египетского отеля, перед тем как запустить мяч над песками в сторону ближайших пирамид. Вспоминает ее улыбку, ее доброту; но вспоминает и о том, что уже много лет не мог бы, положа руку на сердце, поклясться, что любит жену. Это началось не с появлением Джин, а еще раньше. Всеми доступными мужчине способами он окружал жену любовью, но при этом не любил.
Артур понимает, что в течение следующих дней и недель обязан быть рядом с детьми, как положено овдовевшему отцу. Кингсли тринадцать лет, Мэри семнадцать: ему странно, что дети вскоре станут взрослыми. После встречи с Джин какая-то часть его сознания оставалась замороженной: сердце в одночасье ожило, но тут же унеслось к забытым высотам. Теперь придется свыкнуться с мыслью, что дети уже выросли.
Словно по заказу, подтверждение этого факта приходит от Мэри. Как-то за чайным столом, через считаные дни после похорон, она сообщает ему подозрительно взрослым голосом:
– Отец, перед смертью мама сказала, что ты вступишь в повторный брак.
Артур поперхнулся кексом. Он чувствует, как заливается краской, как на грудь давит тяжесть; не исключено, что сейчас у него случится апоплексический удар – этого давно следовало ожидать.
– Боже мой, неужели она это сказала?
– Да. Ну, не в точности такими словами. Она сказала так… – Мэри выдерживает паузу; между тем у отца крутит живот, а в голове начинается какофония. – Мама сказала, чтобы я не возмущалась, если ты вступишь в повторный брак, поскольку она сама желает для тебя только такой судьбы.
Артур не знает, что и думать. Не расставлена ли ему ловушка? Или никакой ловушки нет? Значит, Туи все же подозревала? Неужели она делилась с дочерью? Было ли это сказано в общем или конкретно? В последние девять лет над ним довлеет столько вопросов без ответа, что больше ему не вынести.
– А скажи-ка, она… – Артур пытается свести разговор к шутке, но понимает, что взял неверный тон… вот только верного тона нет… – Скажи-ка, не наметила ли она подходящую кандидатуру?
– Отец! – Мэри неприятно поражена самой мыслью, равно как и отцовским тоном.
Разговор переходит на более безопасные темы. Но Артур несколько дней не может избавиться от первого потрясения; он приносит цветы на могилу Туи, стоит в забытьи посреди ее опустевшей спальни, избегает подходить к своему письменному столу, не может заставить себя просмотреть вновь поступающие соболезнования – выражения подлинного чувства. Девять лет он щадил Туи, скрывая от нее существование Джин, девять лет старался не причинять ей даже минутной боли. Но, как видно, эти два стремления несовместимы, и так было всегда. Он готов признать, что не считает себя знатоком женской природы. Распознаёт ли женщина твою влюбленность? Вероятно, да; так ему кажется; да, наверняка, ведь Джин сразу это распознала на залитой солнцем лужайке, раньше, чем он сам. А если так, распознаёт ли она тот момент, когда ты ее разлюбил? Чувствует ли, что ты любишь другую? Девять лет назад он до тонкостей продумал, как оградить Туи: в заговор оказались вовлечены все домашние; но в конечном счете вышло, что эта хитрость имела целью оградить его и Джин. Вероятно, его замыслы были полностью эгоистичны и Туи видела его насквозь; не исключено, что она все знала. Вряд ли Мэри понимает, как тяжело далась Туи фраза насчет повторного брака отца. Даже Артур начинает понимать это только сейчас. Не исключено, что Туи знала с первого дня, наблюдала со своего смертного одра за его жалкой подтасовкой истин и улыбалась каждой низкой, мелкой неправде, услышанной от мужа, да еще воображала, как он бежит вниз к телефону изменника. Протестовать у нее, как видно, не было духу, ведь она больше не могла быть ему женой в полном смысле этого слова. А что, если – его подозрения сгущаются, – что, если она с самого начала поняла, как много значит для него Джин, а остальное непрерывно додумывала? Что, если считала своим долгом принимать Джин в «Подлесье», хотя и видела в ней любовницу мужа?








