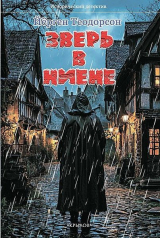
Текст книги "Зверь в Ниене"
Автор книги: Юрий Гаврюченков
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
В середине первой недели пребывания Джорджа в Портленде к нему пришел тюремный священник. Он излучал такое оживление, будто их встреча происходила в церковном совете Грейт-Уэрли, а не в собачьей конуре с вентиляционной дырой у пола.
– Пообвыклись? – весело спросил капеллан.
– Начальник тюрьмы, похоже, считает, что все мои мысли только о побеге.
– Да-да, он каждому это говорит. По-моему, строго между нами, его даже радует, когда совершается побег. Поднимают черный флаг, палят из пушки, бараки переворачивают вверх дном. И победа всегда остается за ним – это его тоже радует. Дальше мыса еще никто не уходил. Беглеца непременно поймают, если не солдаты, так местные жители. За поимку беглого каторжника причитается награда в пять фунтов, так что оставаться в стороне резона нет. А пойманного беглеца сажают в карцер и лишают права на амнистию. То есть овчинка выделки не стоит.
– И еще начальник тюрьмы сказал, что я не могу изменить свое вероисповедание.
– Так и есть.
– Но с какой стати мне его менять?
– А, понимаю, вы же у нас «звезданутый». Еще не все тонкости знаете. Видите ли, в Портленде содержатся только протестанты и католики. В соотношении примерно один к шести. А иудеев нет ни одного. Будь вы иудеем, вас бы отправили в Паркхерст.
– Но я не иудей, – с некоторым упрямством сказал Джордж.
– Разумеется, нет. Разумеется. Однако любой бывалый, то бишь рецидивист, скорее всего, знает, что в Паркхерсте режим помягче, нежели в Портленде. Допустим, из Портленда его, как примерного англиканина, даже могут выпустить хоть в этом году. Но если он попадется еще раз, то ему ничто не помешает объявить себя иудеем. Вот тогда-то его и отправят в Паркхерст. Но есть такое правило: во время отбывания срока менять веру нельзя. А то заключенные скакали бы туда-сюда, просто от безделья.
– Наверное, раввин в Паркхерсте время от времени получает сюрпризы.
Капеллан усмехнулся:
– Странно, что преступный образ жизни способен превратить мужчину в иудея.
Вскоре Джордж узнал, что в Паркхерсте содержатся не только иудеи; туда отправляли хронических больных и, так сказать, блаженных. В Портленде не дозволялось менять вероисповедание, но потерявших физическое или душевное здоровье ожидал перевод. Поговаривали, что кое-кто из заключенных намеренно калечил себе ногу киркой или симулировал помешательство – начинал скулить, как пес, или рвать на себе волосы – в попытке добиться отправки в Паркхерст. Единственной наградой симулянту в большинстве случаев была отправка в карцер на хлеб и воду.
«Портленд расположен в чрезвычайно здоровом климате, – сообщал Джордж своим родителям. – Здесь насыщенный, бодрящий воздух, заболеваемость низкая». Можно было подумать, он пишет открытку из Аберистуита. Не отступая от истины, он считал своим долгом по мере сил нести утешение близким.
Вскоре он привык к своей тесной конуре и даже решил, что здесь ему лучше, чем в Льюисе. Бюрократических пут меньше, дурацких правил насчет стрижки и бритья под открытым небом и вовсе нет. К тому же правила относительно общения между заключенными оказались не столь жесткими. Да и кормили более сносно. Он смог написать родителям, что рацион каждый день меняется: похлебку дают то первого вида, то второго. Хлеб – из муки грубого помола, «полезнее того, что продают булочники», писал он: вовсе не для того, чтобы избежать подозрений цензора или подольститься к начальству, а просто чтобы выразить свое искреннее мнение. Дают и зелень, и листовой салат. Какао просто отличное; чай, правда, так себе. Кто не хочет чая, тот может получить овсянку или другую кашу. Джордж удивлялся, почему многие выбирают этот скверный чай, а не что-нибудь питательное.
Он смог написать родителям, что теплого нижнего белья у него достаточно, есть также свитера, гетры, перчатки. Библиотека даже лучше, чем в Льюисе, условия выдачи книг более льготные: каждую неделю можно брать две «библиотечные» книги и четыре познавательные. Есть подшивки всех ведущих журналов, хотя из книг и периодических изданий тюремное начальство убирало нежелательные материалы. Взявшись за историю современного британского искусства, Джордж обнаружил, что все репродукции картин сэра Лоуренса Альма-Тадемы аккуратно вырезаны цензорской бритвой. На первой странице этого тома синел стандартный штамп, имевшийся в каждой книге из тюремной библиотеки: «Загибать страницы воспрещается». Под ним какой-то остряк-заключенный приписал: «А вырезать тем более».
С гигиеной дело обстояло не лучше, но и не хуже, чем в Льюисе. Для получения зубной щетки следовало обращаться к начальнику тюрьмы, который отвечал либо «да», либо «нет», руководствуясь, видимо, какими-то загадочными личными соображениями.
Как-то утром Джордж попросил у надзирателя наждачный брусок для чистки металла.
– Наждачный брусок, Дэ-четыреста шестьдесят два? – Брови надзирателя взметнулись до козырька фуражки. – Наждачный брусок! Да ты никак фирму решил по миру пустить? А завтра чего потребуешь – сдобной булки кусок?
На этом вопрос был закрыт.
Что ни день, Джордж щипал волокно и волос; как положено, делал гимнастику, хотя и без особого рвения. Брал в библиотеке полный комплект книг. Еще в Льюисе он научился есть при помощи жестяного ножа и деревянной ложки, а также усвоил, что против тюремной говядины и баранины нож зачастую бессилен. В Портленде он привык обходиться без вилки, равно как и без газет. Более того, отсутствие газеты виделось ему преимуществом: не получая ежедневных напоминаний о внешнем мире, он легче приспосабливался к ходу времени. Значимые для его жизни события теперь ограничивались тюремными стенами. Как-то утром один заключенный, С-183, получивший восемь лет за разбой, ухитрился выбраться на крышу и стал оттуда вещать, что он сын Божий. Капеллан вызывался подняться к нему по стремянке, чтобы обсудить богословскую подоплеку вопроса, но начальник тюрьмы заподозрил очередную попытку добиться перевода в Паркхерст. В конце концов заключенного взяли измором и отправили в кандей. А сам С-183 признался, что он сын полового, а вовсе не плотника.
Когда Джордж несколько месяцев отсидел в Портленде, там случился побег. Двое заключенных, С-202 и В-178, сумели пронести в камеру ломик, пробили дыру в потолке, спустились по веревке во двор и взобрались на стену. После команды «Шапки вниз!» началось общее смятение: охрана недосчиталась двух шапок. Проверили еще раз, потом всех пересчитали по головам. Подняли черный флаг, дали пушечный залп, а заключенных между тем заперли в камерах. Джордж не возражал; его не коснулось всеобщее возбуждение, а делать ставки на исход побега он не собирался.
У беглецов было примерно два часа форы; они, по мнению бывалых, должны были до темноты затихариться, а ночью рвануть с мыса. Но когда по следу пустили тюремных ищеек, В-178 попался очень быстро: он прятался в мастерской и бранился на чем свет стоит: в результате спуска с крыши он получил перелом лодыжки. С-202 продержался дольше. На всех возвышенностях пляжа Чизил-Бич выставили дозорных, на воду спустили шлюпки, чтобы беглецы не удрали вплавь, Веймут-роуд перекрыли военные патрули. В каменоломнях осмотрели каждый угол, прочесали прилегающие участки. Но солдаты и тюремная охрана так и не нашли второго беглеца; его, связанного по рукам и ногам, приволок трактирщик, который наткнулся на него у себя в подвале и скрутил, призвав на помощь ломового извозчика. Трактирщик потребовал вызвать тюремное начальство, ответственное за прием заключенных, чтобы сдать беглеца с рук на руки и без промедления получить обещанную награду в пять фунтов. Кипеж среди заключенных сменился разочарованием; обыски в камерах на некоторое время участились. Эту сторону жизни Джордж считал более дезорганизующей, чем в Льюисе, тем более что в его случае обыски были совершенно бессмысленными. Вначале поступала команда «расстегнуться», затем офицеры «растирали» заключенного, чтобы убедиться в отсутствии спрятанных под одеждой предметов. Ощупывали его с ног до головы, проверяли карманы и даже разворачивали носовой платок. Эта процедура была унизительна для заключенных и, как подозревал Джордж, ненавистна для охраны, так как от работы арестантская форма у многих засалилась и пропиталась грязью. Одни тюремщики все же проводили досмотр тщательно, а другие могли запросто прошляпить хоть молоток, хоть стамеску.
Потом следовал «шмон», который, как могло показаться, состоял в систематическом перевертывании камеры вверх дном: сбрасывались на пол книги, летело во все стороны постельное белье, обшаривались возможные тайники, о которых Джордж даже не догадывался. Но хуже всего была «сухая баня». Заводят тебя в баню и ставят на деревянный настил. Ты снимаешь с себя все до нитки, кроме исподней рубахи. Охранники скрупулезно осматривают каждый предмет одежды. Потом начинаются издевательства: задрать ноги, нагнуться, разинуть рот, высунуть язык. «Сухие» обыски могли проводиться через регулярные промежутки времени, а могли устраиваться спонтанно. По прикидкам Джорджа, он подвергался этой позорной процедуре едва ли не чаще, чем остальные. Видимо, когда он заявил, что не намерен пускаться в бега, это восприняли как блеф.
Так проходил месяц за месяцем; завершился первый год, подошел к концу второй. Каждые полгода его родители проделывали долгий путь из Стаффордшира, чтобы провести с сыном ровно час под бдительным оком надзирателя. Для Джорджа эти свидания были мучительны: не потому, что он не любил родителей, а потому, что видеть их страдания было невыносимо. Отец весь усох; мать не находила сил оглядеть место, где прозябал ее сын. Джордж с трудом выбирал нужную манеру общения: излишняя живость навела бы родных на мысль, что он притворяется, излишняя мрачность передалась бы им самим. Он старательно практиковал нечто среднее – предупредительный, но ничего не выражающий тон, как у вокзального кассира.
На первых порах семья рассудила, что Мод слишком чувствительна для таких посещений; однако настал год, когда она приехала вместо матери. У нее практически не было возможности переговорить с братом, но Джордж, глядя через стол в ее сторону, всякий раз ловил тот же самый взгляд, прямой, сосредоточенный, который он перехватил в стаффордском зале суда. Сестра словно пыталась наделить его силами, передать кое-что от сознания к сознанию, не прибегая к слову и жесту. Впоследствии Джордж невольно задавался вопросом: не заблуждался ли он… не заблуждались ли они все… в отношении Мод и ее предполагаемой хрупкости?
Викарий ничего не заметил. Он торопился поведать сыну, как в свете смены правительства (сей факт, по сути, прошел мимо Джорджа) неутомимый мистер Йелверстон возобновляет свою кампанию. Мистер Ваулс планирует новую серию статей для журнала «Истина»; сам викарий намеревается выпустить брошюру на ту же тему. Джордж изображал воодушевление, но в глубине души считал отцовский энтузиазм благоглупостью. Сколько подписей ни собери, существо дела от этого не изменится, так почему же должен меняться ответ официальных инстанций? Для него, как для юриста, это было очевидно.
Знал он и то, что Министерство внутренних дел забрасывают прошениями из всех тюрем страны. Оно ежегодно получает четыре тысячи ходатайств, и еще тысяча приходит из других источников от имени заключенных. Но для пересмотра дел у министерства нет ни инструментов, ни власти; оно неправомочно допрашивать свидетелей или выслушивать адвокатов. Единственное, что оно может сделать, – это рассмотреть документы и соответствующим образом проконсультировать монархические круги. А значит, помилование по свободному усмотрению оставалось большой редкостью. Возможно, обстоятельства могли бы сложиться иначе, если бы в стране существовал какой-нибудь апелляционный орган, способный более активно участвовать в восстановлении справедливости. А так убежденность викария в том, что для освобождения сына достаточно почаще твердить о его невиновности, подкрепляя эти заявления молитвой, поражала Джорджа своей наивностью.
Он с горечью сознавал, что свидания с отцом ему в тягость. Они нарушали упорядоченный и спокойный ход его жизни, а без упорядоченности и покоя дотянуть свой срок и остаться в живых нечего было и думать. Многие заключенные считали дни до выхода на свободу; Джордж приспосабливался к тюремной жизни единственным способом: он внушал себе, что другое существование для него невозможно как сейчас, так и в будущем. Но каждый родительский приезд, вкупе с отцовской надеждой на мистера Йелвертона, только расшатывал эту иллюзию. Вот если бы Мод сумела приехать к нему без сопровождения, она бы наполнила его силой, а родители наполняли его исключительно тревогой и стыдом. Но Джордж понимал, что сестру никогда к нему не отпустят.
Обыски продолжались, как и «растирания», и «сухие бани». Джордж в невероятных количествах осваивал историческую литературу, разделался со всеми классиками и теперь взялся за второстепенных авторов. Он также прочел все подшивки периодики – «Корнхилл мэгэзин» и «Стрэнд». Его уже тревожило, что библиотечные ресурсы вот-вот иссякнут.
Как-то утром его привели в кабинет капеллана, сфотографировали в профиль и анфас, а затем дали распоряжение отпустить бороду. Сказали, что через три месяца сфотографируют повторно. Для себя Джордж сформулировал назначение этих снимков так: если в будущем он даст полицейским повод для розыска, то у них под рукой будут его недавние изображения.
Бороду он отращивал неохотно. Сколько позволяла природа, Джордж носил усы, но в Льюисе пришлось их сбрить. Теперь он с неприязнью ощущал покалывание на щеках и подбородке, сожалея о невозможности воспользоваться бритвой. Да и видеть себя с бородой ему претило – ни дать ни взять криминальный тип. Надзиратели отпускали шуточки: дескать, готовит себе маскировку. А он знай щипал волокно и читал Оливера Голдсмита. Сидеть ему оставалось четыре года.
А потом Джордж совсем запутался. Его вновь повели фотографироваться, в профиль и анфас. Затем отправили бриться. Цирюльник заметил, что в манчестерской тюрьме «Стрейнджуэйз» такая услуга обошлась бы Джорджу в восемнадцать пенсов. Вернувшись в камеру, он получил приказ собрать свои скудные пожитки и готовиться к этапированию. Его привезли на станцию и под конвоем завели в вагон поезда. Джордж не мог заставить себя смотреть в окно на окрестные пейзажи, само существование которых выглядело издевательством, тем более что на лугах то и дело мелькали коровы и лошади. Теперь ему стало понятно, как люди, вырванные из привычной обстановки, сходят с ума.
В Лондоне его посадили в кэб и доставили в Пентонвиль. А там сообщили, что готовится его помилование. Сутки он просидел взаперти один; задним числом эти сутки показались ему самыми мрачными за все три года неволи. Он знал, что должен радоваться, но предстоящий выход на свободу вызывал у него не меньшее смятение, чем арест. К Джорджу пришли двое следователей, которые вручили ему документы и предписали явиться в Скотленд-Ярд за дальнейшими указаниями.
В десять часов тридцать минут девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестого года Джордж Эдалджи покинул Пентонвиль в кэбе вместе с неким евреем, также выпущенным на свободу. Допытываться, кто на самом деле этот парень – настоящий иудей или всего лишь тюремный, – Джордж не стал. Тот вышел из кэба возле «Общества содействия узникам иудейского вероисповедания», а Джорджа довезли до «Общества содействия церковному воинству». Членство в подобных организациях давало право на двойное денежное пособие при освобождении. Джордж получил два фунта девять шиллингов десять пенсов. Сотрудники Общества сами доставили его в Скотленд-Ярд, где он был проинформирован о правилах освобождения из-под стражи по особому постановлению. С него потребовали адрес постоянного проживания, обязали ежемесячно отмечаться в Скотленд-Ярде и заблаговременно сообщать о каждом отъезде из Лондона.
Из какой-то газеты прислали фоторепортера, чтобы тот запечатлел освобождение Джорджа Эдалджи. Фоторепортер по ошибке сделал снимок человека, освобожденного тридцатью минутами ранее; газета так и вышла с чужим портретом.
Из Скотленд-Ярда его повезли на встречу с родителями.
Он вышел на свободу.
Артур
А потом он знакомится с Джин.
Остаются считаные месяцы до его тридцативосьмилетия. В этом году Артур, сидя с расправленными плечами в мягком кресле-бочонке, позирует Сидни Пэджету: из полураспахнутого сюртука выглядывают цепочки карманных часов, в правой руке блокнот, в левой серебряный механический карандаш. Над висками намечаются залысины, но этот недостаток с лихвой окупают роскошные усы: они захватили все пространство над верхней губой и тянутся нафиксатуаренными стрелами за линию мочек ушей. Благодаря этому Артур становится похожим на военного прокурора, чье влияние подтверждается разделенным на четыре части геральдическим щитом в верхнем углу портрета. Артур первым готов признать, что его знания о женщинах – скорее джентльменские, нежели донжуанские. В молодости он, правда, не терялся – один случай с летающей рыбкой чего стоил. Была и Элмор Уэлдон, которая, по не совсем джентльменским наблюдениям, весила не менее семидесяти кило. А сейчас есть Туи, за долгие годы ставшая для него сестрой-спутницей, а потом, как-то внезапно, сестрой-пациенткой. Есть у него, конечно, и родные сестры. А еще есть статистика проституции, которую он читает в клубе. Есть байки (порой он даже отказывается их слушать), которые в мужских компаниях передаются за портвейном из уст в уста: к примеру, насчет отдельных кабинетов в неприметных ресторанчиках. Есть женские недуги – он сам их наблюдал; он и при родах присутствовал; для него не секрет, что среди портсмутских матросов и другой публики низкого пошиба свирепствуют дурные болезни. Его представления о любовном акте многообразны, однако связаны больше с плачевными последствиями, нежели с радостными прелюдиями и самим процессом.
Единственная женщина, кому он готов подчиняться, – это мать. С другими представительницами прекрасного пола он старший брат, названый отец, властный муж, авторитетный доктор, щедрый даритель банковских чеков на предъявителя, а то и Санта-Клаус. Его вполне устраивают законы разделения и отношения полов, которые от века установило общество по мудрости своей. Артур категорически против избирательного права для женщин: мужчина, приходя домой после трудов праведных, не желает, чтобы напротив него у камина восседал политик. Женщин Артур знает меньше, а потому в большей степени склонен их идеализировать. По его мнению, так и должно быть.
В свете этого Джин становится для него настоящим потрясением. Давно уже он не смотрел на молодых женщин так, как, по обыкновению, смотрят на них мужчины. В его понимании женщинам… девушкам… положено быть несформированными; они пластичны, податливы и только ждут, чтобы сформироваться под влиянием мужа. Никак себя не проявляя, они совершают чинные выходы в свет (где не должно быть места кокетству), присматриваются и выжидают, когда мужчина проявит интерес, потом чуть больший интерес и, наконец, – особый интерес: к этому времени парочка уже совершает прогулки вдвоем, их семьи уже познакомились, и в конце концов мужчина просит ее руки, а девушка изредка, ради последней утайки чувств, заставляет его ждать ответа. Таков сложившийся ритуал, а у социальной эволюции, равно как и у эволюции биологической, свои законы и потребности. Не будь для этого очень веских оснований, ритуал был бы иным.
Когда Артура знакомят с Джин в доме именитого лондонского шотландца, где проходит званое чаепитие (хотя обычно Артур уклоняется от таких мероприятий), он тотчас замечает, насколько она эффектна. Многолетний опыт подсказывает, чего ожидать дальше: эффектная девушка спросит, когда же он напишет очередную историю про Шерлока Холмса, и неужели детектив погиб на Рейхенбахском водопаде, и не пора ли женить сыщика-консультанта, и как вообще Артур придумал такого героя? Иногда он отвечает утомленно, будто весь день парился в пяти шубах, а бывает, выдавливает слабую улыбку и говорит: «Ваш вопрос, юная леди, как раз и объясняет, почему мне хватило здравого смысла спихнуть его в водопад».
Но Джин таких вопросов не задает. Не вздрагивает при звуке нашумевшей фамилии, чем могла бы сделать ему приятное, и не объявляет себя, скромно потупившись, его преданной читательницей. Она лишь интересуется, посетил ли Артур выставку фотографий полярной экспедиции доктора Нансена.
– Еще нет. Хотя в прошлом месяце я был в Альберт-Холле, где он выступал с лекцией перед Королевским географическим обществом и получил медаль из рук принца Уэльского.
– Я тоже там была, – отвечает она.
Весьма неожиданно.
Он рассказывает ей, как несколькими годами ранее прочитал очерк Нансена о лыжном переходе через всю Норвегию, после чего и сам приобрел лыжи; как в Давосе под руководством братьев Брангер осваивал крутые склоны и как напротив его имени в регистрационной книге отеля Тобиас Брангер написал «Sportesmann». Потом он заводит историю, которой обычно дополняет предыдущую: о том, как на вершине заснеженного склона упустил свои лыжи; пришлось спускаться без них, а нагрузка на тыл его твидовых бриджей… История и в самом деле из лучших, хотя он уже подумывает, что в данный момент не стоит уточнять, что потом он весь день простоял спиной к стене… но, похоже, его не слушают. Озадаченный, Артур умолкает.
– Хочу встать на горные лыжи, – говорит Джин. И это тоже неожиданно. – Держать равновесие я умею. С трех лет занимаюсь верховой ездой.
Артур несколько уязвлен отсутствием интереса к его коронной истории про лопнувшие бриджи, которая дает ему возможность передразнить заверения портного в прочности шотландского твида. Он решительно заявляет, что девушки – то есть светские барышни, а не какие-нибудь швейцарские крестьянки – вряд ли когда-нибудь станут кататься с гор на лыжах, поскольку занятие это рискованное, сопряженное с большими затратами физических сил.
– Поверьте, физических сил мне не занимать, – отвечает она. – А равновесие, надо думать, я держу получше вас, учитывая вашу комплекцию. Если центр тяжести смещен вниз, это скорее преимущество. Мне не страшно упасть и получить перелом – я ведь не такая тяжеленная, как вы.
Скажи она просто «не такая тяжелая», он мог бы счесть это дерзостью и обидеться. Но от этого «тяжеленная» он разражается смехом и обещает когда-нибудь научить ее кататься на горных лыжах.
– Ловлю на слове, – отвечает Джин.
Довольно необычное было знакомство, рассуждает он сам с собой на протяжении следующих дней. Как она отказалась признать его писательскую славу, как сама задала тему беседы, недослушала его коронную историю, проявила устремление, не свойственное, как считается, настоящей леди, да еще и высмеяла… ну, почти высмеяла его комплекцию. И все это легко, непринужденно, очаровательно. Артур сам доволен, что не обиделся, хотя, возможно, никто и не хотел его уколоть. Впервые за много лет он проникается самодовольством от удачного флирта. А потом выбрасывает Джин из головы.
Через полтора месяца он приезжает на какой-то музыкальный вечер, где она поет под аккомпанемент самовлюбленного хлыща во фраке. По мнению Артура, голос у нее превосходный, а пианист манерный и тщеславный. Артур отшатывается назад, чтобы она не заметила его пристального внимания. После ее сольного выступления они общаются на людях, Джин ведет себя вежливо, а потому нельзя с уверенностью сказать, помнит ли она его.
Они расходятся и через несколько минут под завывания скверно играющей виолончели сталкиваются вновь, теперь уже наедине. Джин сразу говорит:
– Как видно, ждать мне придется минимум девять месяцев.
– Ждать чего?
– Лыжных уроков. В ближайшее время снега точно не будет.
Он не усматривает в этом ни заигрывания, ни рискованности, хотя и знает, что напрасно.
– Где желаете начать? В Гайд-парке? – спрашивает он. – Или в Сент-Джеймсе? Или, быть может, на склонах Хэмпстед-Хит?
– Почему бы и нет? Да где угодно. В Шотландии. Или в Норвегии. Или в Швейцарии.
По всей вероятности, они незаметно для Артура прошли сквозь высокие застекленные двери, пересекли террасу и теперь оказались под тем самым солнцем, которое давно растопило всякие надежды на снег. Никогда еще Артур так не злился на погожие дни.
Заглядывая в ее зелено-карие глаза, он спрашивает:
– Юная леди, вы со мной кокетничаете?
Она выдерживает его взгляд:
– Я с вами обсуждаю катание на лыжах.
Но это, скорее всего, лишь отговорка.
– Если мое предположение верно, берегитесь: как бы я вас не полюбил.
Артур с трудом отдает себе отчет в сказанном. Отчасти он и впрямь такое допускает, отчасти не понимает, что на него нашло.
– Уже. Вы – меня. А я – вас. Определенно. Сомнений нет.
Главное сказано. Пока не нужно больше слов. Важно только, когда они теперь увидятся, и где, и как, а договориться нужно до прихода сюда посторонних. Артур не ловелас, не повеса, он просто не знает, как говорить о таких материях, которые необходимы для перехода на следующую стадию отношений; в голову лезут только сложности, запреты, причины больше не встречаться; да и как знать, что представляет собой следующая стадия – ведь нынешняя по большому счету видится ему тупиком. Разве что десятки лет спустя их дороги случайно пересекутся, и они, уже старые, седые, шутливо упомянут этот незабываемый миг на солнечной лужайке. В силу его популярности и ее репутации они не смогут встречаться в общественных местах, а в местах безлюдных – тем более, в силу ее репутации и… и всего того, что вобрала в себя его жизнь. Вот он стоит, почти сорокалетний, уверенный в завтрашнем дне, всемирно известный мужчина… вдруг превратившийся в школяра. Как будто он выучил наизусть самый прекрасный любовный монолог из Шекспира и теперь должен его продекламировать, но в горле пересохло, а в голове пусто. Или как будто на нем снова лопнули твидовые бриджи и ему срочно требуется прислониться к стене, чтобы прикрыть свой тыл.
Но даже несмотря на пустоту в голове, беседа складывается сама собой и назначается следующая встреча. Это ведь не тайное свидание и не начало интрижки, а всего лишь следующая встреча, и все пять дней томительного ожидания он не может ни работать, ни думать; даже играя по две партии в гольф подряд, он делает замах для удара по мячу – и ловит себя на мысли о ней: ее лицо всплывает у него перед глазами, и он безнадежно мажет, рискуя перебить местную живность. Толкая мяч от одной песчаной зоны к другой, он внезапно вспоминает гольф на территории отеля «Мена-хаус» и ощущение, будто вокруг него один сплошной бункер. Сейчас он не уверен, что ощущение осталось тем же самым; должно быть, осталось, да еще нагнетается – то ли здесь песок глубже и мяч совсем тонет, то ли сам Артур будто бы не покидает пределов грина.
Нет, это не любовное свидание, хотя он уже выходит из кэба на углу квартала. Это не свидание, хотя дверь уже отворяет неопределенного возраста и положения особа, которая тут же исчезает. Это совсем не свидание, хотя они наконец-то одни, сидят на диване с жаккардовой обивкой. Это никакое не свидание, потому что он так решил.
Артур смотрит на Джин и нерешительно берет ее за руку. Взгляд ее нельзя назвать ни застенчивым, ни самоуверенным – в нем сквозит искренность и твердость. Улыбки на лице нет. Он понимает, что один из них должен заговорить, но вмиг теряет все знакомые слова. И это не играет роли. Наконец ее губы трогает неуверенная улыбка:
– Жду не дождусь снега.
– На каждую годовщину нашего знакомства я буду дарить тебе подснежник.
– Пятнадцатого марта, – уточняет Джин.
– Знаю. Я все знаю, эта дата вырезана у меня на сердце. При вскрытии ее прочтут.
И снова тишина. Примостившись на краю диванчика, он хочет сосредоточиться на ее словах и лице, на памятной дате и подснежниках, но осознание того буйства, что творится у него в штанах, поглощает его целиком. Это не любовное томление благородного рыцаря, нет, это пульсирующая неизбежность, грубая, уличная, полностью соответствующая одиозному слову «стояк», которое Артур никогда не употребляет, но сейчас не способен отогнать. Хорошо еще, что брюки просторные – у него это сейчас единственная внятная мысль. Чтобы не так сильно давило, он слегка изменяет позу и невольно придвигается ближе к Джин. Она ангел, думает он, такая чистая, такая хрупкая, приняла его порыв за желание поцелуя и доверчиво потянулась к нему, а он, как джентльмен, должен проявить уважение к даме, но как мужчина, просто обязан ее поцеловать. Не обольститель, не донжуан, но рослый, респектабельный человек средних лет, он пытается думать лишь о рыцарственной любви, неуклюже склоняет голову, когда девичьи губы дотягиваются до его усов и несмело ищут под ними рот, а сам по-прежнему держит Джин за руку – и вдруг стискивает ей пальцы, чувствуя, как в штанах у него бьет гейзер. Мисс Джин Лекки наверняка ошибочно истолковала стон Артура; мало этого – кавалер еще и отпрянул, словно пронзенный дротиком.
В голове у Артура всплывает некий образ из давних времен. Стонихерст, ночь; дежурный иезуит бесшумно обходит дортуары, чтобы не допустить разврата среди воспитанников. Это было оправданно. Вот что ему требуется – и сейчас, и в обозримом будущем: свой личный дежурный иезуит. Нынешнее происшествие не должно повториться. Для него, как для врача, эта минутная слабость объяснима; но для английского джентльмена она постыдна и тревожна. Он даже не знает, кого предал больше всех: Джин, Туи или себя. В какой-то степени определенно всех троих. И это не должно повториться.
Всему виной внезапность, а также разрыв между мечтой и реальностью. В рыцарских романах объект любви недосягаем: это, например, жена сюзерена. Доблесть рыцаря – под стать его чистоте. Но Джин вполне досягаема, тогда как Артур отнюдь не безвестный доблестный рыцарь, свободный от брачных уз. Напротив, он женатый мужчина, три года назад приговоренный к воздержанию лечащими врачами супруги. Весит он за девяносто… нет, за сто килограммов, держится в хорошей форме, энергичен; не далее как вчера ночью у него было непроизвольное семяизвержение.
Но теперь, когда этот непростой вопрос встает перед ним со всей ужасающей отчетливостью, Артур способен его осмыслить. Умом он обращается к практическим аспектам любви, точно так же как некогда обращался к практическим аспектам болезни. Проблему – проблему! боль, сокрушительную радость, муки! – он определяет следующим образом. Для него немыслимо разлюбить Джин; для нее немыслимо разлюбить его. Для него немыслимо развестись с Туи, матерью его детей, к которой он по сей день испытывает душевную привязанность и уважение; да что там говорить: только негодяй способен бросить больную жену. Для него немыслимо и превратить роман в интрижку, сделав Джин своей любовницей. У каждой из трех сторон есть своя честь, пусть даже Туи не ведает, что ее честь обсуждается у нее за спиной. Но таково непременное условие: Туи ничего не должна знать.








