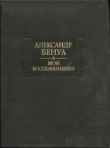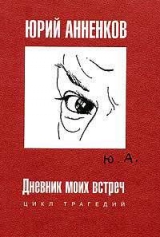
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Тогда же появилось в «Правде», как образчик расцвета «советской» поэзии, следующее «бодряцкое» стихотворение, посвященное Ленину:
Сегодня мы отчитываться будем,
Что сделали за годы без него,
И не забыли ли чего
Вписать в Госплан рабочих буден?
Имя «поэта» – Василий Горшков.
Маяковский писал на смерть Есенина:
Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость…
Прекратите,
бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
Что другой
на свете
не умел…
И дальше, перефразируя последние написанные Есениным строки:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей, —
Маяковский добавил:
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно,
Сделать жизнь
значительно трудней.
Написав это в 1926 году, Маяковский, в свою очередь, наложил на себя руки в 1930 году. Слава Есенина в СССР за этот промежуток времени росла не по дням, а по часам – наперекор официальному равнодушию. Шутить над его поэзией становилось для Маяковского все опаснее. В предчувствии собственной гибели (Маяковский затосковал о себе как о поэте) он в тридцатом году не сдержался и в одном из своих стихотворных завещаний поставил точку над i.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Через головы правительств – это возможно и даже несомненно; головы правительств нас не интересуют. Но через головы поэтов, таких, как Есенин, – здесь, в своем коммунистическом эгоцентризме (если такой филологический парадокс возможен), Маяковский, славный, но чрезмерно душимый ревностью парень, по-видимому, просчитался.
Как это ни странно, гиперболированные темы (я говорю лишь о темах) Маяковского звучат сегодня как злободневная хроника, давно утратившая злободневность. Пример: написанное в 1926 году стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» потребовало всего через десять лет и в советском же издании следующей пояснительной сноски: «Теодор Нетте – наш дипкурьер, героически погибший, защищая диппочту от покушений контрразведчиков. Его именем назван один из пароходов Черноморского флота».
А простейшая лирика Есенина поет полным голосом и не нуждается в комментариях. «Грандиозное» мельчает, становится временным, а «пустяковое» – пахнет вечностью.
19 января 1926 года Лев Троцкий, тогда еще имевший право голоса, напечатал в «Правде» статью памяти Есенина: «Мы потеряли Есенина – такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли. Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом – может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста – не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее рукою, на которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.
Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но надо всем этим трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души. Полунаносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, – прикрывался, но не прикрылся…
Наше время – суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи – своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор „Пугачева“ и „Баллады о двадцати шести“ был интимнейшим лириком. Эпоха же наша – не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей зпохи Сергей Есенин.
Корни у Есенина глубоко народные… Но в этой крепости крестьянской подоплеки причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в новом корень не принялся… Есенин интимен, нежен, лиричен – революция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой.
Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца… Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и – сломалась. Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена – те самые, которые нынешней борьбой подготовляются. Личность человеческая расцветет тогда настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику. Кому писал Есенин кровью в свой последний раз? Может быть, он перекликнулся с тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин – песнями. Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его…
В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по-новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах[46]46
Это – почти из Некрасова:
«И облакадождливые,Как дойныекоровушки,Идут по небесам».(«Кому на Руси жить хорошо»)
[Закрыть], и о цветке неповторимом – о себе самом.
Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего… Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя. Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!»
Айседора Дункан вскоре также нашла смерть, пав жертвой таинственной предопределенности. Давно, еще в ее молодые годы, автомобиль, везший двух ее малолетних детей, пробил решетку одного из парижских мостов и утонул в Сене. В 1925 году, в Париже, я ужинал у одной американской собирательницы картин. Среди приглашенных была Дункан. Она много говорила со мной о Москве, о Петербурге, о советском строе, глубоко ее разочаровавшем, но не обмолвилась ни одним словом о Есенине. Я хотел было сказать, что есть что-то родственное между звуком Есенин и Сеной, но сдержался и умолчал. Ночью, когда, прощаясь, я в последний раз в жизни целовал ее руку, Дункан предложила мне, чтобы ее шофер отвез меня до дому. Пересекая Ситэ, мы столкнулись на полном ходу с грузовиком, везшим овощи в Центральный рынок. Автомобиль Дункан был разбит и скомкан. Шофер и я чудом выскреблись невредимыми на свежий огород, внезапно выросший на мостовой от столкновения. Еще через год или два Дункан сама погибла в автомобиле, задушенная собственным шарфом, конец которого втянулся ветром на ходу в колесо. Судьба воссоздательницы античной эстетики не уживалась с новейшими социальными и техническими изобретениями.
Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже та же участь. В 1918 году, после бегства Красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккалу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод – бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш… Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш. в высоту.
Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы – записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила».
Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда – кастрюли, сковородки, чайники – до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах – сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка:
«Понюхай нашава гавна ладно ваняит».
В третьем этаже – единственная уцелевшая комната. На двери записка:
«Тов. Камандир».
На столе – ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…
Во время последней финско-советской войны (когда «широкие круги национально мыслящей русской эмиграции» неожиданно стали на сторону Советов, неожиданно приняв советский интернационал за российский национализм) я в Париже каждым утром следил по карте Финляндии за наступательным движением советской «освободительной» армии. И вот пришла весть о том, что Куоккала «отошла к Советам». В то утро я был освобожден от тяжести хозяйственных забот (давно уже ставших платоническими). Руины моего дома и полуторадесятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды в рождественскую ночь окутанную снегом елку; где гимназистом я носился в горелки с Максимом Горьким и моей ручной галкой Матрешкой; где я играл в крокет с Маяковским; где грызся о судьбах искусства с фантастическим военным доктором и живописцем Николаем Кульбиным; где русская литература творила и отдыхала, – исчезли для меня навсегда, как слизанные коровьим языком. Вырастет ли когда-нибудь на этом пустыре столбик с памятной дощечкой, на которой вряд ли смогут уместиться все имена?..
Но это уже мелочи. Обрывки бесполезной сентиментальности…
Владимир Маяковский
Маяковский очень любил Пушкина,
он очень высоко его ставил,
он мог писать, как Пушкин,
это сказалось в его последних
стихах «Во весь голос», но он
боролся с эпигоном Пушкина.
Он не хотел писать, как Пушкин,
и стремился выработать свой язык.
Сказать, что это ему удалось,
мы не можем, потому что, когда мы
пересматриваем его произведения,
мы видим в них Некрасова, Блока
и самостоятельное лицо Маяковского.
Всеволод Мейерхольд.(Беседа с самодеятельными художественными коллективамизавода «Шарикоподшипник», 27 мая 1936 года)

Владимир Маяковский
Маяковский принадлежал к группе футуристов. Она была многочисленна: Бурлюк, Крученых, Северянин, Олимпов, Хлебников, Зданевич (переименовавший себя в эмиграции в Ильязда), Каменский, Маяковский… Несколько позже к ним примкнули Асеев и Пастернак. Наиболее глубоким был Хлебников, наиболее последовательным, ортодоксальным – Крученых, наиболее патетическим – Пастернак, наиболее сильным и человечным – Маяковский.
Он был огромного роста, мускулист и широкоплеч. Волосы он то состригал наголо, то отращивал до такой степени, что они не слушались уже ни гребенки, ни щетки и упрямо таращились в беспорядке – сегодня в одном направлении, завтра – в другом. Тонкие брови лежали над самыми глазами, придавая им злобный оттенок. Нижняя челюсть плотоядно выдавалась вперед.
Гордый своей внешностью, он писал:
Иду – красивый,
Двадцатидвухлетний.
(«Облако в штанах», 1915)
Маяковский сознательно совершенствовал топорность своих жестов, громоздкость походки, презрительность и сухость складок у губ. К этому выражению недружелюбности он любил прибавлять надменные колкие вспышки глаз, и это проявлялось особенно сильно, когда он с самодовольным видом подымался на эстраду для чтения (редкого по отточенности ритмов) своих стихов или для произнесения речей, всегда настолько вызывающих, что они непременно сопровождались шумными протестами и восторженными возгласами публики.
Шесть лет спустя после смерти Маяковского, в речи, произнесенной на собрании московских «работников искусства», 26 марта 1936 года в Москве, Всеволод Мейерхольд сказал: «Не терзается никакими сомнениями, всегда доволен собой любитель. Мастер всегда очень строг к себе. Мастеру не свойственно самодовольство, зазнайство. Но бывают моменты, когда художник кажется самодовольным, самоуверенным и грубоватым. Таким казался иногда Владимир Маяковский. Но эта напускная самоуверенность была для него своеобразной броней, защитой от нападавших на него консерваторов. Грубость Маяковского была беспредельно хрупкой».
С 1913 года (когда Маяковский не дошел еще до призывного возраста) и до нашей последней встречи во Франции, незадолго до его трагического конца, мы постоянно виделись в Петербурге, в Москве, в Париже, а также в Финляндии, в Куоккале. Там мы собирались то у Корнея Чуковского, то у Николая Евреинова, то у «футуристского доктора» и художника Николая Кульбина, то по средам у Ильи Репина, в его имении «Пенаты», то в имении моих родителей, где мы столько раз азартно играли (или «дулись», как говорил Маяковский) в крокет.
Эльза Триоле справедливо рассказывала, что Маяковский вместо того, чтобы входить с людьми в деловые отношения, предпочитал играть с ними: «Прежде всего – в карты, потом – на бильярде, потом – во что угодно, в тут же изобретенные игры. Преимущественно – на деньги, но также – ради всевозможных фантастических выдумок».
Я играл с ним «на деньги»: пятьдесят копеек партия. Однажды летом 1914 года, незадолго до объявления войны, Маяковский проиграл мне несколько партий подряд. Он был азартен и начинал горячиться. Он играл лучше меня, но я знал все неровности нашей площадки и потому бил шары наверняка. Проиграв три рубля, Маяковский отбросил молоток и предложил мне возобновить игру ночью.
– На пять целковых, – добавил он.
– Почему ночью? – спросил я.
– Я научу тебя играть в темноте, – ответил Маяковский, – айда?
– Айда!
Ночью, белой, полусветлой финской ночью, мы снова пришли на площадку. С нами был наш общий друг Хлебников. Сидя на скамье и зажав руки между коленями, Хлебников молча следил за нашей игрой, потом встал, прислонился к березе и стоя заснул, негромко прихрапывая. Маяковский играл с необычайной для него осторожностью, но предательские бугорки и ямки, знакомые мне наизусть, помешали ему и на этот раз выиграть. Но я положил в карман только четыре целковых и пятнадцать копеек: в кошельке у Маяковского осталось денег ровно на железнодорожный билет до Петербурга.
С деньгами у Маяковского всегда происходили неувязки, несмотря на очень стройную концепцию денежного обращения. Еще до революции мы столкнулись как-то на Надеждинской улице. Маяковский вышел от зубного врача и с гордостью показал мне искусственный зуб.
– Сколько стоило? – полюбопытствовал я.
– Поэты тянут авансы в издательствах, но не платят дантистам. Дантисты должны смотреть на нас собачьими глазами и получать гонорар нашими автографами, – улыбнувшись, ответил Маяковский.
Куоккальская ночь, как обычно, закончилась в спорах (Маяковский, Хлебников и я) об искусстве (поэзия, живопись, театр), так как еще за четыре года до революции в нашем маленьком куоккальском еловом лесу, как, впрочем, и в Петербурге и в Москве, наши встречи, часто – в присутствии других юных представителей «авангардного» искусства, постоянно сопровождались подобными спорами.
Это было время, когда Маяковский писал:
А ВЫ МОГЛИ БЫ?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых туб.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1913
Или еще:
СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
. . . . . . . . . . .
я встал,
шатаясь, полез через ноты…
. . . . . . . . . . .
бросился на деревянную шею…
. . . . . . . . . . .
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»
1914
Эти две коротенькие вещи я запомнил наизусть. Маяковский мне читал их, растянувшись на куоккальской траве: первую – с надменностью и грубостью, свойственными Маяковскому; вторую – с незабываемым драматическим патетизмом. Марксизм еще не успел проникнуть в его поэзию, тогда еще бесстрашно своеобразную.
1913 год был также годом, когда Маяковский, Бурлюк и Крученых опубликовали их знаменитый литературный манифест:
«Пощечина общественному вкусу».
В 1915 году Маяковский-футурист писал в поэме «Облако в штанах»:
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».
В те годы, едва перешагнув через призывной возраст, Маяковский уже говорил о вечности своей поэзии:
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
(«Я и Наполеон», 1915)
Но тогда уже он предсказывал и свою трагическую гибель:
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
(«Флейта-позвоночник», 1915)
Или:
Через столько-то, столько-то лет
– словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет…
(«Дешевая распродажа», 1916)
«С голода сдох» бездомный Велимир Хлебников. А Маяковский «встав под пистолет, поставил точку пули в своем конце».
Я следил за всем восхождением Маяковского. Если в нашей артистической среде его слава разрасталась достаточно быстро, то заставить принять его искусство широкими слоями читательских масс мог только какой-нибудь исключительный случай. Как всегда, это зависело от личного везения. На долю Хлебникова или Крученых такого везения не выпало.
Первый значительный (рекламный) успех в карьере Маяковского произошел в 1916 году. В эту эпоху знаменитость, популярность и литературный авторитет Максима Горького были в полном расцвете, и я помню до всех мелочей ночь, проведенную в подвале «Бродячей собаки». Среди символистов, акмеистов, футуристов, заумников и будетлян присутствовал там и Максим Горький. В уже довольно поздний час Владимир Маяковский, как всегда – с надменным видом, поднялся на крохотную эстраду под привычное улюлюканье так называемых «фармацевтов», то есть посетителей, не имевших никакого отношения к искусству. Маяковский произнес, обращаясь к ним:
– Я буду читать для Горького, а не для вас!
Гул «фармацевтов» удвоился. Максим Горький, равнодушный, оставался неподвижен.
Прочитав отрывок из поэмы «Война и мир» и два-три коротких лирических стихотворения, Маяковский сошел с эстрады.
– Болтовня! Ветряная мельница! – кричала публика.
Нахмурив брови, Горький встал со стула и твердым голосом произнес:
– Глумиться здесь не над чем. Это – очень серьезно. Да! В этом есть что-то большое. Даже если это большое касается только формы.
И, протянув руку гордо улыбавшемуся Маяковскому, он добавил:
– Молодой человек, я вас поздравляю!
Мы устроили овацию Горькому, и эта ночь превратилась в подлинный триумф Маяковского. Даже «фармацевты» аплодировали. На следующий день слухи о суждении Горького распространились в Петербурге, потом – в Москве. Продвижение Маяковского в литературной иерархии значительно ускорилось. Маяковскому было двадцать три года.
Чувство дружбы и уважения к Маяковскому до сих пор живо во мне. Я никогда не скажу о нем ничего дурного. Но мне неизбежно придется говорить о его трагической судьбе, судьбе поэта в Советском Союзе.
Драма Маяковского была нашей общей драмой, драмой молодых поэтов, писателей, художников, композиторов, деятелей театра. 1910—1920-е годы были в искусстве (и не только – в русском искусстве) наиболее динамическими в этом веке. Искусство находилось в полной революции своих форм выражения: кубизм, футуризм, пуризм, сюрреализм, абстрактность… Во всех его разветвлениях мы упорно бились против традиций, против «академического» искусства. Мы стремились освободить художественное творчество от предрассудков «буржуазного» искусства. Борьба не была легкой, но трудности еще более воодушевляли наш энтузиазм.
Хлебников и Маяковский (футуристы), Есенин и Мариенгоф (имажинисты) стояли среди поэтов в первых рядах этой борьбы.
Политическая и социальная революция приближалась и все более и более давала себя чувствовать в зимних тучах над русской землей и в особенности над Петербургом. Военные неудачи и хроника происшествий (убийство Распутина и пр.) подчеркивали возрастающее разложение режима.
Наивно (наша юность и наша ненависть к войне сыграли в этом значительную роль) мы поверили, как мне уже приходилось писать об этом, что революция социальная совпадает с революцией в искусстве. Мы поверили, что наша борьба за новые формы будет поддержана революцией социальной. Подлинные «вкусы», подлинные намерения и планы Ленина еще не были нам известны. Вот почему в 1917 году, когда прежний режим был свергнут, Маяковский кричал в поэме «Революция»:
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Маяковский был счастлив. Мы были все вдохновлены, так как многие стороны тысячелетнего Прежде представлялись нам отжившими и обреченными на исчезновение. Мы мечтали о новых формах в искусстве. Я помню, как в одну из мартовских (или апрельских) ночей 1917 года поэт Зданевич, блуждая со мной по Петербургу, уже республиканскому, сказал, говоря о Керенском, ставшем председателем Временного правительства:
– Надо бы издать сборник, посвященный Керенскому как первому вождю футуристического государства!
Идеи Интернационала воодушевляли нас. Война, то есть массовое убийство, прекратится. Мы, художники, поэты, артисты всех видов искусства, протягивали руки нашим товарищам всего мира. Мы стремились слить наши общие искания.
В 1919 году, два года спустя после Октября, Маяковский писал:
ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ
Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
. . . . . . . . .
Поднялся.
Шагает но Европе.
. . . . . . . . .
И уже
из лоска
тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
голландца революционеров.
А он
. . . . . . . . . .
Красный, встал над Парижем.
. . . . . . . . . .
а он – за Ла-манш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
. . . . . . . . . .
над океаном Атлантическим видели —
пронесся.
. . . . . . . . . .
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка…
Помеченные 1919 годом, это были видения поэта. Маяковский был тогда вполне искренен.
– Ты с ума сошел! – говорил он мне в одно из наших московских свиданий. – Сегодня ты еще не в партии? Черт знает что! Партия – это ленинский танк, на котором мы перегоним будущее!
Маяковский был еще «футуристом».
Однако марксистско-ленинский Интернационал оказался совсем другой вещью: это был интернационал агрессивный, «империалистический» и невероятно ретроградный. Мечтания нашей юности были обмануты. Мы почувствовали и поняли это довольно скоро, благодаря бездарным лозунгам и административно-полицейским мерам, выдвинутым ленинскими «вождями», а также убедившись в неприемлемости, в недопустимости диктаторского духа коммунистической партии.
В 1922 году Ленин, верный своему пониманию роли искусства, написал о Маяковском: «Случайно я прочел вчера в „Известиях“ одно стихотворение Маяковского на политическую тему… Я редко испытывал такое живое удовольствие с точки зрения политической и административной (!)… Я не берусь судить поэтические качества, но политически это совершенно правильно»[47]47
Ленин не писал этих строк о Маяковском. Здесь Анненковым пересказаны слова, произнесенные Лениным в речи «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г., на следующий день после публикации в газете «Известия» стихотворения Маяковского «Прозаседавшиеся» (см. Полн. собр. соч. В.И.Ленина, т. 45).
[Закрыть].
Маяковскому было двадцать шесть лет. Эта (невежественная) похвала Ленина оказалась вторым и наиболее мощным толчком в карьере (уже официальной) Маяковского: он был признан «лучшим поэтом Советского Союза»[48]48
«Маяковский был и остается лучшим, талантливым поэтом нашей советской эпохи» – эти слова Сталина, получившие широкую известность («талантливый» позднее исправлено на «талантливейший»), были наложены в качестве резолюции на письмо Л.Брик о растущем замалчивании роли Маяковского 4 декабря 1935 г., то есть через пять лет после смерти поэта.
[Закрыть], и его слава была провозглашена… обязательной.
Мировая война, две революции, гражданская война… Все лицо земли изменилось. Маяковский стал знаменитостью. Сколько событий предшествующих лет уже ускользнуло из памяти. Маяковский, Василий Каменский, еще кто-то и я, встретившись однажды в петербургском Доме искусств, играли в карты. Не на деньги: денег у нас тогда уже не было, были пайки. Выигравший должен был просто щелкнуть картой по носу проигравшего. Играли и щелкали. Но когда я проиграл Маяковскому, он швырнул мне в лицо всю колоду.
– Что ты?! – закричал я.
– Ничего особенного, – небрежно ответил Маяковский, – это мой отыгрыш за твой куоккальский крокет. У меня память свежая.
– А мои восемьдесят пять копеек в таком случае?
Маяковский, рассмеявшись:
– Фу, какой ты мелочный!
С того же года Маяковский становится всемогущим: он может делать «все, что захочет»: он может даже поехать за границу! И вот первое, чем он воспользовался как исключительной привилегией, было разрешение на выезд из Советского Союза, и 9 октября этого триумфального года Маяковский, возвышенный Лениным, выезжает в Берлин и в Париж, город, о котором я столько рассказывал Маяковскому и по отношению к которому я не скрывал моей привязанности.
Живя в Советском Союзе и перегруженный «социальными заказами» (главным образом – портретами «вождей»), я встретился в том же году с Маяковским только по его возвращении в Москву. Его впечатления, опубликованные в «Известиях», свидетельствовали еще раз о его наивности и почти детской эгоцентричности.
«Появление живого советского гражданина, – писал Маяковский, – вызывает везде сенсацию с нескрываемыми оттенками удивления, восторга и любопытства… Преобладает любопытство: передо мной почти выстраивался хвост. На протяжении часов меня забрасывали вопросами, начиная с внешнего облика Ленина».
Будем справедливы: Маяковский не знал, что про Брижиту Бардо, например (которая еще не «советская гражданка», но которая, следуя моде, может быть, однажды станет таковой), во французских газетах тоже напишут, и с неоспоримой точностью, что «ее появление вызывает повсюду сенсацию с нескрываемыми оттенками удивления, восторга и любопытства»; что «возле нее собираются всегда толпы фотографов» и что «полицейские бывают иногда вынуждены вмешиваться, чтобы высвободить ее из толпы», и т. д. Я читал также в газетах, что для встречи ББ в Венеции, куда она приезжала на кинематографический фестиваль 1958 года (и где ее фильм бесшумно утонул, что особенно легко в Венеции), было мобилизовано 435 гондол. Не читал ли я тоже в газетах, что в США «60 миллионов телезрителей жаждут увидеть мистера ББ», так как «американцы, а особенно их жены, хотят познакомиться с мужчиной, которого ББ выбрала своим мужем»?
А целая литература о лысом черепе Юла Бриннера?
И т. д.
Разумеется, до сих пор никто не спрашивал ББ о внешнем облике Ленина; с ней говорят главным образом о ее собственной внешности. Но сюжет остается тот же, несмотря на то, что, в противоположность Ленину, физические качества ББ бывают иногда очаровательны: непричесанная, юная капризница, которая ворчит…
Но если «появление советского гражданина» вызвало в Париже «удивление, восторг и любопытство», то этот город в свою очередь возбуждал те же чувства в «советском» Маяковском, которого Париж видел у себя снова в 1924, 1925, 1927, 1928 и 1929 годах.
Я встречал Маяковского в Париже в 1924 и 1925 году: на улицах, в кафе, в ресторанах, на художественных выставках, а также и на приемах в посольстве (тогда еще – полпредстве: полномочном представительстве) СССР. Я помню даже, как мы оба были приглашены в качестве представителей «советской общественности» присутствовать при торжественной встрече на Северном вокзале Леонида Красина, первого полномочного представителя СССР во Франции, в день его прибытия в Париж. Перрон был переполнен журналистами, фотографами, представителями французского правительства, только что признавшего СССР de jure, случайными любопытными и – больше всего – полицейскими. Некто Волин, являвшийся неофициальным делегатом СССР для подготовки приезда Красина, представил нас ему, после чего, пробившись сквозь толпу, Маяковский и я взяли такси и отправились вдвоем вслед за официальными машинами на улицу Гренель, где Красин, едва успев подняться по ступенькам на крыльцо покинутого В.Маклаковым посольского помещения, обернулся к собравшимся вокруг него членам французского Министерства иностранных дел, журналистам и некоторым французским политическим деятелям (среди которых я запомнил Анатоля де Монзи и Эдуарда Эррио) и произнес по-французски «историческую» фразу:
– Милостивые государыни и милостивые государи! С моим приездом во Францию здесь водворяется социальная революция.
Никто не возразил. Но все поднялись в салоны глотнуть поддельной «советской» водки, изготовленной в Париже, и закусить неизменной икрой, поставлявшейся советскому полпредству русским эмигрантом.
Маяковский очень любил Париж, тяготел к Парижу. Переулки, площади, уличная оживленность, насыщенность художественной жизни, монпарнасские кафе, ночное освещение – обо всем этом он часто говорил со мной, не скрывая своих чувств. Иногда, впрочем, он прибавлял (с убежденным видом и, может быть, тогда еще искренно), что через два или три года Москва превзойдет Париж во всех областях. Однажды Маяковский торжествующим жестом указал мне на валявшихся на тротуаре бродяг.
– А бездомные дети в СССР? – возразил я.
Ответ последовал немедленно:
– Что же ты хочешь? Это – наследство капиталистического режима.
1924 год – год смерти Ленина (в январе) – позволял еще артистам (художникам, поэтам, композиторам) известную свободу формальных исканий. Но уже в 1925 году климат значительно изменился. Восхождение Сталина началось. Начиная с этого года было бы уже ложным думать, что наезды в Париж оставались для Маяковского простым туристическим развлечением. Далеко не так. Фаворит советской власти, Маяковский должен был всякий раз после своего возвращения в Советский Союз давать отчет о своем путешествии, иначе говоря – печатать свои впечатления поэта в стихах, впечатления, выгодные для советского режима и для коммунистической пропаганды. Он должен был в своих поэмах, написанных в Париже, показывать советским людям, что СССР во всех отраслях перегоняет Запад, где страны и народы гниют под игом «упадочного капитализма». Этой ценой Маяковский оплачивал свое право на переезд через границы «земного рая».
Содержание парижских поэм Маяковского (мне известны двенадцать) становится все более и более предвзятым, контролируемым советской властью, и разложение его творчества начинает проявлять все более очевидные признаки.
Отрывки из поэмы, носящей название «Notre-Dame»:
Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.
. . . . . . .
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сиденья.
Маяковский прочел мне это стихотворение в Париже и расхохотался.