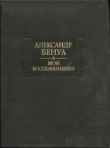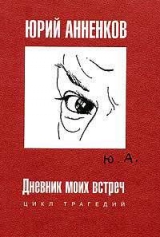
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Выстрелы, и опять – тьма. И вдруг действие переносилось во внутренность Зимнего дворца, где в осветившихся окнах второго этажа начались силуэтные сцены сражений…
Канва спектакля была создана «коллективным автором». Председателем был избран Евреинов. В эту канву (сценарий) каждый из нас вносил свои идеи. Перенесение действия за окна Зимнего дворца было моей выдумкой. Об этих силуэтных боях Адриан Пиотровский писал в своей книге «За советский театр!» (изд. Гос. инст. истории искусства, «Academia», Ленинград, 1925): «Одновременно и счастливая выдумка, и острая неудача. Окна дворца зажглись, он ожил. Какое развитие реального, живого пространства! Да, но введение его в действие случайно, оживление его не мотивировано предшествующим действием, целиком развивавшимся на двух противоположных площадках. Перенос фокуса внимания на третий предмет был слишком внезапен».
Николай Петров в своей книге «50 и 500» (изд. Всероссийского театрального общества, Москва, 1960) говорит об этой сцене несколько подробнее: «Дворец становился главным действующим лицом. Он был весь темный. Но как только восставшие врывались во двор… прожектора начинали беспокойно метаться по крыше. Дворец сразу же превращался в силуэт, и тотчас же во всех его окнах вспыхивал свет. В окнах были спущены белые шторы, а на их фоне – приемом театра китайских теней – разыгрывались маленькие пантомимы боя. Этот эпизод в представлении так и назывался „Силуэтный бой“. Поединки в окнах кончались победой восставших. Все прожектора – и „Авроры“, и с Дворцовой площади – концентрировались на огромном красном знамени, взвившемся над дворцом, и во всех окнах вспыхивал красный свет».
Однако если моя силуэтная выдумка (как члена «коллективного автора») несколько смутила А.Пиотровского, то как автор всего декоративного оформления спектакля я в той же статье Пиотровского с удовольствием прочел следующее: «Все же заключительная атака освещенных факелами автомобилей была несомненно эффектна. Эффектным и в известном смысле величественным было и все зрелище, в особенности фантастические, пылающие в ночи огнями огромных рамп города постройки Анненкова».
Страшная фраза административного помощника Дмитрия Темкина сыграла весьма полезную роль…
Массовый актер «в этот памятный день выявил творческие способности первой мировой театральной армии», – писал Евреинов в своих воспоминаниях («Histoire du Thêatre Russe», изд. du Chene, Париж, 1947).
Когда в спектакле дошла очередь до выстрелов «Авроры», заведующий сигнализацией нажал соответствующую кнопку. Раздался залп. Потом – другой и третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить выстрелы, но пальба продолжалась: пять, восемь, десять… В отчаянии мы все тыкали пальцем в кнопку, но скоро поняли, что электрический ток, соединявший нас с крейсером, был прерван. Канонада была неудержима. Гуго Варлих, управлявший в нашем зрелище оркестром, который должен был «грянуть» победную музыку сразу же после третьего выстрела, безнадежно кричал нам в телефонную трубку:
– Когда же? Когда же?! Когда же?!
– Может быть, никогда! – произнес Евреинов и расхохотался.
Пришлось выручать положение иными способами. Я хорошо запомнил лицо и кожаную куртку («кожанку») одного из юных помощников режиссера. Вавилов, Санька (где он теперь? что с ним?), который, с трудом пробравшись со своим велосипедом сквозь стопятидесятитысячную толпу зрителей, заполнивших площадь, выехал на набережную и, докатив до «Авроры», приостановил канонаду. Спектакль, по счастью, продолжал развиваться безостановочно, так как остальные режиссерские сигналы не пострадали.
Наконец «грянул» оркестр, и бесчисленные зрители даже не ощутили драматического недоразумения, приняв канонаду за боевой аккомпанемент.
Лев Никулин, принимавший участие в составлении «сценария» нашего зрелища, писал позже в своих «Записках спутника» (гл. 3-я, «Балтика», 1932 г.): «Не помню, кому пришло в голову поставить на площади Урицкого, на бывшей Дворцовой площади, массовую социальную феерию „Взятие Зимнего дворца“… Штаб действовал совершенно по-военному, он мобилизовал режиссеров и художников, актеров и воинские части… Построили декорации таких размеров, каких, вероятно, не было никогда. Затем построили трибуны по правую и по левую руку колоссальной сцены и начали репетиции. Они происходили ночью в Гербовом зале Зимнего дворца. Полторы тысячи актеров и статистов, потрясая оружием, бегали и кричали и безумствовали в огромном оранжево-черном Гербовом зале. Отряд режиссеров пытался внести некоторую организованность в хаос, но все это было началом, цветочками, потому что на площади участвующих должно было быть не менее десяти тысяч. Три ночи мы провели в Зимнем дворце и сделали не один и не десять километров по скудно освещенным переходам и коридорам дворца. Со времени 7 ноября 1917 года, я полагаю, дворец не видел таких бурных ночей… Спали не раздеваясь, в шинелях и сапогах, на обитых малиновым штофом золоченых диванах… Резали хлеб на малахитовых столах, спорили и ругались, не избегая самых крепких слов в собственных его величества Александра Второго покоях. Творческий азарт художников и административный восторг организаторов доходил до экстаза… Нужно добавить, что исторический крейсер „Аврора“ прибыл в ту ночь из Кронштадта и стал на якорь у Николаевского моста… Все благоприятствовало зрелищу, за исключением погоды. Только энергия штаба могла заставить отважных актрис появиться на самой большой в мире сцене в открытых бальных платьях. Петроградская осень приготовила самую отвратительную погоду. Снег с дождем… Однако, несмотря на погоду, Зимний дворец был взят с редким энтузиазмом…»

Иван Пуни
Дальше Л.Никулин, вспоминая, как мы возвращались вместе домой, говорит, что «Ю.Анненков, автор декораций ко „Взятию Зимнего дворца“, шел рядом и мечтал о том, где можно воспроизвести рисунок замечательного спектакля… Рисунок (все, что осталось от той ночи) был воспроизведен в единственном в ту пору литературно-художественном журнале „Красный милиционер“. Да, журнал именно так и назывался, но в нем не было ничего, имеющего прямое отношение к милиции и городской охране. Он печатался на превосходной бумаге, в нем печатались Шкловский и некоторые формалисты, его иллюстрировал Анненков…»
В упомянутой выше книге «50 и 500» Николая Петрова можно также прочесть: «„Красной площадкой“ руководил я, а режиссура „белой площадки“ была поручена А.Р.Кугелю, К.П.Державину и Ю.П.Анненкову (он же являлся и художником всей постановки). Общим руководителем был Н.Н.Евреинов… За проделанную работу режиссура получила следующее вознаграждение: А.Р.Кугель, Ю.П.Анненков, К.П.Державин и автор этих строк (Н.Петров) получили паек табаку на сто папирос и по два кило мороженых яблок, а Н.Н.Евреинов как общий руководитель (хотя он, по правде сказать, почти ничего не делал)[165]165
Это, конечно, чересчур преувеличено.
[Закрыть] получил еще шубу на лисьем меху».
Этот же эпизод был также рассказан и в очень значительном труде Марка Слонима «Russian Theater» (изд. The World Publishing Company, Нью-Йорк, 1961). Но ни Н.Петров, ни М.Слоним, к сожалению, не добавили (вероятно, по неосведомленности), что три дня спустя после «празднества» Евреинов, отоспавшись, вызвал к себе юного помощника режиссера и в благодарность подарил ему свою лисью шубу.
У меня сохраняется пожелтевший экземпляр сценария «Взятия Зимнего дворца» (своего рода исторический документ) и, кроме того, «требование личного состава» для «белой» правой трибуны, режиссура которой частично находилась в моих руках.
«Белая:
Правая трибуна
Требование личного состава
125 – балетных артистов
100 – циркачей
1750 – статистов и студистов
200 – женщин, желательно студисток
260 – вторых артистов и
150 – сотрудников
А также: Лопухов, Масловская, И.Дворищин и 18 помощников.
Подписано: Ю.Анненков
Утверждено: Д.Т.[166]166
Дмитрий Темкин.
[Закрыть], ИС.К.[167]167
Исполнительный комитет.
[Закрыть]
21/IX 1920».
О зрелище «Взятие Зимнего дворца» упоминается почти во всех трудах (энциклопедии, монографии, статьи), посвященных истории современного театра, вышедших в разных странах и на разных языках. Кроме процитированных здесь уже книг А.Пиотровского («За советский театр!»), Н.Петрова («50 и 500»), Л.Никулина («Записки спутника») и журнала «Красный милиционер» (№ 4, Петербург, 1920), я назову здесь лишь те из этих книг и статей, которые находятся у меня под руками:
Б.Казанский. «Метод театра» (изд. «Academia», Ленинград, 1926).
А.Пиотровский. «Хроника ленинградских празднеств 1919—22 г.» – статья, помещенная в сборнике «Массовые празднества» (изд. Гос. института истории искусств, Ленинград, 1926[168]168
Academia. Л., 1926.
[Закрыть]).
Г.Крыжицкий. «Режиссерские портреты» (изд. «Теа-кинопечать», Ленинград, 1928).
Fulop Miller. «Das russische Têater», 1928.
«История советского театра» (Гос. изд., Ленинград, 1933).
N.Gourfinkel. «Thêatre Russe Contemporain» (êd. Albert, Париж, 1933).
Michel Philippe. «Prêsentation de Nicolas Evrenov» («revue ucation et Thêatre», Париж, 1953).
N.Evrenff. «Histoire du Thêatre Russe» (êd. du Chêne, Париж, 1947).
G.Annenkov. «En habillant les vedettes» (êd. Robert Marin, Париж, 1951).
Ettоre Lo Gatto. «Storia del Teatro Russo» (ed. G.C.Sansoni, Флоренция, 1952).
«Larousse du XX-e siecle» (Энциклопедия), Париж, 1953.
«Enciclopedia dello Spettacolo» (ed. Le Maschere, Рим, 1954).
Raymand Cogniat. «Cinquante ans de Spectacle en France, les Dêcorateurs de Thêatre» (êd. «Librairie Thêatre», Париж, 1955).
Н.А.Горчаков. «История советского театра» (Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1956).
Michel Seuphor. «Dictionnaire de la peinture abstraite» (êd. Fernand Hazan, Париж, 1957).
L.Dominique. «G.Annenkov» (Париж, 1958).
Angelo Maria Ripellino. «Majakovskij e il Teatro Russo d’avanguardia» (изд. Giulio Einaudi, 1959).
И эта же книга, изданная на французском языке:
Angelo Maria Ripellino. «Maiakovski et le Thêatre russe d’avant-garde» (изд. L’arche êditeur a Paris, 1965).
Но встречалась в прессе и невежественная путаница. Так, например, в объемистой книге Камиллы Грей «The Great Experiment: Russian Art 1863–1922» (изд. Thames and Hudson Ltd., Лондон, 1962), где напечатана фотография моих декораций к «Взятию Зимнего дворца» (1920), говорится, что этот спектакль был исполнен в 1918 году художниками Натаном Альтманом, Иваном Пуни и его женой Ксенией Богуславской (которую я знал еще молоденькой красавицей, воспитанницей одного из петербургских институтов «для благородных девиц»). Имена Евреинова и других действительных участников создания этого зрелища в книге Камиллы Грей не упоминаются. Все же три названных художника не имели к этому зрелищу никакого отношения. Что же касается Пуни и Богуславской, то в октябре 1920 года они жили уже в эмиграции, за границей, о чем свидетельствует следующее письмо Богуславской:
«11-9-63
По просьбе г-жи Евреиновой я подтверждаю, что ни мой муж Иван Пуни, ни я (К.Богуславская) не участвовали в создании декораций к зрелищу „Взятие Зимнего дворца“ в Ленинграде в ноябре 1920 года, будучи в ту эпоху уже за границей. Путаница вызвана тем фактом, что в 1918 году, к первой годовщине революции, Пуни, я, Альтман и четыре других товарища исполняли огромные плакаты, лозунги и афиши в залах Зимнего дворца.
К.Пуни (Богуславская)».
Почти сразу же после своего возвращения с Кавказа Евреинов передал мне для прочтения рукопись обещанной пьесы «Самое главное» («для кого комедия, а для кого драма», в четырех действиях). Почему он передал ее именно мне? Дело в том, что в 1920 году режиссер Николай Петров (Коля Петер), поэт Лев Никулин (бывший одновременно со мной «сатириконцем») и я основали, с согласия Театрального отдела, руководимого в Петербурге М.Ф.Андреевой, женой Максима Горького, государственный (все тогда было уже «государственным») театр «Вольная комедия» и стали его дирекцией. Театр находился в скромном подвальном помещении на Итальянской улице. Подвал был перестроен по моим проектам, и я же расписал его. Наш репертуар должен был состоять из спектаклей, еще нигде не показанных, и преимущественно из одноактных пьес на «злободневные» темы.
Евреинов и я были уже давними друзьями, и поэтому его пьеса попала прежде всего в мои руки.
Я прочитал «Самое главное» в тот же вечер и наутро дал Евреинову утвердительный ответ: пьеса будет поставлена в нашем театре. «Самое главное» меня чрезвычайно заинтересовало. Можно как угодно относиться к этому произведению, но нельзя отрицать его несомненной оригинальности. «Самое главное» не вызывает в нашей памяти никакой другой пьесы. Его сюжет стоит особняком в современной драматургии. Даже не только сюжет, но и самое понимание театра и назначение актера, выраженное в пьесе. Евреинов предлагает актерам покинуть профессиональный театр и заняться применением своего «амплуа» в повседневной жизни: «первому любовнику» разыгрывать роль влюбленного в несчастную некрасивую девушку; красавице-босоножке – увлечь собой студента, уже покушавшегося на самоубийство; комику – развлекать и веселить людей в их тусклой будничной жизни и т. д.

Николай Петров
Сверх того, пьеса Евреинова глубоко человечна. Евреинов предлагает актеру «реально, а не эфемерно приносить пользу другим». «Высшая задача искусства, – говорится в пьесе, – это наполнить своим проявлением жизнь, подобно тому, как цветок наполняет своим ароматом воздух! Претворить жизнь в искусство! Достичь искусства жизни! Думали ли вы когда-нибудь об этом, вы, старые кормчие театральных кораблей?»
Нет. Конечно, «старые кормчие театральных кораблей» об этом не думали. Их горизонты ограничивались театральными подмостками или, в крайнем случае, закулисными интригами.
«Арлекин, Пьеро, Коломбина и доктор из Болоньи! – восклицает Евреинов. – Вы воскресли, друзья мои! Вновь воскресли! Но уже не для театра только, а для самой жизни, опресневшей без нашего перца, соли и сахара! Мы вмешались в жизненный пирог, как приправа, без которой он ничего не стоит на вкус, и подрумянили его огнем нашей любви, как праздничную булку! Слава настоящим артистам, спасающим своим искусством жалкие комедии несчастных дилетантов!»
Пьеса, написанная для театра и восстающая против него же, против театра. Парадокс, единственный в своем роде.
Но еще более заинтересовала меня форма этого спектакля: параллельное развитие и переплетение обыденной жизни и жизни придуманной, грусть и скука обывательщины рядом с карнавальной красочностью итальянской комедии. У Чехова или у Горького этого не сыщешь.
После нескольких дней предварительных обсуждений, горячих споров, затягивавшихся «далеко за полночь», мы приступили к постановке. Евреинов наотрез отказался от режиссуры, и ее взял на себя Николай Петров. Декорации и костюмы были поручены мне. Репетиции пошли полным ходом. Евреинов держался в стороне и почти никогда не заходил в театр. Труппа состояла преимущественно из молодых и в большинстве очень талантливых актеров. Две—три юные актрисы поражали своей грацией и красотой, несмотря на свои затасканные, полинялые, подштопанные платья и мятые валенки (нэп тогда еще едва намечался в мозгу Ленина). Здесь нельзя не добавить, что в эти самые дни Петербург переживал большие волнения: репетиции «Самого главного» происходили в период Кронштадтского восстания. Вспоминая об этом в «Записках спутника», Лев Никулин, заведующий литературной частью нашего театра, рассказывает, что «актеры выбегали на улицу прислушиваться к канонаде. Гудели пушки „Петропавловска“…»
Наиболее неожиданным оказалось для нас всех то, что актеры прекрасно справлялись с той частью их роли, где они изображали актеров, долженствующих играть на сцене, но спотыкались о целый ряд затруднений в тех местах пьесы, где они превращались в актеров, играющих в жизни. Затруднения этого рода носили типично профессиональный характер: «играть» роль на сцене – даже в самых реалистических тонах (например, у Станиславского) – прямое назначение актера, основа его творческой натуры. Скрывать «игру», делать ее невидимой, неощутимой – оказалось в противоречии с этой натурой.
Я помню оживленные разговоры, происходившие у нас с Николаем Петровым по этому поводу. Нам казалось иногда, что актер, играющий в жизни, а не в театре, не столько превращает жизнь в театр, сколько самого себя превращает из актера в лицемера, в лгуна. Но мы сознавали, однако, или, вернее, чувствовали, что нравственный, моральный смысл пьесы Евреинова категорически опровергает подобную версию. Как-то раз, когда постановка «Самого главного» приближалась уже к генеральной репетиции, Евреинов спросил меня:
– Сказать умирающему, что все поправимо и что он выживет, есть ли это лицемерие или акт доброты, благодеяние?
Этой фразой, казалось бы, он формулировал всю сущность своей пьесы. Однако несмотря на это, репетиционная практика и часто возникавшие в это время рассуждения и споры показывали, что между актерской игрой в обыденной жизни, игрой, не отгороженной от зрителя рампой или иными сценическими условностями, и превращением жизни в театр (идея Евреинова) лежит огромная пропасть. Присутствие такой пропасти становилось порой настолько ощутимым, что в репетиционный, довольно длительный период Евреинов счел нужным вносить время от времени некоторые изменения в первоначальный текст пьесы, а Николай Петров закричал однажды во время репетиции благим матом:
– Товарищи! Да ведь здесь же вы все-таки в театре!
И, обернувшись к электротехнику:
– Прохор! Давай полную рампу, черт подери!!!
Все эти сложности «подымали настроение» участников постановки и в особенности актеров (главным образом тех из них, кому достались роли актеров, играющих в жизни: Шмитгоф – в роли Параклета, «meneur de jeux», обаятельная Валя Щипалова – «танцовщица-босоножка» и др.).
Наряду с моральной стороной пьесы и с затруднениями актеров, постепенно преодолевавшимися, стояли передо мной лично проблемы ее декоративного оформления. Если в первом действии «небольшая комнатка» гадалки, «с бедным убранством, среди которого сразу же обращают на себя внимание три чучела: совы со светящимися глазами, водруженной на кронштейн, большой летучей мыши, свешивающейся с потолка, и тощего черного кота, сомнительно украшающего стол гадалки», а также развешанные по стенам «старинные карты звездного неба», «оракулы» со знаками зодиака, гороскопы, фотографии медиумических эманаций, явлений духов и т. п.; если отсутствие декораций во втором акте; если банальный натурализм меблированных комнат Марьи Яковлевны в третьем акте не представляли, в общем, больших сложностей и не вызывали особого напряжения фантазии, то карнавально-фантастическое превращение этих комнат в четвертом акте, апофеоз превращения жизни в театр требовали от декоратора большой игры воображения и изобретательности.
Евреинов чувствовал необходимость быстрых, мгновенных зрелищных перемен. Отсюда – его режиссерские «ремарки» в тексте четвертого акта: «Свет на секунду гаснет», «Снова комната наполняется светом»… Но мне этот секундный мрак или мгновенное возвращение света казались недостаточными. Я искал нечто более непредвиденное, более убедительное, более красочное. Я задумывался ночами на эту тему и вдруг увидел падающий с потолка многоцветный ленточный занавес, то есть не с потолка, а с невидимых колосников сцены, так как потолок на сцене всегда казался мне прижимом, преградой для воображения зрителя. Этот непредвиденный ленточный занавес представлялся мне тем более оправданным, что в этом действии летали по сцене и конфетти, и серпантин. Широкие и семиаршинной длины ленты являлись для меня увеличенным серпантином, или, как говорят кинематографические работники, «большим планом», «первым планом» серпантина.

Шарль Дюллен
«Свет на секунду гаснет» – это было для меня на сцене не более чем «технический прием», тогда как появление ленточного занавеса становилось обогащением зрелища, входило в действие как новый живой, динамический элемент. Я рассказал о моей выдумке Евреинову, и она ему очень понравилась. Николай Петров тоже немедленно согласился со мной. Теперь предстояло самое трудное (для меня). Шел двадцать первый год, год Кронштадтского восстания, мы спали в шубах и в валенках, питались пайковыми суррогатами, но мы не покидали искусства, мы «строили» театр и ставили «Самое главное», пьесу Евреинова, не имевшую ничего общего с марксизмом-ленинизмом.
Мой друг художник Александр Божерянов был привлечен мной к декоративной части постановки в качестве моего «сообщника». Божерянов и я делали все возможное, законное и «противозаконное» («чернобиржевое»), чтобы раздобыть материал для моего занавеса. Это было тем более трудно, что ленты должны были быть шелковыми, атласными и при игре света рампы и софитов отливать всеми цветами радуги. Но в каких-то тайных подворотнях и на «нелегальных» рынках, где торговцы разбегались при первом появлении милиционера, нам все же удалось, при нашем терпении и настойчивости, накопить необходимый материал.
Когда впервые, на одной из последних репетиций, занавес упал наконец с колосников, разноцветные ленты вихрем разлетелись по всем направлениям – вправо, влево, в глубину сцены и, через рампу, над первыми рядами кресел. Потом ленты смирились и сомкнулись волнующейся полосатой стеной. Немедленно сквозь занавес – то там, то сям – стали проникать на авансцену и снова ускальзывать между лент действующие лица.
– Хо-хо!.. О-ля-ля!.. Добро пожаловать!.. Звените, бубенчики!.. Цветите, цветы!.. Радуйся весне, вечно юное сердце… Звоните, колокола!.. Торжествуй, солнце!.. Пляшите, звезды!..
Вся сцена заколыхалась в волнах ленточного моря. Влюбленная девушка забросала серпантином Пьеро, «любовно обвивая его эфемерными узами»… Серпантин перемешался с занавесом…
Пьеса Евреинова имела огромный успех. Зрители не только аплодировали, они топали сапогами, ботинками, валенками, без конца вызывали автора и всех участников постановки. Больше того: когда на «премьере» в последней фразе Режиссер (одно из действующих лиц пьесы, а не Петров), зажигая бенгальский огонь, закричал ко всем окружающим его актерам и, конечно, к зрительному залу:
– Господа, общие танцы!.. Музыка! Начинайте!.. Смейтесь! – невероятное случилось: многие зрители кинулись по ступенькам на сцену и в неудержимом порыве слились в танце с костюмированными актерами – арлекинами, коломбинами, римскими сенаторами, маркизами…
В своей книге «Искусственная жизнь», изданной в Петербурге в 1921 году, Александр Беленсон в статье «Самое главное о „Самом главном“» описывал «театральный разъезд» после первого представления этой пьесы. Вот разговор двух зрителей:
– Недурен конец четвертого акта, завершающий представление чарующим шумановским карнавалом. Построение групп, темп движений превосходно оттеняют скрытую за обилием бытовых деталей фантастичность авторского замысла.
– И все-таки, отнимите от постановки декорации Анненкова, хотя бы только занавес из лент, неожиданным взлетом преображающий бедную меблированную комнатку в волшебный зал, отнимите костюмы четырех хорошо знакомых всем нам персонажей, среди которых – причудливый костюм Коломбины, напоминающий сказочный цветок, и…
– Зачем же отнимать! Режиссер и художник, соединившись в мастерстве, создали, не прибегая к помощи трюков, театральное зрелище, долженствующее воплотить чудовищно оригинальную идею автора…
Впоследствии мой ленточный занавес повторялся также в некоторых заграничных постановках «Самого главного».
О нашей постановке этой пьесы Н.Петров писал («50 и 500»): «После третьего акта зрители устроили нам овацию, мы выходили кланяться раз двадцать, а может быть, и больше. Этот спектакль прошел более ста раз за один сезон, что, естественно, наложило определенный отпечаток на репертуар театра. Мы не понимали тогда, что „Самое главное“, вступив в острейшие противоречия с одноактными сатирическими сценами на темы сегодняшнего дня, выражало, конечно, иную по сравнению с установленной программой театра идеологию. Успех же пьесы объясняется тем, что сделана она была мастерски и хорошо игралась, а одноактные программные спектакли очень быстро сходили с репертуара и часто не достигали цели из-за своей обнаженной тенденции и низкого художественного качества».
И – Н.Евреинов: «Смысл жизни для ребенка – игра. Смысл жизни для дикаря – тоже игра. Знаем ли мы другой смысл жизни, мы, неверующие, разочарованные не только в значении ценностей этических и научных, но и в самом скептицизме? Мы можем только рассказывать друг другу сказки; смешить, пугать или восторгать выдуманными нами личинами; обращать силу, знания, любовь и ненависть в некое сценическое представление, где все хорошо, что зрелищно, полно интриги, красиво и музыкально и что отвлекает нас от входных дверей, за которыми нет больше театра, нет сказки, нет мира нашей воли, непрестанно играющей потому, что ей играется».
Первое представление «Самого главного» состоялось в Петербурге, в театре «Вольная комедия» 20 февраля 1921 года. Но думали ли мы тогда, Петров и я, ставя эту пьесу в занесенном снегом, обледенелом городе Петра, что она обойдет весь мир, будет сыграна в двадцати шести странах? Италия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Голландия, Бельгия, Китай, Испания, Франция, Германия, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Австрия, Аргентина, Португалия, Англия, всех не перечислить… Разве мы предполагали, что она будет поставлена в Париже Шарлем Дюлленом и запечатлена на экране Марселем Л’Эрбье?
Во Франции и вообще за границей «Самое главное» было переименовано в «Комедию счастья».
Вскоре после премьеры в «Вольной комедии» «Самое главное» было впервые отпечатано отдельной книгой в Государственном издательстве в Петербурге. Книга вышла в моей обложке, изображавшей Арлекина, распятого на кресте. У меня хранится книга Э.Ф.Голлербаха «Современная обложка» (изд. Академии художеств, Ленинград, 1927), где моя обложка к «Самому главному» прекрасно воспроизведена в двух красках (черное и малиновое) и где Э.Голлербах очень лестно говорит, что «Ю.П.Анненков, В.В.Лебедев, В.М.Ходасевич, Н.Кульбин и мн. др. способствовали освобождению современной обложки от мирискуснического неоклассицизма, они явились таранами, пробившими искусственный мрамор холодных стен мирискуснической обители, они согрели чопорную графику дыханием живой страсти, пламенем исканий».
Моя обложка к «Самому главному» воспроизведена также в «Истории советского театра» (Ленинград, 1933).
В 1921 году в том же театре «Вольная комедия» была возобновлена пьеса Евреинова «В кулисах души», но на этот раз – в моих декорациях и костюмах. В «Кривом зеркале» она была представлена в декорациях самого Евреинова. В 1922 году я также сделал декорации и костюмы к возобновленной на сцене «Вольной комедии» евреиновской пьесе «Коломбина сего дня», прошедшей в «Кривом зеркале» в декорациях и костюмах художницы А.Мисс (сотрудницы журнала «Сатирикон»). То же самое произошло и с новой постановкой «Кухни смеха», названной в «Вольной комедии» «Международным конкурсом остроумия». В чьих декорациях шла «Кухня смеха» в «Кривом зеркале», я не помню.
Пьесы Евреинова, прошедшие в театре «Вольная комедия», стали моим последним сотрудничеством с Н.Н.Евреиновым, моим другом Николашей.
Впрочем, намечалось еще одно, уже – в парижский период: Евреинов должен был ставить в Национальном пражском (а не парижском) театре в 1935 году «Горе от ума» А.Грибоедова с моими декорациями и костюмами. Переговоры были уже почти закончены. У меня сохранилась открытка Евреинова, касающаяся этого вопроса:
«2-Х-935
Дорогой Юрочка,
будь добр – позвони мне завтра часов в 11 утречком насчет Праги: они согласны, но мало дают, т. к. в Министерстве новые сметы для театра. Но я безумно хочу, чтобы ты! и верю – мы с тобой замечательную постановку выдумаем.
Твой N.Evreinoff».
По несчастному совпадению неожиданное продление одного из моих кинематографических контрактов не позволило мне выехать из Парижа, и я вынужден был в последний момент отказаться от пражской работы. Евреинов поставил «Горе от ума» с другим декоратором.
Несмотря, однако, на эту неудачу, мои парижские встречи с Евреиновым продолжались до последних дней его жизни. Вот еще одна открытка (Евреинов почти всегда писал на открытках):
«26-6-944 Aut. 18–46
Дорогой Юрочка,
мне давно хочется повидаться с тобой и спросить у тебя совета и относительно готовящейся монографии (в которой жду от тебя блестящей „темирязевской“[169]169
Борис Темирязев – мой литературный псевдоним.
[Закрыть] статьи подлинного [170]170
Выделено Евреиновым.
[Закрыть] театроведа), и относительно очень забавного qui pro quo с нашим „Театром Рус. Драмы“, и о кой о чем другом. Если бы ты был так добр позвонить мне утречком, часов до 11-ти, мы бы сговорились о свидании. Я все эти 20 лет очень много о тебе думаю, а видимся мы – „кот наплакал“, в смысле времени. Я бесконечно благодарен тебе за твой отклик на мое 40-летие, исполняющееся в 1945 г.[171]171
Сорокалетие театральной деятельности Евреинова: 1905—1945.
[Закрыть]Любящий тебя
Н.Евреинов»
Теперь – открытка просто дружеская:
«12-7-944
Дорогой Юрочка,
протелефонируй мне, дружок, утречком, когда мы с тобою увидимся.
Мой телефон все тот же: Aut. 18–46.
Любящий тебя
Николаша Евреинов».
И еще одна, бессловесная, но с фотографией: слева сидит седой Николай Римский-Корсаков, справа – толстый Александр Глазунов, а посередине, чуть-чуть за ними, юный красавец – Н.Евреинов. Под фотографией – печатная французская надпись: Conservatoire de Saint-Petersbourg, 1905.
Кроме «Самого главного», многие пьесы Евреинова были показаны на иностранных сценах: «Представление любви» – в Эстонии и Германии; «Театр вечной войны» – в Польше и в Италии; «Корабль праведных» – в Польше, в Сербии, в Чехословакии и в США; «Веселая смерть» – в Париже, в театре «Старая голубятня» в 1922 году, в театре «Ателье» – в 1963 году и в Риме в Театре Пиранделло в 1925 году; «История русской драмы» – в Париже, в театре Salle d’Iêna, и там же в 1930 году – пантомима «Коломбина сего дня» в исполнении замечательной русской пантомимной актрисы Бэллы Рейн, выступавшей в этой пьесе еще в Петербурге в «Вольной комедии», где она играла и в «Самом главном» в роли машинистки Любочки. В казино «Монпарнас» – «Comêdie Infernale». В театре «Бродячие комедианты» была поставлена на русском языке пьеса «Муж, жена и любовник» (написанная уже в Париже), с участием Е.Рощиной-Инсаровой и М.Разумного, с которым я подружился еще в «Кривом зеркале»… В оперном театре в Монте-Карло в 1946 году была осуществлена постановка балета «Шота Руставели» (либретто Евреинова, музыка А.Онеггера, Н.Черепнина и Арсани, хореография С.Лифаря, декорации князя А.К.Шервашидзе). Этот же балет был представлен в Париже, в театре «Ателье», в 1963 году…
Энергия постановщика в Евреинове тоже не угасала. Кроме «Горя от ума» (в Праге), поставил также «Свою семью» Грибоедова[172]172
Комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» была написана А.Шаховским с помощью А.Грибоедова и Н.Хмельницкого.
[Закрыть] в Париже, в русском театре Salle d’Iêna, пригласив меня в качестве художественного советника. Там же – «Ничего подобного» Н.А.Тэффи и «Вечер Козьмы Пруткова». Затем в Большом театре Елисейских Полей Евреиновым были поставлены «Руслан и Людмила» М.Глинки, «Снегурочка» и «Царь Салтан» Н.Римского-Корсакова; в Театре Ришелье – «Недоросль» Д.Фонвизина; в театре «Старая голубятня» – «Отче наш» Франсуа Коппе и «Медведь и паша» Евгения Скриба; в театре de l’Avenue – «Ржавчина» В.Киршона (на французском языке, в переводе Фернанда Нозьера)… Список далеко не полный.