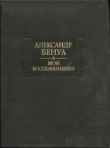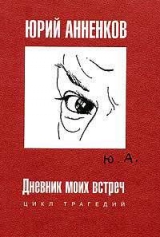
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Приложение.
Статьи и эссе
Чужие слова
Пещерные жители ледникового периода, охотники на мамонтов, едва прикрытые звериной шкурой и еще не додумавшиеся до обуви, до собственных имен, сумели оставить нам волшебного альтамирского бизона и непревзойденных лоретских оленей. Современное человечество, в поисках материальных причин бытия, не может разгадать природу художественного творчества. Отсюда, из этой очевидной невозможности, из этого бессилия, сложилось выражение «дар Божий»: человек в недоумении разводит руками.
Действительно, «без многого можно прожить человечеству, без войн и без любви, без государственных мужей, без Цезарей и Наполеонов, без геройства и без международных конференций, без добродетелей и без христианства, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Ибо Шекспир и Рафаэль выше гражданских проблем, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может быть! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, обратится в хамство, гвоздя не выдумаете…»
Я сбился на чужую речь: это уже пошли слова милейшего Степана Трофимовича Верховенского, его замечательнейшие слова. Достоевский стыдился пафоса и потому подарил эту речь герою почти смешному, на которого сам предлагал смотреть иронически прищуренным глазом. Но сегодняшний читатель принимает речь Степана Трофимовича за чистую монету, без всякой иронии, считая, что пафос нынче уместен. Теперь для этого даже не требуется становиться на цыпочки. Читатель принимает слова Степана Трофимовича за чистую монету, так как только через красоту дана человеку отдушина в вечность, а без вечности можно сойти с ума.
Почему я пишу о красоте, о прекрасном? Не потому ли, что я живу сейчас в Венеции?
Весна. Апрель.
«Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу – Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает, и возбуждает желания. Она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастья. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно-странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама… Ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) – не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок…»
Это тоже не мои слова: я взял их у Тургенева.
Вечереет. Я вдыхаю сумерки Европы. Вечер темнеет, как темнеет картина, как темнеет Венеция, как темнеет наша память, наша впечатлительность, наша совесть. Приближается ночь.
Я присаживаюсь к окну и раскрываю газету. Зачем? Вероятнее всего – по инерции. Но газетные статьи – политика, социальные вопросы – странным образом заглушаются доносящимися, сквозь сгущающийся мрак за окном, из далекого прошлого словами: на этот раз – словами Андрея Петровича Версилова. Вот что, восемьдесят пять лет тому назад, после ужасно долгого отмалчивания, он вынудил из себя по вопросу о том, как кончатся современные государства и чем обновится мир:
– Я думаю, – произнес Версилов, – что все то произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно… Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицита», un beau matin, запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтобы всем до единого обновиться во всеобщем банкротстве. Между тем, весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором и банкротства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление… А за сим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно, не захотят участвовать в окислении… Начнется борьба, и после семидесяти семи поражений нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место акционерами же, разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Bернее, что тоже обанкротятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсис…
И вот, следуя завету Андрея Петровича Версилова, я раскрываю Апокалипсис:
«У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор… О, Господи, что это был за взор!.. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог вынести его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще… На лице не видно было никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены… Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса… Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие… Следствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх…»
Вглядываясь пристально сквозь темноту, я продолжаю перелистывать страницы:
«Город Глупов переименовывается в город Непреклонск. Над городом царит окруженный облаком градоначальник. Около него – шпион. Bсe дома окрашены светло-серой краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, другая на юг или запад, предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.
На площади – каменные здания: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для всеобщих коленопреклонений и проч.
Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира[248]248
Не является ли этот апокалипсисный «командир» прототипом «управдома»?
[Закрыть] и своего шпиона и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот составляют… В каждом из этих подразделений имеется командир и шпион.
С восходом солнца все в доме поднимаются и облекаются в единообразные одежды (по особым, апробированным градоначальником рисункам[249]249
Не идет ли речь о «профодежде»?
[Закрыть]). Шпион спешит с рапортами[250]250
Быть может, в МВД?
[Закрыть]. Жители идут в манеж для принятия пищи… По принятии пищи, выстраиваются в каре и, под предводительством командиров, разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью[251]251
Ленин? Сталин? Хрущев?
[Закрыть]. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем…
В этом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества обязанностей.
Женщины имеют право рождать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного фронта…
Праздников два: один весной, немедленно после таяния снегов[252]252
По всей вероятности – 1 мая?
[Закрыть], называется Праздником Неуклонности и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой – осенью[253]253
Быть может – 7 ноября?
[Закрыть], называется Праздником Предержащих Властей и посвящается воспоминаниям о бедствиях уже испытанных [254]254
Несомненно: Октябрь!
[Закрыть]. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке[255]255
Не к мавзолеям ли?
[Закрыть].
Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон.
Эти поселенные единицы, все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются, и когда даль откроется…»
Частично туманы уже рассеялись, и многое из этих пророчеств уже знакомо на практике. Если, читая пророчества, я осмеливаюсь делать мои примечания на полях страшной и священной книги, то не потому ли, что чтение пророчеств похоже на решение алгебраических задач, где таинственные иксы и игреки надлежит заменять привычными, понятными обозначениями, раскрывая скобки?
– Да ведь это совсем не Вельзевул, черт возьми, и не Князь Тьмы! – восклицает обрадованный читатель, опускаясь на землю, – это просто Иван Иваныч Сысоев! Да и город Глупов, переименованный в Непреклонск, символизирует ли он только Poссию, как думали когда-то наивные россияне и как еще думают граждане и политические деятели свободных стран? Не принимает ли Непреклонск вселенские размеры?
Такие открытия ставят вещи на свои места. Близорукость превращается в дальнозоркость (независимо от возраста). Но заглядывать в слишком отдаленное будущее – преждевременно и небезопасно. У одного из героев Салтыкова-Щедрина от подобного любопытства проистекли даже подергивания лица.
«Да-с, – говорил этот герой, – я озабочен-с. Посмотришь в эту закрытую для многих книгу – увидишь там все такое несообразное. Кружатся-с, рвут друг друга, скалят зубы-с. Неутешительно-с».
«Я знал, – добавляет от себя Щедрин, – одного мудреца, который даже зажимал нос, как только приходилось поднимать завесу будущего»…
Ночь.
Я откладываю Апокалипсис на ночной столик, укрываюсь одеялом, гашу лампу и стараюсь, стараюсь, стараюсь заснуть. Сон, как Венеция, как беспредметная живопись (запрещенная в Непреклонске как нечто, отрывающее нас от действительности), уносит нас в синеву видений… Ни своих, ни чужих слов. Отвлеченность. Полет. Полет на собственных крыльях, которые, проснувшись, мы не можем отыскать ни на вешалке, ни в шкафу, ни на стуле, ни под кроватью.
Театр Гоголя
Гоголь велик. Гоголь огромен. О нем уже столько сказано, столько написано. Однако слава Гоголя менее универсальна, менее международна, нежели слава Достоевского или Льва Толстого. Сколько произведений Толстого и в особенности Достоевского было не только переведено на иностранные языки, но и инсценировано для театра и для кинематографа. Мы видели на французской сцене «Вечного мужа» Достоевского; мы видели его «Преступление и наказание», «Бесов», «Идиота»; мы видели «Братьев Карамазовых» в театре Андрея Барсака, «Униженных и оскорбленных» в постановке Григория Хмары; видели «Скверный анекдот» в театре «Старой Голубятни», «Село Степанчиково». На французском экране были показаны «Преступление и наказание» с Пьером Бланшаром в роли Раскольникова; «Идиот» с незабываемым актером Жераром Филипом в роли князя Мышкина. «Преступление и наказание» мы видели и на немецком экране с Григорием Хмарой в роли Раскольникова. На немецком же экране были представлены «Униженные и оскорбленные», «Игрок» и «Братья Карамазовы»…
Нам известны американские фильмы «Война и мир» Толстого и его же «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в заглавной роли. В Англии – «Анна Каренина» с Вивьеной Лейг в заглавной роли. На немецкой сцене – «Живой труп» с гениальным Моисси в роли Протасова. Кроме того, там же, в Германии, на экране – «Крейцерова соната», «Власть тьмы», «Живой труп» и «Воскресенье» Толстого. «Воскресенье» можно было видеть и на итальянском экране, а «Живой труп» на французском экране под названием «Огненные ночи» с Габи Морле в роли Лизы Протасовой. На французской сцене были показаны «Плоды просвещения». Во Флоренции – «Война и мир»: опера С.Прокофьева…
Этот перечень произведений Толстого и Достоевского, показанных за границей в театре и на экране, само собой разумеется, далеко не полон.
Судьба же Гоголя за границей оказалась более бедной. Мы видели следующие вещи Гоголя, представленные на французском языке, и притом всего лишь в самые недавние годы: «Ревизора» в театре Андрея Барсака и в его постановке; «Женитьбу» в малом театре Елисейских Полей в постановке Пьера Вальда, и, в крохотном помещении монпарнасского Thêatre de Poche, – весьма беспомощную инсценировку «Носа», продержавшуюся не более трех или четырех дней. Затем чрезвычайно плохая и тенденциозная инсценировка «Мертвых душ», а также – гоголевские «Записки сумасшедшего». И наконец – бессловесную, немую переделку гоголевской «Шинели», исполненную известным французским мимом Марселем Марсо.
Леон Доде, сын Альфонса Доде, писал в своей книге «Когда жил мой отец», что «Тургенев, из писательской ревности, всегда замалчивал произведения и личности Гоголя, Толстого и Достоевского». Такой xарактеристике Тургенева трудно поверить, тем более что о чтении «Ревизора» самим Гоголем Тургенев, не скрывая, рассказывал следующее:
«Читал Гоголь превосходно… Гоголь поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают… Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник».
Как мы видим, «писательская ревность» здесь совершенно отсутствует.
В составленной Владимиром Бутчиком, директором парижской библиотеки славянских языков, «Попытке классификации русских литературных произведений, опубликованных на французском языке», имя Толстого упоминается 108 раз, имя Достоевского – 37 раз, имя Тургенева – 29 раз, имя Пушкина – тоже 29 раз, а имя Гоголя – всего 16 раз.
Однако для нас, русских, именно Гоголь и Пушкин занимают среди наших писателей самые первые места.
Современник Пушкина, Гоголь в области театра оказался даже еще более удачливым. Но нельзя забывать, что сюжет «Ревизора» был ему подсказан Пушкиным.
Гоголь был связан с театром с детских лет. Его отец, мелкий помещик, человек веселого нрава и не лишенный юмора, увлекался литературой и любил писать легкие комедии для любительского театра своего богатого соседа и приятеля Трощинского, знатного сановника и министра времен Екатерины Великой, Павла I и Александра I. Трощинский играл роль мецената, устраивал в своем пышном имении празднества, сопровождавшиеся спектаклями. Эти празднества с театральными представлениями навсегда запечатлелись в сознании Гоголя, и отзвуки этого можно найти даже в «Мертвых душах». Спектакли Трощинского повели Гоголя к театру, к театральному творчеству. Но уже в годы своей литературной юности Гоголь восставал против отсутствия народного, бытового элемента на русской сцене его времени и, невзирая на разные условности, решился создать пьесу типично русскую.
Школьник украинского городка Нежина, Гоголь сочинил вместе со своим товарищем Прокоповичем двухактную пьесу из малороссийского быта, где он сам исполнял роль немощного старика. Родители школьников, бывшие на этом спектакле, учителя и другие свидетели рассказывали о нем. Декорацией второго акта была украинская харчевня… Перед хатой – скамейка. На сцену выходит какой-то старик в простом кафтане, в барашковой шапке и в чисто натертых сапогах. Опираясь на палку, он приближается, покряхтывая, к скамейке и садится на нее. Он дрожит, вздыхает и кашляет, потом начинает зубоскалить и снова кашлять, задыхаясь настолько по-старчески, что все зрители, зная, что старик – еще просто школьник, разразились неудержимым смехом. Потом старик, успокоившись, встал и, пересекая сцену, вызвал своей походкой еще более сильный смех. Инспектор школы спросил Гоголя, почему он так изобразил старика.
– А как же хотите играть правдивым образом восьмидесятилетнего старика? У бедняги все рессоры ослабели и винты больше не действуют, – ответил Гоголь.
Инспектор и все присутствовавшие снова захохотали и с этого вечера стали считать Гоголя прекрасным комиком.
Несколькими годами позже, в гостях у писателя С.Аксакова, где Гоголь был в числе многочисленных приглашенных, он согласился, по общему предложению, прочесть отрывки из своих писаний. Он сел на диван перед маленьким столиком и, прежде чем приступить к чтению, неожиданно зарыгал: один раз, два, три… Дамы стали переглядываться, все были обескуражены.
– Что такое со мной? Можно подумать, что это рвота! – сказал Гоголь.
Хозяин и хозяйка дома были смущены. Гоголь продолжал:
– Мой вчерашний обед застрял в горле: грибы и эта ботвинья. Ешь, ешь, один черт знает, что ешь!
И, снова зарыгав, Гоголь вынул из кармана рукопись и положил ее перед собой на стол. Вдруг всем стало ясно, что рыганье Гоголя было лишь прелюдией к его произведению. В наше время подобный прием, наверное, никого бы не удивил, мы уже ко всему привыкли, но в гоголевскую эпоху это было еще полной неожиданностью.
Достаточно прочесть критические статьи, появившиеся в журналах того времени и написанные под свежим впечатлением, полученным от разных сцен в «Женитьбе», чтобы понять всю новизну этого отважного произведения. В одной из газет писалось по поводу провала этой пьесы:
«Главным, самым важным качеством театральной пьесы является элегантность, благопристойность. Там, где это качество убито, в душе каждого зрителя, еще не окончательно извращенного, пробуждается ощущение исковерканной эстетики, и он отталкивается от этой грубой и грязной обывательщины. Да, господа актеры, жизненная правда, натуральность нужны, необходимы на сцене, но в очищенной форме, в изящном виде, выраженном в приличной и хорошо обработанной манере. Всякая низкая и грязная жизненная правда отвратительна. Публика, единодушно освиставшая пьесу Гоголя, проявила всю свою воспитанность и свое чувство пристойности. Честь и слава ей! Некоторые говорят, что в пьесе отражена жизненная правда. Недурная защита, и какая высокая миссия выбирать в самых низких слоях общества все то, что невольно отвращает зрителя. Несмотря на то, что мы редко видим оригинальные пьесы, публика доказала, что она не допустит втянуть себя в слепой и ложный быт хотя бы и весьма оригинальным русским произведением, но недостойным войти в то, что мы называем высокой литературой. Пишите все, что вам угодно, почитатели Гоголя. Ваши декламации ничего не изменят в единогласном приговоре, вынесенном всеми зрителями, не допустившими, после падения занавеса, никаких знаков одобрения».
Во всей этой буре, разразившейся над головой автора, единственной причиной было то, что вместо «больших господ» он вывел на сцену маленьких людишек, выхваченных из каждодневной жизни, вместо ливрейного лакея и нарядной субретки – крепкого мужика и плохо причесанную девку, вместо крупных коммерсантов – добрых русских купчиков, а вместо агента по свадебным делам – простую хитроватую сваху. Короче говоря, вместо чуждых персонажей, присвоивших себе русские имена, появились подлинные бытовые типы с живой речью и забавными действиями.
«„Женитьба“ была первой бытовой комедией нравов, достойной этого термина с литературной точки зрения, – писал Котляревский в монографии, посвященной Гоголю. – Мы хорошо знаем со времени Островского этот род комедии, но написать такую вещь до Островского было действительным художественным открытием. Именно в этом и заключается заслуга Гоголя как драматурга. Гоголь первый признал, что театр существует также для того, чтобы представлять жизнь со всей правдивостью, без украшений и преувеличений, и он впервые выразил эстетически эту связь между театром и жизнью».
«Женитьба» Гоголя, его «Ревизор», его «Игроки» и другие незаконченные пьесы положили основание новейшей драматургии, в которой сформировался талант Островского, мастера жанровой комедии и драмы. Но если Гоголь за свою короткую жизнь, длившуюся всего 43 года (1809–1852), успел создать поистине революционным порывом новую литературную школу, то это ему удалось также и потому, что он встретил на сценических подмостках актера, гений которого роднился с гением самого Гоголя и который, в свою очередь, положил начало новой школе актерского искусства: это был Михаил Щепкин, слава московского Малого театра и первый исполнитель в этом театре роли Городничего, в 1836 году. На первом представлении «Ревизора» в петербургском Александринском театре – в том же году – Городничего играл Иван Сосницкий. Впрочем, как уже говорилось выше, Гоголь тоже обладал большим актерским талантом и даже пытался поступить в один из императорских театров, но дирекция театра, нашедшая, что в игре Гоголя было слишком много жизненной естественности, при полном отсутствии привычной парадной театральности, отказалась принять его в свою труппу.
Встреча и сотрудничество Гоголя со Щепкиным способствовали стремительной реформе драматического искусства в Poссии. На заре настоящего национального искусства оба друга дополняли один другого в совместных усилиях создать на сцене игру, лишенную академической условности. В те же годы, впервые в анналах русского театра, Гоголь заговорил о «мизансцене», то есть – о самостоятельном искусстве постановщика, которому должна быть подчинена игра всех участников спектакля.
Подчеркивая огромную роль постановщика для успеха пьесы и его несомненное сотрудничество, прямое или косвенное, с автором, отметим, что самыми совершенными драматургами в истории театра были именно постановщики, режиссеры: Шекспир и Мольер. Это – не случайное совпадение: оба они не только зарождали сюжеты своих пьес и писали их, – они также видели их в зрелищных формах и сами воплощали свои видения на сцене.
Гоголь тоже обладал воображением постановщика и видел глазами сценическое, зрелищное развитие своих пьес. Неоспоримое доказательство этого дает нам знаменитая «немая», заключительная сцена в «Ревизоре». Появившийся на сцене жандарм объявляет о приезде из Петербурга чиновника, который требует к себе в гостиницу Городничего. «Произнесенные слова, – поясняет Гоголь, – поражают, как громом, всех. Звук изумления единодушно вылетает из дамских уст».
В дальнейшем описании Гоголь окончательно превращается в метерансцена, в постановщика:
«Вся группа, – пишет он, – вдруг переменивши положение, остается в окаменении, Городничий посредине в виде столба с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь, с устремившимся к нему движением всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прильнувшие одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнести: „Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!“ За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего; за ним, у самого края, Добчинский и Бобчинский с устремившимcя друг к другу движением рук, разинутым ртом и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается».
Первое представление «Ревизора» состоялось в Императорском Александринском театре, в Санкт-Петербурге, 19 апреля 1836 года, и пьеса была встречена публикой и критикой весьма сумбурно, если не просто недружелюбно. Гоголь тоже остался недоволен постановкой, и замечания его носили опять чисто режиссерский характер. О постановке «немой сцены» он писал:
«Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса, кажется, как будто не кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты не должен опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиях, каких требует так называемая живая картина. Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что группу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера».
Времена были, как мы видим, не теперешние. Если теперь Михаил Фокин, Бронислава Нижинская, Сергей Лифарь, Леонид Мясин, Георгий Баланчин (Баланчивадзе) стали международной гордостью театра, то в то, в гоголевское время общение актера с балетмейстером считалось еще унизительным. А настоящего постановщика, режиссера, метерансцена тогда вообще еще не было. Гоголь, однако, уже предчувствовал необходимость появления постановщика и, несмотря на то, что сам тоже относился к балетмейстеру с некоторым недоверием, писал:
«Я стою на своем и сто раз говорю: нет, это не свяжет нимало, это не унизительно. Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если только он в силах почувствовать настоящее положение всякого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега; напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка; лицо его свободно выразить всякое движение. И в этом онемении для него бездна разнообразия. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен Городничий, иным образом поражена жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почтмейстер и пр. и пр. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаковым образом: но они – даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом. Словом, каждый мимически продолжит свою роль и, несмотря на то, что, по-видимому, показал себя балетмейстеру, может всегда остаться высоким актером».
Гоголь огорчался неудачей постановки «Ревизора» и реакцией публики не только потому, что неудача постигла его собственную пьесу, но главным образом потому, что он особенно серьезно относился к театру вообще, к его культурному и моральному назначению.
«Театр, – писал он, – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не схожая между собою, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».
В одной из других статей о театре Гоголь добавлял:
«Театр – великая школа, глубоко его назначение: он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает живой полезный урок и при блеске торжественного освещения, при громе музыки показывает смешное привычек и пороков или высокотрогательное достоинств и возвышенных чувств человека… Пусть зритель выходит из театра в счастливом расположении, помирая от смеха или обливаясь сладкими слезами и понесший с собою какое-нибудь доброе намерение».
Как мы знаем, тема «Ревизора» была навеяна Гоголю беседами с Пушкиным. Но, кроме того, Гоголь мог уже прочесть пьесу Квитки-Основьяненко, распространявшуюся тогда в рукописных экземплярах и озаглавленную «Приезжий из столицы». Сюжет был совершенно тот же, что в гоголевском «Ревизоре». Провинциальный городничий Трусилкин получил неожиданное известие, что его городу предстоит принять столичного ревизора, который должен будет произвести расследование о бездельничестве местных чиновников. Эта новость вызывает волнение в семье городничего, а также – среди его друзей и прочих чиновников: смотрителя училищ Ученосветова, судьи Спалкина, почтмейстера Печаткина и других чинуш.
Городничий теряет голову и не знает, к каким мерам прибегнуть, чтобы нежданный визит не кончился катастрофой. Он предлагает, например, законопатить все печи в городе, чтобы случайно не произошло где-нибудь пожара. Полицмейстер, в свою очередь, советует посадить несколько человек в тюрьму, чтобы ревизор не подумал, что все преступники в городе свободно бегают по улицам. И так далее. В конце концов, городничий решает посадить кого-нибудь на самый верх церковной колокольни, чтобы этот человек, как только увидит приближающийся к городу экипаж, немедленно сбежал с колокольни и тотчас известил бы об этом городничего.
Когда все городские чиновники, в парадных формах, собрались у городничего, который расставил их в соответствии с их чинами, появился ожидаемый персонаж: Пустолобов. Городничий представлял ему всех чиновников, и один из них, смотритель училищ, узнав в приезжем своего товарища студенческих лет, но исключенного из университета, захотел с ним поцеловаться. Приезжий, однако, отстранил его, дав понять, что следует соблюдать формальности приема и подождать соглaсия на частную встречу.
Затем все перешли в столовую. После обеда городничий предложил гостю немного отдохнуть.
– Мне? Отдыхать? – возразил гость. – Но что же тогда произойдет с Poccией, если я буду спать после обеда?
Постепенно для читателей становится ясным, что Пустолобов – отнюдь не ревизор, а просто авантюрист в поисках богатой невесты. Племянница городничего – именно такая, и приезжий старается заворожить ее. Он рассказывает о своей любви тетке этой богатой невесты, старой деве, глухой на одно ухо, которая принимает эти признания на свой счет. Разочаровавшись, она не теряет все же надежды и путем разных хитростей ей удается подстроить ее ночное похищение Пустолобовым, который думает, что увозит юную племянницу городничего. Тот тем временем обегает весь город, стараясь собрать хорошую сумму для того, чтобы «подмаслить» ревизора, но, вернувшись домой, узнает, что знатный приезжий скрылся вместе с богатой племянницей. Городничий ошеломлен. К тому же времени он получает от губернатора приказ арестовать Пустолобова, мелкого чиновничка, выдавшего себя за важную персону. Для развязки пьесы мы видим солдат, приведших Пустолобова со старой девой, прикрытой капором и темной вуалью. Вуаль срывают, и тетка разражается гневом, в то время как племянница городничего отдает свою руку молодому офицеру, в которого она влюблена.