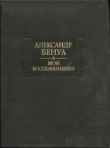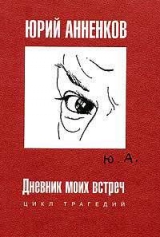
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Последняя личная, но не деловая, а просто дружеская встреча состоялась у нас сравнительно незадолго до смерти Ремизова и произвела на меня страшное впечатление: он был уже слеп. Глядя перед собою, как мне показалось, с оттенком виноватости, он уверенно провел меня, скользя рукой по стене, в свою комнату и, скользнув рукой по мебели, указал мне стул, на который предложил мне сесть. Ремизов щебетал, как всегда, и был в хорошем настроении, в привычном добродушии.

Сергей Прокофьев
– Я ничего не вижу, милый друг, – сказал он, – но я знаю, что это – уже ненадолго. Меня согревает невидимое солнышко, я с ним теперь особенно сдружился,
Однако я, как и все близкие ему люди, знал, что он нестерпимо мучился бессонными ночами.
«Ясня»…
Прокофьев выехал за границу в самом начале революции, и мы вновь встретились только в 1924 году в Париже. Сохранив свою жизнерадостность и дружескую непосредственность, Прокофьев стал тем не менее другим человеком. Рост его международной славы придавал ему теперь оттенок надменности, что, впрочем, не нарушало наших приятельских отношений. Несмотря на падение железного занавеса, заткнувшего прорубленное (Петром Великим) окно в Европу, Прокофьеву разрешалось возвращаться в Советский Союз и разъезжать по заграничным странам (что являлось вполне естественным до 1917 года, но стало после революции редкой привилегией). Такое положение пробуждало в Прокофьеве своего рода раздвоение, правда – безвредное. Не скрывая своих симпатий к коммунизму (без демагогии или политического доктринерства), он признавался в то же время, что предпочитает жить и творить в атмосфере покоя и удобств «капиталистического» мира, со всеми вытекающими из этого выгодами…
«Ясня» осталась неосуществленной, но новое крохотное сотрудничество наше все же произошло: по просьбе Никиты Балиева я сделал в театре «Летучая мышь» декорации и костюмы для балета Г.Баланчина на музыку Прокофьева «Сарказм» (Нью-Йорк, 1930).
Среди многих театральных произведений Прокофьева, которые мне удалось увидеть, я хочу остановиться на его балете «Стальной скок», поставленном Леонидом Мясиным 7 июня 1927 года в декорациях моего товарища Георгия Якулова, на сцене театра Сары Бернар (антреприза С.Дягилева), с участием Алисы Никитиной, Фелии Дубровской, Сергея Лифаря, Льва Войцеховского… Этот балет мне близок по многим причинам, и одна из них не зависела даже от музыки. В 1921 году, в Петербурге, я опубликовал в журнале «Дом искусств» (№ 2) манифест абстрактного театра, манифест, который до сих пор подвергается критическим нападкам в советской прессе, обвиняющей меня в «насаждении формализма», в то время как выдержки из того же манифеста появились в разных странах на французском, немецком, итальянском и на других языках. Приведу наиболее существенные отрывки (мой манифест занимает пятнадцать крупных страниц): «Театр в основе своей – динамичен. В тот момент, когда на пути экспресса, смысл которого – в развитии скорости, опускают семафор, экспресс как таковой прекращает быть. Театр подобен экспрессу. Элемент статичности находится в дисгармонии с сущностью театра. Декорация до сих пор оставалась статичной и потому неминуемо вступала в единоборство с природой театра. В театре нет места мертвым картинам, там все в движении. Движение определяется и оформляется ритмом. В ритме движение обретает художественную значимость, ритм претворяет движение в художественную форму. Различные ритмы воспринимаются различно и в эмоциональном смысле различно влияют на зрителя… Художественно организованное, т. е. ритмически организованное движение – представляет собою театральную форму… Пока декорация не сдвинется со своего места и не забегает по сцене, мы никогда не увидим единого, органически слитного театрального действия…
Окружающей обстановки на сцене не существует. На сцене есть единое действующее лицо, единое действие. Потерявшие литературную иллюстративность, изобразительность, актеры и декорация тем самым теряют свою первоначальную предметность, становятся только различными по составу материальными элементами, из которых мастер театра творит органически цельное произведение своего искусства. Актер на сцене перестает быть человеком, он входит в состав действия, если театру это понадобится, наравне с машинами, как некий аппарат движения, разный от них лишь наличностью более тонких нюансировок, как скрипка отличается от рояля… Подлинное театральное зрелище – прежде всего беспредметно. Мастер театра приводит в движение сценический аппарат, древняя протоптанная площадка заменена динамической. Во всем пространстве сценической коробки нет ни одного момента покоя. В этом буйстве, скованном ритмом движений, сливается все: взмахи железа, дерева, проволоки, пружины машин; трепетания человеческого тела, которые вы не узнаете, и бег цветосветовых лучей… Мой единственный театр, мой первый театр чистого метода, у которого я беру уроки и черпаю премудрость театрального искусства – маленький калейдоскоп. Мой карманный калейдоскоп – прототип того прекрасного театра, который будет. И вот, в момент, когда перед вами в огромном зале откроется гигантский, совершенный, творческий калейдоскоп, – вы все, читающие сейчас меня и не верящие мне, раскроете рты в трепете изумления и восторга перед зрелищем вьюг первозданного хаоса, скованного золотой логикой ритма!»
Однако провозгласить принцип динамических декораций было значительно легче, чем найти возможность осуществить их на практике.
Случай представился мне только через год после напечатания «Театра до конца»: дирекция петербургского Большого драматического театра предложила мне в августе 1922 года сделать сценическое оформление для недавно законченной (1920) пьесы немецкого драматурга Георга Кайзера «Газ» в постановке режиссера К.П.Хохлова. Сцена этого театра и его мастерские были мне уже знакомы, так как в 1917 году я сделал там декорации и костюмы для пьесы Винниченко «Черная пантера», поставленной Н.Н.Евреиновым[64]64
Спектакль «Черная пантера» шел в Театре литературно-художественного общества им. А.С.Суворина, в обиходе именовавшемся Малым, или Суворинским. В 1919 г. в его здании начал работать Большой драматический театр.
[Закрыть]. Работа для «Газа» была необычайно интересной и сложной. Все элементы декораций – схематический (или синтетический) аспект завода – колеса, трубы, цепи, спирали, заполнявшие громадную сцену во всю ее глубину, высоту и ширину, ожили благодаря целому ряду механизмов, изобретенных мною совместно с моими сценическими работниками – машинистами, электротехниками, декораторами. Освещение тоже было динамическим, и даже по протянутым через сцену проволокам проносились электрические искры.
Премьера состоялась 7 ноября. Спектакль вызвал очень шумный отклик и среди публики, и у критики. Я ограничусь здесь только одной заметкой Адриана Пиотровского, известного авангардного театрального критика, теоретика и режиссера (впоследствии расстрелянного Сталиным). В статье «Индустриальная трагедия» Пиотровский писал: «Драма схематична. Русским художникам удалось вложить в нее нерв, превратить социально-философскую драму в настоящую трагедию производства. Герой, не в переносном, а в прямом смысле – завод, сначала живущий шестернями и колесами, потом гибнущий, лежащий мертвым и наконец снова восставший. Действующие лица, рабочие – только проявление этого гигантского героя. Художник Анненков более, чем кто-либо, подходит к разрешению подобной проблемы. Центральная для его театропонимания мысль о театре чистого метода, где все движется, вещи, декорации, люди, – мысль эта получила здесь осуществление. Машинный пафос позволил ему произвести рискованный опыт оживления вещей не только без ущерба для игры актеров, но в явное подкрепление ее…
Получилась своеобразная эксцентрическая трагедия, значительный и, вероятно, имеющий большое будущее вид искусства… „Газ“ несомненно лучшая работа Анненкова, далеко опередившая все, что им сделано до сих пор.
Если же позволено из успеха отдельной постановки выводить обобщенную формулу живого сейчас спектакля, то формулой этой будет серьезная и строгая современно-патетическая мысль на языке чистых театральных форм» (Декабрь 1922 г. «За советский театр!», Гос. институт истории искусств, «Academia», Ленинград)[65]65
Имеется в виду Государственная академия художественных наук.
[Закрыть].
В том же году русский абстрактный художник Баранов-Россинэ, захваченный идеями композитора Александра Скрябина, искавшего параллели между звуками, красками и линиями, изобрел оптофоническое пианино, то есть клавиатуру, где каждая нота вместе со звуком перебрасывала на экран ту или иную цветовую форму. Таким образом, играя на этом пианино Моцарта или Прокофьева, пианист отражал на экране красочное и линейное преображение музыкального произведения: красочную симфонию. Я присутствовал на первом оптофоническом концерте, данном Барановым-Россинэ в Москве, в помещении Института художественных наук[66]66
Пиотровский А. За советский театр! Л.: Academia, 1925.
[Закрыть]. Второй концерт имел место в театре имени Всеволода Мейерхольда и с оркестром московского Большого театра, но я в это время был уже за границей.
Само собой разумеется, что такой художник в сталинские годы вынужден был эмигрировать и поселился в Париже, но во время гитлеровской оккупации он был арестован и погиб в концентрационном лагере.
Оптофоническое пианино послужило прототипом появившихся много позже рисунков (до самого Уолта Диснея включительно), а в шестидесятых годах было в точности восстановлено и весьма значительно использовано французским художником-конструктивистом Николаем Шеффером.
В балете Прокофьева (1927) индустриальная декорация Якулова тоже ожила, пришла в движение. Успех был огромный. Беседуя со мной в Париже, Якулов отнюдь не скрывал, что мои декорации к «Газу» Кайзера, как и мой манифест, были ему знакомы и что он вполне согласен с принципами динамизма театральной декорации. По своим формам, однако, декорации Якулова не имели ничего общего с моими.
Но вот спустя еще девять лет появился на экране фильм Чарли Чаплина «Новые времена», начатый в 1932 году и оконченный в 1936 году. Не знаю, видел ли Чарли Чаплин балет Прокофьева – Якулова. Не знаю также, писалось ли что-нибудь по этому поводу в прессе, но динамическая декоративная конструкция фильма Чаплина казалась мне столь же близкой к декорациям Якулова, как Лафонтен к Эзопу.
В 1932 году талантливая и очень красивая танцовщица Алиса Никитина, ведетта нашумевшего балета «Кошка», поставленного в 1927 году в Париже (у Дягилева) Георгием Баланчиным на музыку Анри Соге, давала свой вечер в Театре Елисейских Полей. К этому вечеру я сделал по просьбе Никитиной костюм и некоторые элементы декораций к ее вариации на музыку Прокофьева «La Gavotta», с хореографией Баланчина. Это было моим третьим сотрудничеством с Прокофьевым.
Весь этот вечер я провел в театральной ложе рядом с Прокофьевым и потом – до утра – в ночном кабаре, вместе с ним, с Алисой Никитиной, с Игорем Стравинским, с Анри Соге, Игорем Маркевичем и Николаем Набоковым, музыка которых тоже входила в программу никитинского спектакля, а также с Георгием Баланчиным и Кристианом Бераром, знаменитым французским декоратором. Мы разошлись, когда уже светало.
– «La Gavotta», к сожалению, значительно короче «Ясни», – сказал я Прокофьеву.
– Наша жизнь тоже укоротилась на пятнадцать лет, – ответил Прокофьев с грустной улыбкой.
Если я не ошибаюсь, эта ночь была последними часами, проведенными мною с Прокофьевым. В том же году он окончательно вернулся в Москву.
В 1953 году (год смерти Прокофьева) организаторы 16-го «Музыкального флорентийского мая» предложили мне поставить на сцене Коммунального театра во Флоренции последнюю оперу Прокофьева «Война и мир», написанную по роману Льва Толстого и до того еще никогда не показанную в Западной Европе. Моим сотрудником по балетной области должен был быть Георгий Баланчин, бывший тогда уже в Милане. Мне предлагалось создать также декорации и костюмы. Переполненный радостью, я на другой же день прибыл в Милан, чтобы ознакомиться с оперой и переговорить с Баланчиным. Но это, уже посмертное, сотрудничество с Прокофьевым оказалось, увы, столь же безрезультатным, как и первое, в 1916 году. При нашей встрече Баланчин сказал мне, что он уже отказался от этой работы, так как музыка оперы лишена всех прокофьевских качеств, а либретто – унизительно для гения Льва Толстого и пропитано политическими тенденциями, неприемлемыми для Баланчина.
Может быть, менее чувствительный в этом отношении, я попытался уговорить Баланчина переменить его решение, но, прочитав либретто, сразу же почувствовал охлаждение. Можно изменить чье-либо произведение и вышить по его канве новый орнамент, который сохранит без ущерба качественный уровень оригинала. Такая перемена не является обязательно принижением этого уровня. В иных случаях она может даже послужить его повышению. Но в либретто «Войны и мира» роман Толстого обнищал до последней степени.
Я ничего не могу сказать о прокофьевской музыке, так как в тот день мне не удалось ее прослушать и я не слышал ее до сих пор. Но, зная талант Прокофьева и его творческую волю, я уверен, что некоторые формальные особенности своей композиции, способные разойтись с генеральной линией «социалистического реализма», он сумел искусно закамуфлировать и спасти. Что же касается либретто, которое Прокофьев не мог принять всерьез, то оно послужило ему чем-то вроде зонтика, или – больше того: ковчегом, в котором можно было укрыться от потопа.
Мой короткий разговор с организаторами флорентийского спектакля вскрыл в то же время полную несовместимость наших взглядов на оперную постановку. Как всегда, когда я бываю в Милане, я пошел в церковь Santa-Maria delle Grazie поклониться агонизирующей «Тайной вечере» Леонардо да Винчи и на другой день вернулся в Париж, захватив с собою либретто «Войны и мира», отпечатанное на машинке на английском языке. Оно хранится у меня до сих пор в ящике письменного стола.
Декорации и костюмы были в конце концов поручены моему приятелю Григорию Шилтьяну, русскому художнику, обосновавшемуся в Италии. Кто был постановщиком, я не помню. Занятый в Париже (костюмы для фильма замечательного кинопостановщика Макса Офюльса «Madame de…», по роману Луизы де Вильморен, с участием очаровательной Даниель Дарье, Витторио де Сика и Шарля Буайе), я не смог присутствовать во Флоренции на прокофьевской опере и, следовательно, не могу судить о ней. Четыре года спустя я прочел, однако, впечатления Поля-Луи Миньона, театрального комментатора и хроникера парижского радио, об этой опере, увиденной им в Москве, впечатления, вполне совпавшие с моими предчувствиями: «Реализм, реализм… но детали, которые подчеркивали распад сценической концепции оперы, все чаще и чаще отталкивали меня. Условный театральный натурализм обилия расписанных занавесей противоречил наивной роскоши ансамбля, тем более что желание создать иллюзию реальности при помощи всевозможных театральных трюков казалось давно пережитым… Современная опера – я видел „Войну и мир“ Прокофьева, превосходную в музыкальном отношении, но принесенную в жертву условностям мизансцены и декораций до такой степени, что спектакль порой становился для меня невыносимым» («Театр в СССР», изд. Arche, Париж, 1957).
Об искусстве оперы, или – точнее – о кризисе этого искусства, Прокофьев и я, мы часто беседовали. В частности, о том, что длинные оперные спектакли, вызывавшие энтузиазм в XIX веке, теперь утомляют зрителя. Не следует забывать, что триумф оперы в XIX веке, и в особенности во второй его половине, совпадал с общим упадком театрального искусства. Лишь в последних годах XIX века, на пороге нашего столетия, театр драмы стал освобождаться от пережеванного академизма.
Появление К.Станиславского, Вс. Мейерхольда, М.Рейнгардта, Г.Крэга и интернациональной плеяды их соратников, единомышленников и последователей решительным образом изменило пути театрального искусства. Эти новаторы напомнили, что театр является зрелищем и что зрелищный элемент в искусстве театра отнюдь не является второстепенным. Своей деятельностью, своими исканиями они блестяще доказали, что разговорный элемент, то есть текст пьесы, есть не более чем одна из частей (и не обязательно главная) театрального спектакля.
Зритель называется «зрителем» именно потому, что он приходит в театр не только для того, чтобы слушать пьесу, но также и для того, чтобы видеть ее, чтобы смотреть ее сценическое превращение в действие, в зрелищные формы. Иначе он пошел бы только слушать публичное чтение пьесы и превратился бы в «слушателя». Или, удовлетворившись чтением пьесы в книге, стал бы «читателем».
Таким образом, в первые годы нашего века обновилась, или – точнее – народилась, новая форма искусства: искусство театральной постановки; иначе говоря – синтез звуко-разговорных и зрелищных элементов.
Театральные спектакли, лишенные требовательных директив изобретательного постановщика и не отмеченные его индивидуальностью, перестали с течением времени привлекать к себе внимание культурного зрителя и сделались добычей «провинциальных», или так называемых «бульварных», театров. Пьеса, попадающая в руки актеров, лишенных руководства подлинного постановщика, разрывается на части и теряет свое единство. Подобные спектакли могут в некоторых случаях служить успеху того или иного актера, которому удалось «переиграть» своих партнеров, но индивидуальный успех отдельного исполнителя неминуемо разрушает цельность впечатления.
Подлинный постановщик является одновременно собирателем, организатором и контролером всех элементов сценического спектакля, а также почти всегда и трансформатором, и дополнителем. Актер неизбежно превращается из независимой единицы в один из этих элементов. Если формула Гордона Крэга, определяющая актера как «умную марионетку», может показаться некоторым знаменитым «ведеттам» не очень лестной, она останется тем не менее в своей сущности совершенно правильной.
В художественной театральной постановке каждый актер должен точнейшим образом исполнять малейшие указания постановщика, касаются ли они внешнего облика исполняемого персонажа, его передвижений по сцене, его жестов, его мимики или интонаций его речи. «Умность» такой «марионетки» есть талант актера, то есть его способность как можно глубже понять и почувствовать данные ему указания и умение как можно лучше и наиболее изобразительно воплотить их.
Искусство театрального постановщика чрезвычайно сложно, перегружено ответственностью и требует большого разнообразия его таланта, а также высокой художественной культуры. Если драматург является автором пьесы, то ее постановщик может по праву считаться автором ее сценического осуществления: автором спектакля.
Постепенно роль театрального постановщика достигла степени автономного, независимого искусства. Искусство постановщика перестало быть дополнением, второстепенным элементом, анонимной и чисто технической или почти административной ролью, как это было в XIX веке и как об этом думают еще сегодня многие «теоретики» театра и театральные критики. Искусство постановщика находится сейчас рядом с искусством живописца, скульптора, композитора, романиста, поэта и должно пользоваться такой же творческой независимостью. Когда мы (я говорю о моем поколении) идем в театр смотреть классическую пьесу, текст которой знаком нам с детства, мы делаем это не для того, чтобы еще раз прослушать этот текст или увидеть того или другого знаменитого актера. Нет, мы идем смотреть произведение постановщика, интересующего нас и вносящего обновление в театральные формы, обогащая этим возможности актерской игры и открывая для нас новое лицо давно знакомой пьесы. И вот за эти открытия, иногда весьма ценные, мы аплодируем постановщику, автору спектакля.
Трагедия оперного искусства заключается главным образом в том, что оно не допустило к себе театрального постановщика. В XIX веке зритель еще не обращал на это внимания, так как отсутствие независимого искусства постановщика распространялось еще на все формы театральных представлений. На оперной сцене строились всевозможные декоративные пышности. Звучала музыка, часто – весьма высококачественная, иногда – гениальная. Роскошно наряженные певцы протягивали к публике то правую, то левую руку и, беря высокую ноту, становились на цыпочки; певицы (контральто), обладающие довольно выпуклым бюстом и не менее выпуклыми бедрами, исполняли роли юношей-подростков; хористы выстраивались в одну шеренгу, чтобы внимательно следить за взмахами дирижерской палочки… И все были довольны. Публика не была еще достаточно искушенной. Она восторженно аплодировала юношам-подросткам с женским бюстом и женским голосом; тенорам – «первым любовникам», очень сытно откормленным и становящимся на цыпочки; хористам, вымуштрованным, как в казарме.
Но с тех пор драматический театр и балет (благодаря возросшему культурному уровню хореавторов, балетмейстеров) значительно эволюционировали. Что же касается оперы, отклонившей сотрудничество постановщика, она осталась на мертвой точке. Мы без затруднений узнаем характерные черты сценической постановки Станиславского или Мейерхольда, Таирова или Рейнгардта, хореографию Фокина, Нижинской, Баланчина, Лифаря или Мясина, но кто является постановщиком оперных спектаклей – остается неизвестным. Мы отличаем музыку Мусоргского от музыки Бизе, музыку Гуно от музыки Чайковского, Пуччини, Римского-Корсакова или Дебюсси, но сценическое воплощение их произведений остается бесформенным, безличным и примитивным. Техника и постановочные принципы оперных спектаклей остались чрезвычайно запоздалыми, архаичными и часто вызывают в зрителе ироническую улыбку и даже смех.
Мои беседы с Прокофьевым на эти темы начались сами собой, еще в России.
Директоры оперных театров и композиторы, исходя из того положения, что основой, субстанцией оперы является музыка, полагают, что сценическое осуществление оперы должно быть в руках музыканта, и поручают эту задачу в большинстве случаев дирижеру оркестра. Все элементы оперной постановки (и в первую очередь игра актеров) исполняются в соответствии с требованиями дирижера и под его дисциплиной. Поэтому все элементы постановки, за исключением иногда декораций и костюмов, не подчиненных ничьей дисциплине (кроме вкуса директора театра), бывают почти всегда чуждыми стилю оперы и перегруженными ненужными подробностями, предназначенными «обогащать впечатление» зрителя. В XIX веке это проходило незамеченным. Сегодня – нет.
Директоры оперных театров (и композиторы) забывали (и забывают), что дирижер оркестра, который может быть блестящим музыкантом, в зрелищных проблемах часто остается близоруким и даже слепцом. Вместо того, чтобы искать синтез, равновесие и органические связи музыкальных и зрелищных элементов оперного спектакля, зрелищная часть всегда отбрасывается на второй план. Зритель как таковой забывается. Но в искусстве, в подлинном художественном произведении, нет и не может быть ничего второстепенного. Каждый аксессуар, даже тот, который кажется самым несущественным, или отсутствие того или иного аксессуара играют в театральной постановке (так же как и в картине) не менее важную роль, чем наиболее «глубокая» фраза пьесы. Вся проблема постановки заключается только в умении компоновать все эти элементы на сцене наиболее рациональным образом, как краски на картине, как каждый инструмент в оркестре: малейшая неточность – и гармония нарушается.
Доверять оперную партитуру постановщику, который не является профессиональным музыкантом? Позволить ему изучить ее со зрелищной точки зрения и, может быть, внести в нее кое-какие изменения? Директоры оперных театров (и композиторы) находят такое решение недопустимым. Музыка считается искусством неприкосновенным, священным, и это является тоже мнением так называемой «широкой публики» и «профессиональных» критиков. Но если мы спросим, использовал ли Гуно полный и никак не переделанный текст Гёте? Использовал ли Бизе оригинальный текст Мериме? Как поступил Чайковский с текстом Пушкина или что сделал Прокофьев с «Войной и миром» Толстого и т. д. и т. д. – то мы услышим в ответ, что переделка текста литературного произведения композитором вполне оправдана и неизбежна, так как он превращает литературное произведение в произведение музыкальное. И (любопытный случай) это будет также мнением «широкой публики» и критиков, как теперь считается нормальной переделка (инсценировка) романа для театральной пьесы или для кинематографического экрана.
Композитор, конечно, вполне прав, перекраивая литературное произведение. Книга и музыка – слишком разные материи, и их объединение не может произойти автоматически: оно требует органической координации, органического слияния.
Но если признать за композитором право на переделку литературного произведения в либретто для оперы, то театральный постановщик (обладающий, само собой разумеется, музыкальной культурой) будет в той же мере прав, внося в оперную партитуру изменения, необходимые для ее перерождения в зрелище. Расстояние между музыкой и зрелищем еще более чувствительно, чем между музыкой и книгой, и их слияние требует еще более сложной переработки.
Как можно поставить оперу на сцене?
Реалистическая игра актеров, реалистические декорации и костюмы, произведшие в Москве такое неприятное впечатление на Поля-Луи Миньона, конечно, недопустимы в оперной постановке. Действующие лица, заменившие нормальную человеческую речь пением, не могут играть в реалистической постановке. Игра оперных актеров, оперные декорации и костюмы должны быть разгружены от реалистических деталей, должны быть, в свою очередь, «омузыкалены», иначе говоря – должны найти свою специфическую форму. Это главное.
Я убежден, что оперное искусство не устарело, как утверждают многие «театралы», но просто еще не успело сформироваться. Немного больше эластичности и понятливости у директоров оперных театров, немного меньше профессиональной амбиции среди композиторов, дирижеров оркестра и у певцов – и катастрофы можно будет избежать. Остается только обратиться к подлинным и большим театральным постановщикам, создателям спектакля (зрелища) и сказать им: придите и поступайте с музыкой так же, как композитор поступил с литературным произведением, его вдохновившим.
Это единственная возможность найти для оперы сценическое воплощение, достойное ее музыкальных качеств. Публика снова будет стоять очередями перед театральными кассами, как это происходило в XIX веке, и «слишком длинные» оперные спектакли перестанут утомлять зрителей.
На таком решении проблемы мнения Прокофьева вполне совпадали с моими. Однажды, незадолго до своего возвращения в Советский Союз, Прокофьев сказал мне:
– Наиболее абсурдным и неискоренимым в оперных спектаклях является размещение оркестра между сценой и зрителями, вместе с дирижером во фраке и с его палочкой, которая, мотаясь перед глазами публики, указывает певцам, когда им следует начинать их арии, когда усиливать или ослаблять голос, ускорять или замедлять темпы и т. п. Представим себе на секунду, что в драматическом театре постановщик, режиссер спектакля (драмы или комедии) сядет спиной к публике на суфлерскую будку и, размахивая руками, начнет указывать актерам их входы и выходы, жесты и интонации голоса… Музыкальная оркестровка, звуковая субстанция, перемены ритмов в опере должны, конечно, заполнять уши зрителей, но без таких наивных и примитивных демонстраций – особенно в наше время, богатое неисчислимыми техническими изобретениями и возможностями невидимой передачи звуков…
Прокофьев задумался на минуту и добавил:
– Это здорово забавно, а? Я даю себе слово, я обещаю себе осуществить такую реформу!
Вернувшись в Советский Союз, Прокофьев, революционер в искусстве, вынужден был начать свое отступление, и его обещание осталось безрезультатным.
Три или четыре раза я встретился с Прокофьевым на приемах в советском полпредстве в Париже, в эпоху Красина и Раковского, очень интересовавшихся искусством. Там, после весьма обильного обеда с неизменной икрой, шампанским и лакеями во фраках и белых перчатках, Прокофьев исполнял в салоне на рояле отрывки из своих произведений. Кроме высоких дипломатических представителей Франции, приглашенные (смокинги, декольтированные платья, драгоценные меха и бриллианты) принадлежали главным образом к высокой французской аристократии. Одним вечером 1926 года Прокофьев и я возвращались вместе из полпредства. Прокофьев сказал:
– Забавный трюк: в посольстве страны рабочих и крестьян мы встречаем на приемах только графов и маркизочек! Что это? Недомыслие? Лицемерие? Страх? Болезненное любопытство? Практические соображения?
Я всегда верил в искренность Прокофьева, и мне казалось, что именно эти качества побудили его в 1932 году окончательно переселиться в СССР. Но, не удержавшись, я все же спросил его, зачем он это делает. Ответ был неожиданный, но точный:
– Меня начинают принимать в советской России за эмигранта. Понимаешь? И я начинаю постепенно терять советский рынок. Но если я окончательно вернусь в Москву, то здесь – в Европе, в Америке – никто не придаст этому никакого значения, и мои вещи будут исполняться здесь так же, как и теперь, а то и еще чаще, так как все советское начинает входить в моду. Понял? Почему же в таком случае не доить разом двух коров, если они не протестуют? Понятно?
Очень понятно.
Эта оппортунистическая точка зрения распространилась постепенно в большинстве «свободных» европейских стран, что несомненно приведет их однажды к гибели.
Триумфально вернувшись в Советский Союз, Прокофьеву вскоре же пришлось подчиниться требованиям скучнейшего «социалистического реализма» и даже сделать неизбежную «самокритику», родственную самокритике композитора Шостаковича (вызванной написанием его оперы «Леди Макбет Мценского уезда») и кинематографического постановщика Сергея Эйзенштейна, с которым Прокофьев был связан долгой дружбой и сотрудничеством (музыка для фильмов «Александр Невский» и «Иван Грозный»).
«Самокритика нам нужна, как воздух, как вода», – говорил Сталин. Здесь нужно заметить, что воздух, как и вода, стоят недорого. Если бы Сталин сравнил самокритику с икрой и с индюшкой, которые сервировались в Кремле и в полпредствах, то Прокофьев, может быть, реагировал менее непосредственно. Впрочем, не судите да не судимы будете. Следует ли замечать соломинку в чужом глазу, не заметив бревна в своем собственном глазу? Когда идет дождь, люди раскрывают зонтики…
Неприятности не заставили себя ждать, чтобы уязвить в Прокофьеве самолюбие художника. Привыкший на Западе к тому, что его театральные вещи обрамлялись на сцене такими мастерами, как Ларионов («Шут»), Ларионов с Гончаровой («На Борисфене»[67]67
Имеется в виду балет С.Прокофьева «На Днепре» (Борисфеном называли Днепр в Византии).
[Закрыть]), Якулов («Стальной скок») или англичанин Ги Шеппар («Петя и волк»), Прокофьев был, насколько я знаю, сильно огорчен академическими декорациями, в которых должны были появляться его произведения на советских сценах. С годами эти случаи накоплялись, все более деморализуя Прокофьева и подтачивая его артистическую сопротивляемость.