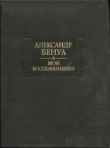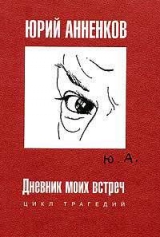
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Борис Пастернак

Борис Пастернак
Основное, что я считаю необходимым отметить, говоря о Пастернаке, и что, по-моему, является главным в личности и в творчестве Пастернака, это то, что он был в Советском Союзе одним из последних русских писателей и поэтов. Теперь осталась там, может быть, только одна Анна Ахматова, и больше – никого, если не считать поэтов подпольных.
Борис Пастернак: огромные глаза, пухлые губы, взгляд горделивый и мечтательный, высокий рост, гармоничная походка, красивый и звучный голос. На улицах, не зная, кто он, прохожие, в особенности – женщины, инстинктивно оглядывались на него. Никогда не забуду, как однажды Пастернак тоже оглянулся на засмотревшуюся на него девушку и показал ей язык. В порыве испуга девушка бегом скрылась за угол.
– Пожалуй, это уж слишком, – укоризненно сказал я.
– Я очень застенчив, и подобное любопытство меня смущает, – извиняющимся тоном ответил Пастернак.
Да, он был застенчив. Однако эта застенчивость не касалась ни его творчества, ни его гражданского мужества. Его биография это доказывает.
Я познакомился с Пастернаком в Москве незадолго до революции, года четыре спустя после его литературных дебютов. Ранние отдельные стихи Пастернака появились в печати, если я не ошибаюсь, уже в 1912 году[180]180
Стихи Пастернака начали появляться в печати с 1913 г.
[Закрыть], и первый сборник его стихов – «Близнец в тучах» – вышел в 1914 году. Те годы в русской поэзии еще целиком принадлежали Александру Блоку, Андрею Белому, Валерию Брюсову, Константину Бальмонту. Символизм достиг последних вершин. Однако пока ценители литературы еще зачитывались «Незнакомкой» и «Балаганчиком», новое поколение поэтов уже вступило в борьбу с символизмом.
Пастернак жил в Москве, я – в Петербурге. Он был поэтом, я – живописцем. Но в эту эпоху мы все, вся артистическая молодежь России (и не только России), были воодушевлены одинаковым стремлением к искательству новых (часто противоречивших друг другу) форм художественного выражения, и это – в самых разнообразных родах искусства: литература, живопись, музыка, театр…
Потом пришла революция.
Русская литература после коммунистического переворота 1917 года пережила целый ряд превращений. Уже в самые первые месяцы после Октября началось ее расчленение. В 1919 году сформировались так называемые «попутчики», состоявшие главным образом из литературной молодежи. Постепенно «попутничество» начало разрастаться и принимать все более широкие размеры.
В чем заключалось «попутничество»? Главной чертой его был постепенный отказ от индивидуального понимания литературных задач и в приятии коммунистической идеологии. В центре «попутчиков» оказалась группа «Серапионовы братья»: очень рано умерший Лев Лунц, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, возглавляемые в своих формальных, стилистических искательствах, тогда еще очень заметных, Евгением Замятиным. В известной степени к той же группе примыкал Борис Пильняк. Но вскоре расчленение приняло очень резкую форму, и в те же годы значительное количество русских писателей и поэтов эмигрировало за границу: Иван Бунин, Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, Александр Куприн, Евгений Чириков, Алексей Ремизов, Алексей Толстой, затем Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Раиса Блох, Владислав Ходасевич, Нина Берберова, Николай Оцуп, Георгий Адамович, Борис Поплавский, Юрий Иваск, Георгий Раевский, Виктор Мамченко, Юрий Терапиано, Гайто Газданов, Марина Цветаева, Владимир Набоков (Сирин), Анна Присманова, Александр Гингер, Владимир Познер, Антонин Ладинский, несколько позже – Евгений Замятин и многие другие. Впоследствии некоторые из них, подчиняясь «тоске по родине», вернулись в советскую Россию: Алексей Толстой – чтобы превратиться в сталинского придворного; Ладинский – чтобы умолкнуть на долгие годы; Куприн – чтобы умереть на родине; Цветаева – чтобы покончить там самоубийством…
«Попутчики», оставшиеся в Советском Союзе, вынуждены были все более перекрашиваться в коммунистических идеологов и наконец окончательно подчинить свое искусство, не только – в его содержании, но и в его форме, официально провозглашенному «социалистическому реализму», ничего общего с живым русским искусством не имеющему. «Социалистический реализм», столь громко и победно провозглашаемый в Советском Союзе, так же далек от русского искусства, как вновь открывшаяся с пропагандной целью в годы Второй мировой войны (одновременно с восстановлением офицерских чинов и сорванных погонов) «советская» церковь далека от подлинной религии. Посещающие Советский Союз иностранные туристы и русские эмигранты, переменившие свою национальность и считающие теперь такие поездки очень модным развлечением, рассказывают всегда о том, что в Советском Союзе церкви, возвращенные культу, всегда переполнены молящимися. Эти туристы забывают о том, что если в Советском Союзе партия и правительство официально открывают церкви или какие-нибудь выставки и прочие места для массового посещения, то советские граждане считают весьма полезным и современным подобные посещения и стекаются туда толпами. Не следует забывать, что в течение десятков лет в Москве, на Красной площади, тоже ежедневно топчется бесконечная, многотысячная очередь советских граждан, стремящихся «поклониться» мумии Ленина, упразднившего религию, объявив ее «опиумом для народа» и превратив церкви в клубы, в антирелигиозные музеи, в кинематографы, в конюшни, в прачечные. Теперешние толпы в советских церквях, возвращенных культу, и на Красной площади перед ленинским мавзолеем скопляются из одних и тех же («сегодня – здесь, а завтра – там») советских граждан. Это необходимо понять, вникнув в психологическую сущность происшедших перемен, чтобы не предаваться ложным иллюзиям.
Как я уже говорил в главе, посвященной В.Маяковскому, Пастернак примыкал к наиболее боевой литературной группе того времени: к группе футуристов.
Он встретил революцию, как многие из нас – художников, писателей, поэтов, людей искусства, как Александр Блок, как Сергей Есенин, как Владимир Маяковский, – скорее фонетически, как стихийный порыв, как метель, как «музыку» (по словам Блока).
Но если в следующие годы многие из «попутчиков» (за исключением Замятина, Пильняка и Зощенки) успели уже полностью влиться в «генеральную линию» коммунистической партии, то есть, иначе говоря, превратиться в писателей «советских», которые на одни и те же заданные им темы пишут совершенно одинаково на самых разнообразных языках: на русском, на литовском, на азербайджанском, на эстонском, на армянском, на туркменском и даже на арагонском; если к этому же времени писатели и поэты, не принявшие революции и не услышавшие ее «музыку», оказались уже за границей, то Борис Пастернак (впрочем, тогда еще – далеко не один) решил героически остаться русским писателем на своей родине и творить, выражая свои собственные чувства, свои собственные мысли, не подчиняясь ничьей дирижерской палочке. Когда несколько позже, в конце двадцатых годов, футуристы (Леф – Левый фронт[181]181
Объединение называлось «Левый фронт искусств».
[Закрыть], руководимый Маяковским) решили отдать свое искусство «на службу революции», Пастернак разошелся с ними. «Служебные» задачи не связывались у Пастернака с понятием о поэзии.
С этих лет начинает разворачиваться общая драма русского искусства. Революция социальная совпала с революцией в искусстве лишь хронологически. По существу же, социально-политическая революция породила в художественной области подлинную контрреволюцию: сталинско-ждановское нищенское «возвращение к классицизму», «социалистический реализм», мелко-мещанскую фотографическую эстетику, вздутую «марксо-ленинской идеологией», отсутствие мастерства и полицейский запрет всяческого новаторства.
Говоря о Пастернаке, я отнюдь не хочу сказать, что он перешел в «контрреволюционный лагерь»: в контрреволюционном лагере многие тоже утверждали, что искусство должно «служить» политическим идеям. Пастернак оказался вне каких бы то ни было революционных или контрреволюционных политических и социальных лагерей. Равнодушный к социальным проблемам, он остался, как и был, просто поэтом, остался продолжать свою внеполитическую (или, вернее, надполитическую) творческую жизнь.
Выбор своей судьбы, сделанный Пастернаком, оказался наиболее трудным. В ленинский период подобное сожительство художников пера, «пассивно» принявших революцию, с коммунистической властью было еще возможно, но дальнейшая действительность постепенно доказала, что компромиссы такого рода неосуществимы. Именно это и является основным фоном романа Пастернака «Доктор Живаго».
Писатели, поэты, живописцы, композиторы, старавшиеся удержаться в Советском Союзе на внеполитических (или надполитических) позициях, были вскоре заклеймены кличкой «внутренних эмигрантов». На них обрушились все невзгоды.
Сергей Есенин, Владимир Пяст, Андрей Соболь, как впоследствии – Марина Цветаева, покончили самоубийством. Николай Гумилев, Сергей Третьяков, Борис Пильняк, Адриан Пиотровский, Владимир Киршон, Бруно Ясенский и многие другие были расстреляны. Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Всеволод Мейерхольд и сколько других погибли в советских тюрьмах и в концентрационных лагерях. Самоубийство Владимира Маяковского имело обратную причину: он застрелился потому, что согласился отдать свою поэзию на службу партии и, таким образом, как выразился Александр Блок о самом себе, умер как поэт, так как дышать ему уже стало нечем.
По странной случайности, именно по случайности, уцелели Пастернак и немногие другие. Кара, которой они подверглись, заключалась в их вынужденном молчании. После сборника стихов «Второе дыхание»[182]182
Название сборника – «Второе рождение».
[Закрыть], вышедшего в 1932 году, не было опубликовано ни одной книги новых стихов и новой прозы Пастернака в течение одиннадцати лет. Кроме переводов. Пастернак перевел почти все трагедии Шекспира, «Фауста» Гёте, произведения Шиллера, Верлена, Рильке и других. Лишь в 1943 году, во время войны и пропагандного восстановления священства и офицерских погон, появилась новая книга стихов Пастернака: «На ранних поездах». С 1945 года по 1960-й – еще пятнадцать лет немоты. Двадцать шесть лет в целом[183]183
Б.Пастернак все эти годы продолжал интенсивно работать – писал стихи, прозу, занимался переводами, но его произведения публиковались редко.
[Закрыть]. Французский писатель Тьери Молнье, говоря о Пастернаке, сказал: «Самый большой писатель в Советском Союзе был писатель запрещенный».
Подобное же молчание должна была выдерживать прекрасная Ахматова. Пастернак продолжал, однако, видеть действительность глазами неподкупного человека и художника. Эти честность и неподкупность художника вылились в «Докторе Живаго», придав книге те качества, за которые Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Но те же качества, та же честность и неподкупность, вызвали негодование советской власти и ее прихлебателей, негодование, не утихшее до дня его смерти.
Пастернак был москвичом. Но подлинной родиной и творческой атмосферой Пастернака были и остались Вселенная и Вечность. Более близких границ он, при его дальнозоркости, не замечал. Недаром Пастернак писал:
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
– Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Национальные и патриотические вспышки не захватывали Пастернака – они только мешали спокойствию его творчества. В годы войны (1914–1918) Пастернак советовал «закрыть глаза на войну, чтобы избавиться от „дурного сна“». Впрочем, мы все были противниками войны и всякого рода национальных манифестаций. Я помню, какое унизительное впечатление произвел на меня разгром германского посольства в Петербурге и каким нелепым показалось мне переименование Санкт-Петербурга в Петроград в день объявления войны, в 1914 году.
Мы желали видеть творческое объединение всех людей, людей-братьев, без какого бы то ни было отношения к расовым разницам, к цвету кожи, к языкам, к истории, формировавшей ту или другую народность.

Натан Альтман
Человечество – оркестр. Оркестр без дирижера. Здесь уместно будет напомнить, что в те годы в Москве пользовались большим успехом концерты оркестра без дирижера, оркестра, именовавшего себя «Первым симфоническим ансамблем» или – сокращенно – «Персимфанс». Эти концерты, ставшие тогда очень популярными, вызывали всегда шумные овации слушателей и очень нравились Пастернаку. Он даже как-то сказал мне, что если бы ему пришлось играть в оркестре, то дирижерская «махалка» только мешала бы ему сосредоточиться, он потерял бы внутреннее равновесие и стал бы конформистом.
Пастернак любил говорить о музыке, о ее несомненной связи с поэзией. Музыка была первым, почти детским призванием Пастернака. С ранних лет он лично знал Скрябина, «обожание» к которому «било» Пастернака «жесточе и неприкрашеннее лихорадки», как признался он в своей «Охранной грамоте», вышедшей в свет в Советском Союзе в 1931 году и вскоре попавшей в опалу. Поэзия пришла позже. «Музыка переплеталась у меня с литературой», – рассказывал Пастернак об этом времени в той же «Охранной грамоте». Разговоры этого рода были у Пастернака невольным скольжением темы. Мы начинали говорить о Прокофьеве и соскальзывали на Аполлинера. То же скольжение характеризовало беседы о живописи: мы начинали говорить о Чюрленисе и незаметно переходили к значению звуковых диссонансов, что было, впрочем, вполне естественно[184]184
См. главу об А.Блоке.
[Закрыть].
Пастернак писал: «Больше всего на свете я любил музыку… Жизнь вне музыки я себе не представлял… Музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что могло быть самого фанатического, суеверного и самоотреченного во мне».
Однако если поэзия Пастернака, ее фонетическая фактура (непереводимая на иностранные языки, как, впрочем, и всякая поэзия) вытекала из музыки, эта поэзия, тем не менее, не стала абстрактной, беспредметной, как это случилось у Хлебникова и у Крученых. Правда, она не касалась ни революции, ни социальных вопросов. Природа, пейзажи, чувства гораздо сильнее привлекали внимание поэта, чуждого хронике происшествий, материалистической действительности и реализму. «Искусство, – писал он, – есть запись смещения действительности, производимого чувством».
Это поэтическое «смещение» действительности было впоследствии истолковано полуграмотной советской властью как «извращение» действительности и стало одной из причин литературной (и политической) опалы Пастернака, хотя, по существу, формула Пастернака ничего нового не представляла. Не читали ли мы в чеховской «Чайке» следующую фразу Треплева: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах».
Но Чехов умер за семнадцать лет до нашествия большевизма и успел сделаться кумиром буржуазного читателя и буржуазного зрителя.
Чеховская литература, лишенная особых формальных заострений, пришлась по вкусу и мелкобуржуазным руководителям советской власти, и Чехов был признан классиком. Жан-Поль Сартр, вернувшись из путешествия по Советскому Союзу, написал в своих впечатлениях, что в больших городах СССР (страна бесклассового общества) театры посещаются, «как и в Париже, главным образом мелкой буржуазией».
Если, говоря это, Сартр споткнулся идеологически, то во всяком случае он доказал, что его писательская наблюдательность его не обманула.
Литература Пастернака, напротив, полна формальных заострений, и потому, повторив фразу Чехова, он был взят под запрет.
Из-за дальности расстояния (Москва—Петербург) я встречался с Пастернаком сравнительно реже, чем с петербуржцами, и был с ним на «вы». Впрочем, в литературной среде, с которой у меня сохранялись постоянные и тесные связи, я был на «ты» (в России и в Советском Союзе) лишь с Евгением Замятиным, с Владимиром Маяковским (Володька—Юрка), с Сергеем Есениным, с Алексеем Толстым, с Василием Каменским, с Виктором (Виктей) Шкловским, с Михаилом (Мишенькой) Кузминым, с Александром Тихоновым (директором издательства «Всемирная литература»), со Львом Никулиным (впоследствии лауреатом Сталинской премии) и также – по театральной линии – с Николаем (Николашей) Евреиновым и с Всеволодом Мейерхольдом. Среди художников я был на «ты» (в России и в Советском Союзе) только с Иваном Пуни (моим другом детства), с Марком Шагалом, с Владимиром Татлиным, с Натаном (Наташей) Альтманом. Со всеми остальными я был на «вы»…
В 1921 году в моей петербургской квартире Пастернак позировал мне для наброска. Он сел в кресло, устремил свой взгляд в угол комнаты и превратился в неподвижную скульптуру. Я этого не любил. Я всегда предпочитал модель, свободную в движениях, чтобы схватывать наиболее характерные положения, повороты, взгляды. Я попросил Пастернака разговаривать со мной, пока я рисую. Он улыбнулся и ответил:
– А не будет ли легче для вас, если я стану только о чем-нибудь упорно думать, а не разговаривать?
Мы оба засмеялись, и Пастернак рассказал мне, что об этом всегда просил своих моделей его отец, Леонид Пастернак, когда они позировали ему для портретов. Делая набросок со Льва Толстого, Леонид Пастернак обратился к нему:
– Старайтесь, пожалуйста, Лев Николаевич, о чем-нибудь интенсивно думать.
На что Толстой ответил с недоумением:
– Да я всю жизнь только этим и занимаюсь.
Мы снова засмеялись…
В 1922 году в Берлине, в издательстве З.И.Гржебина, вышел на русском языке лучший сборник пастернаковской поэзии «Сестра моя – жизнь». Сделанный мною портрет Пастернака был помещен в этой книге в качестве фронтисписа. Мы были тогда молоды и перегружены работой. Жизнь мчалась. Сегодня я горжусь этим маленьким томиком, объединившим нас на долгие годы…
В те далекие годы юный Пастернак верил в победу нового искусства, в свободу художественного творчества. Но уже несколько лет спустя он писал с горечью:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!..
…Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Здесь тоже, по странному совпадению, вспоминаются слова из «Чайки»: «Я теперь знаю, понимаю… что в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест…» (слова Нины Заречной).
Встречи и разговоры с Пастернаком, как бы кратки они ни были, меня всегда волновали. Его особая форма речи, столкновения поэтической отвлеченности с уличной повседневностью, сплетенье синтаксического своеобразия с бытовым щебетом, и так – о чем бы он ни говорил: о любви, об искусстве или о какой-нибудь мелочи, о какой-нибудь полуоткрытой фортке.
Вот пример:
Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые,
Без палки и поводыря.
Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод…
Еще один пейзаж (из «Доктора Живаго»): «Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось. Воде было где разгуляться. Она летала вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаща наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипеньем текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяной пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков, пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая бело-бурая пена, как пивная пена на губах у пьющих. Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими корнями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнущие ливни…»

Осип Цадкин
Или – противоположное (из «Доктора Живаго»):
«– Ах ты шлюха, ах ты задрёпа, – кричала Тягунова. – Шагу ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупничает! Мало тебе, суке, колпака моего?.. Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха!
– Но, но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо?
– А надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!
– Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхатила, ежом разродилась…»
В последний раз я видел Пастернака в Париже в 1935 году, в Madison Hotel, 143, бульвар Сен-Жермен. В этот год, будучи уже в полной славе, Пастернак не имел еще ни седых волос, ни морщин. В продолжение его краткого пребывания во Франции мы много говорили о Париже, а не о советской революции. Политика по-прежнему его не интересовала. Нелепый парадокс нашей эпохи: именно совершенная надполитичностъ Пастернака поставила его к концу его жизни в центре политического международного скандала.
Беседуя со мной, Пастернак вспоминал также о Венеции и о Флоренции. Разговорный язык Пастернака был столь же необычен, как и его описание: он говорил об «искренности усталой Венеции», о «торжественной и грустной улыбке» Флоренции, о «сером трауре» Собора Парижской Богоматери, о «стремительности» Елисейских Полей… Пастернак попросил меня также подвезти его на улицу Campagne Premiere, к дому, в котором жил когда-то Райнер Мария Рильке.
На той же улице я показал ему маленький отельчик «Истрия», где живал во время своих приездов в Париж Владимир Маяковский. Пастернак остановился, всмотрелся в фасад, в вывеску отеля и, воскликнув: «Ах, я вспомнил, вспомнил!» – прочел наизусть следующие строки Маяковского (уже приведенные здесь в главе, посвященной этому поэту):
Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
Четыре метра ежедневно мерь,
Мне тесно здесь,
в отеле Istria,
На коротышке
rue Gampagne Premiere.
От отельчика «Истрия» мы дошли потом до знаменитой кофейни «Ротонда», где в мои студенческие годы, до Первой мировой войны, я просиживал долгие вечерние (ночные) часы в компании начинающего скульптора Осипа Цадкина, начинающего живописца Моисея Кислинга, юного (тогда еще – скульптора) Амедео Модильяни, иногда – взлохмаченного Марка Шагала, красавца Ивана Пуни… В тот последний вечер в «Ротонде» мы встретили только одиноко сидевшего, с трубкой во рту, угрюмого Илью Эренбурга. И мы болтали втроем об Исидоре Лотреамоне, о «Новгородской легенде» Блеза Сандрара, о Ван Гоге, о Владимире Татлине, о гуашах Козинцевой (очаровательная и талантливая жена Эренбурга, забросившая или погубившая в советском «социалистическом реализме» свое искусство, но оставившая у меня ласковый бретонский пейзаж. Жена Эренбурга, украсившая цветами гроб Пастернака, несмотря на то, что Эренбург на похоронах, само собой разумеется, не присутствовал).
Говорил ли Пастернак в тот вечер что-нибудь против революции? Ни одного слова. Мы не говорили также ни о «советском строительстве», ни о «завоеваниях социализма». Эти темы ждали Пастернака и Эренбурга в Советском Союзе.
Моя последняя встреча с Пастернаком состоялась еще в эпоху, когда в советской Литературной энциклопедии (1934), несмотря на утверждение, что «в тех случаях, когда Пастернак силою жизни принужден говорить о положительном значении строя новых отношений, социализм в представлении Пастернака означает не завершение и развитие, а отрицание сегодняшнего дня пролетарской революции», говорилось, тем не менее, что «крупное поэтическое дарование Пастернака обусловило за ним репутацию большого и своеобразного поэта, оказавшего влияние на советскую поэзию».
Иначе говоря, наша последняя встреча относилась еще к эпохе последних искорок либерализма, в преддверии сталинских кровопролитий. В эту «либеральную» эпоху нашей последней встречи Пастернак мог еще печатать об искусстве: «Оно (искусство) интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, – больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону… В искусстве человек смолкает и заговаривает образ… Образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию… Все это захватывающе трудно».
Но когда позднее, уже в «Докторе Живаго», Пастернак напечатал, например, о русском крестьянине: «Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторном существовании трудами своих рук, без зависимости со стороны и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал еще в более узкие шоры нового революционного сверхгосударства… А вы говорите, крестьянство благоденствует», – то удел Пастернака был окончательно предрешен.
Несмотря на сильный индивидуализм (поэтический и человеческий) Бориса Пастернака, несмотря на его аполитичность, почти невозможно говорить о нем, не упоминая событий, которые взорвали Россию в 1917 году и обусловили до сегодняшнего дня жизнь (точнее – существование) «советских граждан», и в частности художников всех видов искусства; невозможно говорить о Пастернаке, не обобщая некоторых характерных этапов его биографии.
По выходе в свет (на иностранных языках) романа «Доктор Живаго» Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Если бы Пастернак жил в нормальных условиях свободных стран, то соотечественники забросали бы его поздравительными телеграммами и всяческими иными приветствиями и почестями, а его книга, его книги были бы немедленно перепечатаны – на родном языке – во множестве экземпляров и т. д. Но Пастернак жил и писал в Советском Союзе. «Доктор Живаго» там не опубликован, он запрещен, несмотря на тамошнюю «свободу печати», о которой кричат повсюду «прогрессисты» (слепые или купленные) всех стран. Мало того. Вместо приветствий Союз советских писателей[185]185
Правление Союза писателей СССР.
[Закрыть] – единогласно – выбросил Пастернака из своего состава, лишив его этим целого ряда профессиональных и материальных привилегий. И это еще далеко не все. Принужденный правящей партией, ее «правительством» и созданными ими жизненными обстоятельствами, Пастернак должен был отказаться от Нобелевской премии и, наконец, адресовать Никите Хрущеву невероятное письмо, начинающееся следующими словами: «Уважаемый Никита Сергеевич!»
Разумеется, это – общепринятая форма вежливости. Но ни для кого не тайна, что в Советском Союзе никто не уважал Хрущева, но что все вынуждены были лизать его сапоги, как – до того – лизали сапоги Сталина. Это отнюдь не является в СССР выражением единодушного восхищения, но служит доказательством всеобщего порабощения. Если Илья Эренбург делает это без особого отвращения, то не подлежит никакому сомнению, что многие члены Союза писателей (их имена я называть не стану), единогласно подписавшие приговор Пастернаку, глубоко страдали от этого.
Дальше Пастернак писал: «Я узнал, благодаря выступлению товарища Семичастного, что правительство не возражает против моего выезда из СССР. Это для меня невозможно. Я связан с Россией моим рождением, моей жизнью и моей работой. Я не могу представить себе мою оторванность от нее и жизнь вне ее… Мой отъезд за границы моей родины равносилен для меня смерти…»
Странная вещь. В «Охранной грамоте» Пастернак признавал, однако, не скрывая, свое восхищение перед другими странами. Вспоминая свою раннюю юность и день, когда его мать подарила ему двести рублей для его поездки за границу, Пастернак говорил, что он не смог бы «изобразить ни радости, ни совершенной неоценимости» этого подарка. Он начал в тот же день «бегство по канцеляриям». «От моей потерянности, – писал он, – за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру» (дело происходило, разумеется, в дореволюционной России).
О своих блужданиях по иностранным городам Пастернак писал: «Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском заостренного пространства, как с живой личностью».
Вчитываясь в заграничные впечатления Пастернака, мы узнаем его чувства. Вот, например, Венеция: «Венеция – город, обитаемый зданьями… В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться… Растущее восхищение (Венецией) вытеснило из Венеции последний след декламаций. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой… Осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы в отличие от отдельных картин увидеть самое живопись, как золотую топь, кипящую под ногами, как особый язык, как один из первичных омутов творчества… Надо видеть Карпаччо и Беллини, чтобы понять, что такое изображение… Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство… Надо видеть Микеланджело Венеции – Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, что есть художник». Следует заметить, что все перечисленные здесь мастера никакого отношения к «социалистическому реализму» не имеют.
Но кто же может отнестись равнодушно к Венеции? Я упоминал уже о впечатлениях Блока, Ахматовой, Гумилева… А.С.Суворин (редактор газеты «Новое время»), сопровождавший А.П.Чехова в его поездке за границу, писал, что «Венеция захватывала его (Чехова) своей оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами…» («Новое время», № 10179, 1904).
И вот – одно из заключений Пастернака: «Италия (а не марксизм-ленинизм) кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели».
Это Пастернаком напечатано в его книге. Я могу добавить кое-что, сказанное им в одном из разговоров со мной, в Москве (где его квартира помещалась прямо против взорванного Лениным Храма Христа Спасителя). Шел двадцать четвертый год, год смерти Ленина. Мы проходили мимо кремлевских стен и беседовали об Италии, о Венеции, в которую я собирался ехать по случаю открытия советского павильона на международной выставке «Biennale», где среди других произведений было представлено тогда несколько моих холстов и рисунков. Пастернак говорил:
– Италия не только в Италии. Италия – и в наших корнях. Вот взгляните: Боровицкая башня. Кто построил эту русейшую башню? Итальянский зодчий Солари! А вот перед нашим носом – Беклемишевская башня. Кто создал ее? Итальянский зодчий Руффо![186]186
Именем Руффо в начале XX века ошибочно называли итальянского архитектора Марка Фрязина.
[Закрыть] А там – видите? – купола русейшего, нашего, нашенского знаменитейшего национального Успенского собора. Кто взрастил его? Итальянский зодчий Фьорованти! Да что там толковать! Грановитая палата, которую во всех «Борисах Годуновых» и прочих оперных спектаклях на древнерусские темы воспроизводят на сценах всего мира как «русский стиль», – кто создал, кто декорировал этот московский шедевр? Те же итальянцы: Солари и Руффо, в 1491 году! Для меня Италия и Россия связаны знаком равенства… Не звучит ли «равенство» как Равенна?.. И в конце концов, не писал ли Гоголь «Мертвые души», величайшее русское, в Риме, на via Sistina?