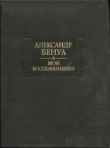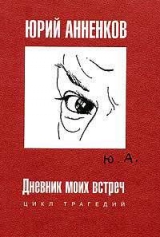
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Прочитав это письмо, я в тот же день прибежал к Ларионову. Мы поцеловались по привычке.
– Но о чем же ты болтаешь, – засмеялся Ларионов, выслушав меня, – ты же видел, что твое имя даже не упомянуто в моем письме? Я прекрасно знаю, что ты совершенно не был в курсе всей этой эпопеи и что Нижинская никогда не показывала тебе моего наброска! Я опубликовал мое письмо исключительно для обогащения хроники происшествий в Истории балета.
Наталья Сергеевна Гончарова тем временем приготовила чай в их маленькой кухонке, и инцидент оказался исчерпанным. Началось обычное балагурство Ларионова, мечтательные замечания Гончаровой – о том, о сем, совсем о другом. Я вернулся домой с очищенной совестью, и моя дружба с Ларионовым осталась незапятнанной.
У меня хранятся несколько рисунков и акварелей Ларионова, и среди них – портретный набросок С.Дягилева.
Сергей Маковский
Сергей Константинович Маковский – поэт, художественный критик, теоретик искусства, мемуарист – был сыном знаменитого живописца Константина Маковского и племянником не менее знаменитого художника Владимира Маковского.
Во время одной из наших дружеских бесед я как-то спросил Сергея Константиновича, почему он тоже не сделался живописцем. Отличавшийся весьма тонким остроумием, Маковский тотчас же ответил мне с иронической улыбкой, что когда три художника носят одну и ту же фамилию, то никто, кроме специалистов, не может разобрать – или запомнить, – кем именно из них написана та или иная картина. И Сергей Константинович сразу же привел несколько очень показательных примеров. Венецианцы Беллини – кто сможет отличить произведения Якопо от произведений Джентиле или Джованни? Французы Le Nain: Антуан, Луи и Матье. Кто, кроме художников и искусствоведов, сумеет определить индивидуальные признаки их творчества? Фламандцы Брейгель: Питер Старший, Питер Младший и Ян Бархатный – та же драма.
Сергей Константинович был прав. Подобная путаница преследует не только художников, но в той же степени и писателей. Вспомним хотя бы случай, о котором я говорил в главе, посвященной Алексею Толстому.
Не став художником, поэт Маковский, тем не менее, посвятил большую часть своей жизни расцвету русской художественной культуры, расцвету русской живописи и графики. Достаточно вспомнить лишь некоторые из его заслуг в этой области, чтобы ощутить всю глубину понесенной утраты. Статьи Маковского по вопросам искусства появились уже в конце девяностых годов прошлого столетия. Но самой значительной датой в его биографии стал 1909 год, год основания Маковским художественно-литературного ежемесячника «Аполлон» и открытия Салона живописи, рисунка, скульптуры и архитектуры, где было представлено свыше шестисот произведений мастеров русского искусства, порвавшего с академизмом и натурализмом второй половины XIX века и стремившегося к новым формам художественного выражения. Салона, на котором рядом с Рерихом, Бакстом, Врубелем были впервые показаны картины Петрова-Водкина, Чюрлениса, Кандинского и других русских живописцев-новаторов.
В журнале «Аполлон», вышедшем впервые в обложке Льва Бакста и в последующие годы в обложке Мстислава Добужинского, Маковский непрерывно печатал свои статьи по вопросам искусства, и преимущественно – молодого русского искусства, о проблемах его развития и о его отдельных мастерах, тогда еще только входивших в силу.
На те же темы Маковским были выпущены книги и в других изданиях: два первых тома «Страниц художественной критики» (1906 и 1908); третий том этих «Страниц» вышел уже в издательстве «Аполлон» в 1913 году. «Русская графика» (1916). Затем – «Силуэты русских художников» (1921), написанные уже в зарубежье, как и все последующие книги Маковского: «Последние итоги живописи» (1922) и в том же году «Графика М.В.Добужинского»[215]215
Книга С.Маковского «Графика Добужинского» была издана в 1924 г. (Берлин, Петрополис).
[Закрыть], снова появившаяся, с некоторыми дополнениями, в сборнике статей «На Парнасе Серебряного века» в 1962 году…
Наиболее характерной и ценной чертой Маковского-искусствоведа было постоянное стремление открывать молодые таланты и давать им возможность проявить себя. Альтруизм Маковского был нескрываем. И это касалось не только изобразительного искусства, но в равной мере и художественной литературы, в особенности поэзии. Я не могу не привести несколько слов Маковского, напечатанных в 1962 году и посвященных Анне Ахматовой: «Как-то Гумилев[216]216
тогда – муж Анны Ахматовой. – Ю.А.
[Закрыть] был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи. Она еще не печаталась в журналах, Гумилев не позволял. Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в „Аполлоне“. Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: „Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно“. Так и условились… Стихи Ахматовой, как появились в „Аполлоне“, вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из дальних странствий, оставалось только примириться с fait accompli[217]217
С свершившимся фактом (фр.).
[Закрыть]. Позже он первый восхищался талантом жены и, хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой».
Описанное Маковским событие произошло в 1911 году.
В 1910 году Александр Блок опубликовал в «Аполлоне» статью «О современном состоянии русского символизма». В ранних номерах «Аполлона» печатались также и юношеские стихотворения Георгия Иванова[218]218
В ранних номерах журнала «Аполлон» (1909—1917) стихи Г.Иванова не печатались: первая его стихотворная публикация появилась в 1914 г. (№6—7).
[Закрыть].
Вспоминаю одно, уже далекое событие, обогатившее щедрую биографию Маковского: все в том же помещении Маковским было организовано первое публичное выступление юноши в гимназической куртке с черным ремнем и пряжкой, исполнявшего на рояле свои произведения. Имя гимназиста – Сергей Прокофьев.
В 1911 году в том же здании «Аполлона» Маковским и Корнфельдом была устроена выставка «Сатирикона»[219]219
Выставка карикатур и рисунков художников журнала «Сатирикон» была организована в 1909 г.
[Закрыть], где приняли участие художники Ре-Ми (Николай Ремизов), Александр Яковлев, Алексей Радаков, Александр Юнгер и другие сатириконцы.
Не следует также забывать, что уже в первом номере «Аполлона» появилась статья самого блестящего реформатора современного театра Вс. Э.Мейерхольда…
Короче говоря, в очень быстрый срок все авангардное русское искусство тех лет объединилось вокруг «Аполлона», ставшего подлинным центром русской художественной жизни, художественной мысли. В помещении редакции «Аполлона» на Мойке постоянно происходили встречи, собрания, споры, чтение стихов, беседы о новом театре, музыкальные вечера… Александр Бенуа, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Лев Бакст, Александр Блок, Михаил Кузмин, Алексей Толстой, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Федор Сологуб, Владимир Пяст, Сергей Городецкий, Мстислав Добужинский, Димитрий Стеллецкий, Иннокентий Анненский (скончавшийся в 1909 году, почти сразу же после основания «Аполлона»), Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Судейкин, Александр Головин, Всеволод Мейерхольд, Николай Евреинов, Федор Комиссаржевский, Сергей Волконский…
Поиски молодых или еще никому не известных талантов продолжались у Маковского и в зарубежье, где в течение многих лет он руководил издательством «Рифма»[220]220
С.Маковский редактировал поэтические сборники издательства «Рифма».
[Закрыть], в котором вышли сборники стихов Вадима Андреева, Веры Булич (я называю имена в алфавитном порядке), Анатолия Величковского, Тамары Величковской, Александра Гингера, Владимира Злобина, Георгия Иванова, Юрия Иваска, Владимира Корвин-Пиотровского, Антонина Ладинского, Виктора Мамченко, Юрия Мандельштама, Владимира Набокова, Ирины Одоевцевой, Георгия Раевского, Юрия Терапиано, Юрия Трубецкого, Лидии Червинской, Игоря Чиннова, Аглаиды Шиманской, Анатолия Штейгера, Евгения Щербакова, Ирины Яссен, кажется, еще кого-то и, конечно, самого Маковского. В этом направлении Маковский трудился до последних лет своей жизни, доказательством чего служит выпущенная им в 1960 году книга стихов Михаила Адольфовича Форштетера, русского эмигранта, умершего в Люксембурге в 1959 году и никогда (или почти никогда) не печатавшего своих стихов при жизни. Стихи Форштетера, переданные Маковскому сестрой покойного, явились для Сергея Константиновича, как он писал, «открытием», которое «без преувеличения можно назвать литературной находкой». Сгруппировав около пятидесяти стихотворений Форштетера, уже восьмидесятитрехлетний Маковский с неугасимой энергией и радостью открытия написал к ним очень серьезное биографическое и литературное предисловие и издал этот сборник «избранных стихов» неизвестного поэта. Для меня же эта книга явилась как бы книгой моих личных воспоминаний, так как в течение нескольких лет Форштетер и я жили в Париже в одном и том же отеле, где мы постоянно встречались и где поздними вечерами Форштетер часто читал мне свою поэзию. У меня сохраняются также до сих пор его романтический сценарий, героем которого является знаменитый французский скульптор Жан-Батист Карпо в период создания скульптурного оформления фасада парижской Большой Оперы, а также коротенькая новелла «Le Divertissement Nocturne», написанная на французском языке.
Несмотря, однако, на столь интенсивную стимулирующую деятельность Маковского во всех областях русского искусства, первенствующее место в его творчестве занимала всегда его собственная поэзия, к которой он относился с чрезвычайной строгостью. Если первое «Собрание стихов» Сергея Константиновича вышло в Санкт-Петербурге в 1905 году, то второй сборник, «Вечер», появился лишь через тридцать пять лет, в Париже, в 1940 году.
Я – не литературный критик и вообще не литературовед, и поэтому не берусь заниматься разбором поэзии Маковского, поэзии чрезвычайно высокого качества. Но я считаю нужным отметить, что именно в этом сборнике напечатано стихотворение, в котором, как мне кажется, с предельной ясностью выражены назначение и смысл поэзии:
ARS POETICA
памяти Иннокентия Анненского
Когда в тебя толпой ворвутся
Слова, которых ты не звал,
И звуки дрёмные проснутся,
Которых ты не пробуждал;
Когда на землю с безучастьем
Вдруг взглянешь и во тьме души
Повеет холодом и счастьем
И вечностью, – тогда спеши,
Спеши облечь мгновенный трепет
В пылающие ризы слов,
Души внимай волшебный лепет,
Журчанье тайных родников,
И пусть на звон творящей муки
Ответит лирная строфа,
Словами вызывая звуки,
Невоплотимые в слова.
Сборник «Вечер» представляет для меня особую ценность, так как он вышел с моей обложкой и таким образом связал меня с именем Сергея Константиновича.
Маковским было выпущено девять книг его стихов. После двух упомянутых выше сборников появились: «Somnium Breve» (Париж, 1948), «Год в усадьбе» (Париж, 1949), «Круг и тень» (Париж, 1951), «На пути земном» (Париж, 1953), «В лесу» (Мюнхен, 1956), «Еще страница» (Париж, 1957) и «Requiem», вышедший уже после смерти Маковского (Париж, 1963).
Я познакомился с Сергеем Константиновичем в Париже в 1925 году, когда мы оба оказались в этом городе, и с тех пор на протяжении тридцати семи лет встречался с ним у него, у меня, на литературных вечерах, иногда – на выставочных вернисажах, на театральных премьерах, на концертах, а также у наших общих друзей и знакомых.
С июня 1926 года Маковский стал секретарем основанной тогда в Париже А.О.Гукасовым ежедневной русской газеты «Возрождение» и пробыл на этом посту в течение шести лет.
Всегда жизнерадостный, безупречно элегантный и гостеприимный, Сергей Константинович был интереснейшим собеседником. Возраст в последние годы заставил его слегка сутулиться, но в ментальном отношении он до конца сохранил свою молодость и полемическую страстность.
Я вспоминаю наши беседы, наши – всегда дружеские – споры, наши – всегда дружеские – разногласия по вопросам искусства, как, впрочем, и во многом другом, до политики включительно; они очень занимали меня и казались мне не более чем интеллектуальными разветвлениями, ramifications intellectuelles, неизменно приводившими нас в конце концов к положительным заключениям.
Единственно, в чем мы решительно разошлись, тоже, конечно, вполне дружески, это – в оценке поэзии Александра Блока, которая меня чрезвычайно увлекала еще в мои гимназические годы. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904), поэма «Незнакомка» (1906)[221]221
Имеется в виду стихотворение «Незнакомка».
[Закрыть], пьеса «Балаганчик» того же года, шедшая в театре В.Ф.Комиссаржевской в постановке Всеволода Мейерхольда.
Дальше – «Итальянские стихи» 1909 года, когда я был уже в университете, и так – до Первой мировой войны, когда поэзия Блока стала для меня затихать. Но в январе 1918 года произошел новый взрыв его вдохновения, разразившийся поэмой «Двенадцать», прозвучавшей до того совершенно чуждой Блоку частушечной, уличной фонетикой, стихийность и неподдельная искренность которой захватили меня раз и навсегда. В Сергее Константиновиче поэма «Двенадцать» вызвала, как известно, обратные чувства. Он приближался к мнению Ивана Бунина, который, «слишком хорошо знавший простонародные обороты русской речи, возненавидел фальшь „Двенадцати“». Впрочем, признавая несомненный талант Блока, Маковский относился отрицательно не только к поэме «Двенадцать», но критиковал многое в поэзии Блока вообще, и в том числе упомянутые мною выше «Итальянские стихи», в которых кое-что казалось Сергею Константиновичу «претенциозным и плохо звучащим», но которые все же были впервые напечатаны именно в «Аполлоне». Маковский приписывал Блоку «грубость словесных эффектов», «почти всегда неточные определения» и часто «плохой русский язык».
Но каждый имеет право думать и чувствовать по-своему, и это разногласие, повторяю, тоже никак не отразилось на наших дружеских отношениях, и мои встречи и беседы с Сергеем Константиновичем продолжались до последних дней его жизни. За несколько месяцев до его смерти Маковский весело обедал у меня на улице Campagne-Premiêre. Разговаривая с ним, я, как всегда, бросал взгляды на кисти его рук, как будто сошедшие с картин мастеров итальянского Возрождения и вполне сохранившие свою пластику.
Дней за пять до кончины Маковского мы спокойно и долго говорили по телефону о срочности принятия мер для охраны культурных ценностей русского зарубежья – тема, очень волновавшая Маковского, так как, ревностно поощряя новаторство и открывая для него дороги, Сергей Константинович был в то же время ценителем и охранителем старины. Еще в 1907 году, за два года до основания «Аполлона», Маковский организовал, в сотрудничестве с Александром Трубниковым, бароном Николаем Врангелем, Василием Верещагиным и некоторыми другими, журнал «Старые годы», посвященный памятникам старины и сыгравший в этой области нашей культуры значительную роль[222]222
Журнал «Старые годы» был основан В.Верещагиным при содействии Н.Врангеля, А.Трубникова и С.Маковского.
[Закрыть]. Редактирование «Старых годов» и интерес, проявленный Маковским к художественной культуре прошлого, еще раз подчеркнули его универсализм.
В десятых годах Маковский занял пост секретаря основанного тогда Общества защиты памятников искусства и старины и подготавливал, тоже совместно с бароном Врангелем, издание «Помещичья Россия», оставшееся, к сожалению, неосуществленным. Это намерение, впрочем, не прошло без отклика: в 1913 году, по случайному совпадению, возник богато иллюстрированный журнал «Столица и усадьба», основанный Владимиром Крымовым и выходивший под его редакцией. Этот журнал просуществовал до 1918 года включительно и дал сто два номера, весьма ценных по своему содержанию и по собранному материалу.
Человек искусства, активно содействовавший его трудному росту, С.К.Маковский был совершенно чужд материалистическому миропониманию и интересовался только духовными проблемами. Послесловие к «Парнасу Серебряного века» оканчивается следующими словами: «Человек ни при каких обстоятельствах не может удовольствоваться внешним благополучием, даже если бы оно и было достижимо… Грядущее от нас скрыто, но, исходя из всего исторического прошлого, мы вправе думать, что новая культура России будет строиться на основе нездешних истин. Иначе, отвергшись от Божества, от порыва к трансцендентной сущности бытия, всякое культурное развитие может только повернуть человека к животному, к жалкому жестокому антропоиду, из которого он произошел после неисчислимых тысячелетий непрерывной борьбы за существование и многих веков медленного духовного роста».
Казимир Малевич, Владимир Татлин и социалистический реализм
Одним из наиболее значительных и героических русских художников, оказавших сильное влияние на развитие международного искусства, был в первом двадцатилетии нашего века Казимир Малевич, родившийся в Киеве, в 1878 году.
В 1908 году в Москве он впервые выставил свои произведения, приближающиеся к сезаннизму. Позднее, около 1912 года, он подчинился влиянию кубизма, но уже в 1913 году выставил свои первые беспредметные произведения, которые положили основание течению, получившему название «супрематизм».
Наиболее неоспоримыми создателями, пионерами и мастерами беспредметного искусства в России были именно Малевич (основоположник супрематизма), Владимир Татлин, являющийся основателем конструктивизма, а также Чюрленис, хронологически – первый абстрактный живописец. Их искания были искренны, интуитивны, непосредственны и благодаря этому органичны. Практическими намерениями эти фанатические творцы не обладали, и их полная незаинтересованность была непреодолима. Чюрленис, Малевич и Татлин никогда не сумели извлечь для себя какой-либо практической пользы из их горделивого, аскетического, проповеднического и совершенно независимого искусства.
Если искусство Ларионова, Гончаровой и Кандинского, как и большинства их попутчиков и последователей в России и в Западной Европе, являлось логической ступенью исторического развития художественных форм выражения (импрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм и т. д.), то Малевич и Татлин отказались от всяких связей с прошлым и решительно вернулись к исходным точкам искусства. Черный квадрат на белом фоне, выставленный Малевичем, как и контррельефы Татлина, подвешенные на проволоках и составленные из отдельных кусков картона, фанеры и жести, возвращали зрителя к самым истокам абстракции, беспредметности, к первоначальным элементам эстетики вообще.
Вот что писал Малевич о своих исканиях в 1915 году: «Когда в 1913 году, во время моей безнадежной попытки освободить искусство от ненужного груза предметности, я искал убежище в форме квадрата и выставил мою картину, которая не представляла ничего другого, кроме черного квадрата на белом фоне, – критика была ужасна и вместе с ней публика!
– Все, что мы любили, – говорилось про меня, – все это потеряно. Мы находимся в пустыне, и перед нами – только черный квадрат на белом фоне.
Совершенный квадрат казался критике и публике непонятным и опасным… они не ожидали от него ничего другого.
Подъем на вершину абстрактного, беспредметного искусства был труден и полон волнения… но тем не менее весьма удовлетворял меня. Привычные вещи постепенно отходили на второй план, и с каждым моим шагом они все более углублялись вдаль, до того, что в конце концов мир привычных понятий, в котором мы, однако, живем, исчез окончательно.
Больше нет изображений реальности, никаких представлений идеала, ничего, кроме пустыни!
Но эта пустыня полна духовности и беспредметной чувствительности, которая происходит повсюду.
Я сам испытал своего рода застенчивость, колебания и тревогу, когда нужно было покинуть мир воспроизведения, в котором я жил и творил, но в смысл и значение которого я тогда еще не верил.
Чувство удовлетворения, которое я испытывал, освобождаясь от предметности, меня переносило всегда все глубже в пустыню, туда, где уже ничего не оставалось, кроме чувствительности… и таким образом чувствительность стала самой сущностью моей жизни.
Квадрат, который я выставил, не был пустым квадратом, но чувствительностью, ощущением отсутствия предметности».
Как же Малевич объяснял смысл супрематизма?
«Под супрематизмом я разумею, – писал Малевич, – превосходство чистой чувствительности в искусстве.
С точки зрения супрематистов, внешняя видимость натуры не представляет никакого интереса; наиболее существенным является чувствительность как таковая, независимо от окружения, в котором она зародилась.
Так называемая конкретизация чувствительности означает не более чем конкретизацию рефлекса чувствительности к реалистическим воспроизведениям. Подобное воспроизведение не имеет никакой цены в супрематическом искусстве. И даже не только в супрематическом искусстве, но и в искусстве вообще, так как постоянная ценность и сущность художественного произведения (к какой бы школе оно ни принадлежало) заключаются единственно в выражении чувствительности.
Академический реализм, реализм импрессионизма, сезаннизма, кубизма и т. д. – все это в известной мере не более чем вариации диалектических методов, которые сами по себе не обозначают никаким образом реальную ценность произведения искусства.
Воспроизведение, изображение предмета (то есть предмета как оправдания изобретательности) есть нечто, что в самом себе не имеет ничего общего с искусством. Для супрематизма способом художественного выражения является всегда то, что позволяет выражаться чувствительности как таковой и полностью и что игнорирует привычную изобретательность. Предметность как таковая не обозначает для супрематизма решительно ничего. Чувствительность является единственным поводом, с которым следует считаться, и именно таким путем искусство, в супрематизме, придет к своему чистому выражению, без изобретательности.
Искусство подходит к пустыне, где нет ничего, кроме чувствительности.
Квадрат супрематистов и формы, которые отсюда вышли, могут быть сравнены со знаками (или с рисунками) примитивного человека. Знаки, которые в их целом не ведут никаким образом к орнаменту, но к чувствительности, к соединению ритмов».
Неутомимо деятельный работник искусства, Малевич в двадцатых годах возглавлял основанный им – совместно с Николаем Пуниным – в Петербурге Институт художественной культуры и руководил устройством выставок в этом учреждении, на которых показывалось только беспредметное творчество.
Вот еще несколько выдержек из интереснейшей статьи Малевича, касающейся архитектуры. Статья была опубликована в Петербурге в 1923 году.
«Живописцы произвели большую революцию в искусстве, имитирующем предметность, и пришли к искусству беспредметному. Они открыли новые элементы, которые сегодня ставят ряд задач для архитектуры будущего.
Архитекторы и живописцы должны чувствовать пробуждение классического духа, который был заглушен опытами совершенствования социальной структуры и экономической жизни. Благодаря упадку искусства, которое копировало предметы (натурализм), классический дух вернулся. Это возрождение не связано более с переменой социальных и экономических взаимоотношений, так как все социальные и экономические взаимоотношения насилуют искусство.
Написать ли портрет какого-нибудь социалиста или какого-нибудь императора; построить ли замок для купца или избенку для рабочего – исходная точка искусства не меняется от этой разницы. Эти разницы не должны интересовать художника.
К моему большому огорчению, большинство молодых художников полагают, что дух обновления в искусстве подчинен новым политическим идеям и улучшению социальных условий жизни, благодаря чему они превращаются в исполнителей воли правителей, переставая заниматься обновлением красоты самой по себе.
Они забывают, что ценность искусства не может быть сведена к идее, какой бы она ни была, и что все искусства издавна стали международными ценностями, которые каждый человек может вкушать; они забывают, что мир и жизнь могут стать прекрасными только благодаря искусству и вовсе не благодаря каким-либо иным циклам идей…
Супрематизм как в живописи, так и в архитектуре свободен от всяких социальных и материалистических тенденций, какими бы они ни были.
Всякая социальная идея, какой бы значительности она ни достигла, нанизана на ощущение голода. Всякое произведение искусства, даже самое посредственное и незначительное, нанизано на пластическую чувствительность. Давно пора наконец понять, что проблемы искусства и проблемы желудка чрезвычайно далеки одни от других».
В 1923 году в Советском Союзе еще можно было произнести, даже напечатать подобную фразу. Вскоре, однако, Малевичу пришлось подчиниться требованиям сталинского режима и прекратить свою деятельность. По счастью, в 1926 году ему удалось вывезти за границу большое количество своих произведений, которые разместились теперь в музеях Западной Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Соединенных Штатов Америки…
В советской стране произведения Малевича хранятся в так называемых «запасниках», недоступных советским зрителям[223]223
Произведения К.Малевича не появлялись на выставках и в музейных экспозициях с 1932 по 1962 г. Первая большая выставка работ художника состоялась в 1988 г. в Ленинграде, в Государственном Русском музее (затем она экспонировалась в Москве и Амстердаме).
[Закрыть].
В последние годы своей жизни Малевич был вынужден заниматься исключительно прикладным искусством: чашки, блюдца, тарелки, блюда и проч. Но красочные украшения на этих предметах оставались супрематическими, что вполне подтверждает сказанное мною об абстрактном искусстве в главе, посвященной Ларионову и Гончаровой: беспредметные украшения считаются понятными, не требующими объяснений и вполне приемлемыми на юбках, рубахах или галстуках, но те же графические или красочные композиции становятся вдруг непонятными или просто недопустимыми, если их вставляют в раму и вешают на стену. На юбке – понятно, а в раме – нет!
Малевич скончался в 1935 году.
Направление в искусстве, получившее название «конструктивизм» и основанное Владимиром Татлиным одновременно с супрематизмом Малевича, обязано своим происхождением развитию индустрии и техники в нашем веке и тому месту, которое техника и машинизм заняли в жизни человека. Глаз художника, уставший от вековой природы, от пейзажей, от бытовых происшествий, обернулся к машине, к ее формам, которые логикой композиции своих элементов народили новую эстетику.
В 1913 году двадцативосьмилетний Татлин, бывший до того учеником Михаила Ларионова, порвал в своем искусстве все связи с природой и с литературным сюжетом и выставил свои первые чисто абстрактные контррельефы. Они не были ни картинами, ни скульптурой. Они не были ни Малевичем, ни Кандинским. Это были предметы, рожденные новой эстетикой эпохи механического прогресса. Ранее Татлина подобные, менее решительные попытки были сделаны на Западе Ж.Браком и П.Пикассо.
Татлин утверждал, что только математически рассчитанные пропорции форм, а также правильное применение материалов с максимальной экономией, иначе говоря – полное отсутствие капризов, эмоциональных полетов и «раздражающих ненужностей» художников, являются основой и критерием прекрасного. Чтобы подтвердить свою тезу, Татлин вырезал тщательным образом фигуры из репродукции рембрандтовской картины «Драпировщики» и вновь склеил их на бумаге, перегруппировав по-иному персонажи и удлинив благодаря этому пропорции картины. Закончив карандашом образовавшиеся пробелы, Татлин посмотрел на свой вариант и сказал, не без основания, что все сделанные видоизменения в композиции не нанесли произведению Рембрандта никакого ущерба и что оно продолжает по-прежнему сохранять все свои качества. Затем Татлин открыл спинку своих карманных часов, полюбовался совершенной композицией мельчайших колесиков и рессор и, отвинтив один едва заметный винтик, попытался вставить его в другое место. Но в этот момент, подпрыгнув, весь механизм часов рассыпался по столу. Часы перестали существовать.
Этим Татлин доказал для себя самого Относительность художественного произведения и абсолютность механики.
Николай Пунин писал в своем сборнике «Цикл лекций» (Петербург, 1920): «Молодых художников все время упрекают в том, что они стремятся во что бы то ни стало создать новое. Да, именно потому, что они чувствуют закон абсолютного творческого давления, потому, что для них прежде всего важно увеличить сумму человеческого опыта, обогатить человечество новыми художественными принципами. Если молодых художников упрекают в том, что они гонятся за новизной, то только потому, что не знают, какое великое значение имеет в современном творчестве напряжение, продиктованное современной эпохой, какое значение имеет стремление идти параллельно с темпом, которым идет жизнь».
И дальше Н.Пунин добавляет: «Конструкция есть композиция, размещение материала, конструкция есть композиция элементов художественной культуры».
Татлин любил говорить в беседах со мной, что современная фабрика представляет собой высший образец оперы и балета; что чтение книги Альберта Эйнштейна, несомненно, гораздо интереснее, чем «какой-нибудь» роман Тургенева, и что поэтому искусство сегодняшнего дня должно быть целиком пересмотрено. Искусство, продолжал Татлин, должно стать знаменосцем, передовым отрядом и побудителем прогресса человеческой культуры, и в этом смысле должно быть полезным и конструктивным.
Татлин был энтузиастом и хранил в себе твердую веру в свои убеждения. Эта непоколебимость его идей заразила многих молодых художников его поколения, и таким образом возникло движение «конструктивизм», в котором Татлин был первым теоретиком и основоположником.
Появившись и сформировавшись в 1913–1914 годах, конструктивизм не остался, однако, движением временным, проходящим. Если супрематизм, основанный Малевичем, переродился со временем в татизм и во многие другие разветвления абстрактного искусства, абстрактной живописи, то конструктивизм, напротив, сохраняет до наших дней всю свою творческую свежесть.
Самым выдающимся произведением Татлина был его проект Памятника III Интернационалу (1920). Встреча интеллектуализма с материализмом. Квинтэссенция сегодняшней реальности и могущества техники торжествующего материализма. Татлин не боялся даже признаться в том, что его «сердце тоже было машиной» и что именно это привело Татлина к мысли «дать своему Памятнику» механизм, который воспроизводил бы «биение сердца» и таким образом оживил бы его, привел бы его в движение. Динамизм.
Приходится с огорчением констатировать, что ввиду отсутствия денежных и технических возможностей эта идея Татлина, столь отважная для его времени, осталась им не осуществленной. Тем не менее, в описаниях своего проекта, опубликованных в журнале «Искусство» в Москве в 1919 году, Татлин оживляет свой памятник, который предназначался не для украшения города или поддержки политических идей, но для того, чтобы служить техническим, утилитарным и рациональным целям. Этот памятник, который должен был быть, по слову Татлина, на 100 метров выше Эйфелевой башни, должен был стать также «оживленной машиной», сооруженной из форм, кружащихся вокруг собственных осей с различной быстротой и различными ритмами. Сверх того, он должен был уместить в себе радиостанцию, телеграф, кинозалы и залы для художественных выставок. Всякая антитехническая и декоративная «эстетика» должна была быть заменена богатой и живой внешностью машины. Границы между искусством и механикой, между живописью, пластикой и архитектурой в этом памятнике исчезли.