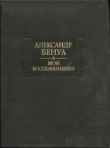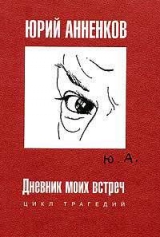
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)
В действительности мы увидели, увы, только макет этой Вавилонской башни высотой в 4 аршина, неподвижный и построенный из деревянных багетов и дощечек.
К сожалению, «социалистический реализм» и «возвращение к классикам», объявленные обязательными для советских художников, подвергли Татлина той же печальной участи, что и Малевича. Это не помешало, тем не менее, многочисленным последователям и подражателям Татлина, проживающим вне Советского Союза, завоевать очень крупное место в современном искусстве Западной Европы и Америки: Наум Габо, Антон Певзнер, Александр Кальдер, Жан Тинчели, Николай Шёффер, Цезарь Домела и сколько других выходцев из «конструктивизма» Татлина.
То же самое произошло со многими сотнями живущих вне России последователей и подражателей Кандинского и Малевича, а также слишком скромного и несправедливо впавшего в забвение Микалоюса Чюрлениса, память о котором в последние годы была восстановлена эстонским поэтом и искусствоведом, академиком Алексисом Раннитом, консерватором русских и восточноевропейских коллекций Йельского университета (США) и автором целого ряда критических трудов в области искусства и литературы Северной и Восточной Европы (монографии о М.Чюрленисе, об Эдуарде Вийральте, о Марии Ундер и др.). А.Раннит является одновременно автором четырех сборников стихотворений на эстонском языке; его стихи переводились на русский язык Георгием Адамовичем, Лидией Алексеевой, Игорем Северяниным… Французский академик поэт Жан Кокто назвал Раннита «принцем эстонской поэзии». В 1947 году Раннит выступил с докладом о Чюрленисе на международном конгрессе критиков искусства, организованном ЮНЕСКО в Париже, а кроме того, перед и после Второй мировой войны напечатал в европейской прессе несколько очень ценных статей о Чюрленисе, указав на формалистическую роль этого художника как предшественника сюрреализма, абстрактного искусства и метафизической живописи.
О Чюрленисе писали также Сергей Маковский, Вячеслав Иванов, Валериан Чудовский, скульптор Яков Липшиц, Владимир Вейдле, Николай Бердяев (очень интересная статья о Чюрленисе и Пикассо), Константин Уманский… Первым человеком, купившим картину Чюрлениса, был Игорь Стравинский. Судьба этой картины теперь неизвестна.
То же самое произошло со многими сотнями живущих вне России последователей и подражателей слишком скромного и несправедливо впавшего в забвение Чюрлениса, а также Кандинского и Малевича.
Что такое «социалистический реализм»? В первые годы укреплявшейся в России коммунистической власти пропагандно-служебное назначение искусства не было еще официально, но, во всяком случае, эта идея уже тогда помогла выходу на первый план целого ряда лишенных таланта и мастерства провинциальных художников, которые еще в начале двадцатых годов успели сгруппировать «Ассоциацию художников революционной России» (АХРР), послужившую первой базой «официального» советского искусства, названного впоследствии «социалистическим реализмом» и провозглашенного в СССР обязательной и единственно допустимой формой живописного, графического и скульптурного искусства.
Можно ли придавать «социалистическому реализму» значение философской доктрины или идеологии? Конечно, нет. Тем более что внедрение социалистического реализма диктовалось гораздо более полицейскими мерами, чем силой убеждения.
«Генеральный секретарь» AXPPa, скучнейший Е.А.Кацман, писал в 1926 году, что «левые» художники – сезаннисты, кубисты, футуристы, супрематисты – имели в начале революции «огромную власть. В их руках было управление делами искусства по всему огромному СССР. Левые художники управляли художественными школами, везде и всюду своих художников превращали в преподавателей и профессоров… Левые художники руководили народными празднествами. Левые художники владели музеями, то есть влияли на приобретения, и даже организовывали свои собственные музеи своей левой живописной культуры… Левые художники имели все мастерские, все лучшие краски, все кисти, все палитры. Они имели все человечески возможное… Учителя левых – Пикассо, Сезанн, Матисс, Маринетти и другие – это идеологи маленьких групп буржуазной интеллигенции периода капиталистического накала, нервозности противоречий, периода, когда молот капиталистического антагонизма выковал индивидуалистическое сознание. Что могли ученики этих учителей дать коммунистической революции? Конечно, ничего. Не спасли левых художников ни власть, ни школы, ни музеи, ибо в основе своей они были со своей интеллигентщиной и индивидуализмом, не подходящим для эпохи рабоче-крестьянской революции, где надо работать для масс… Левые этого не поняли и погибли. Ахрровцы это поняли и потому живут и быстро развиваются».
Передо мной целый ряд советских книг, журналов и газетных статей, посвященных задачам советского искусства. Я приведу здесь только некоторые выдержки из этих писаний, что будет гораздо убедительнее и иллюстративнее, чем мои собственные рассуждения.
1
«Идеологически вооружая советских мастеров искусства, Центральный Комитет большевистской партии поставил перед каждым художником конкретную задачу – создавать отныне только глубоко идейные художественно-политические произведения, такие, которые реалистическим и понятным языком раскрывают великий смысл жизни советского общества и высокое благородство советского народа в его борьбе за коммунистическое будущее. ЦК ВКП(б) твердо уверен, что у советского художника нет и не может быть других интересов, кроме интересов советского народа и советского государства, и что руководящим началом их творчества была и будет политика партии и правительства».
2
«Для всех нас идеология является решающей стороной, и как бы талантлив ни был, каким бы мастером ни являлся художник, но если он стоит на чуждых нашему советскому строю позициях, если он не наш советский человек, то никакой цены такой художник в наших глазах не имеет. Искусство у нас не забава, ради которой капиталисты Европы и Америки покупают все, начиная с формалистических картин Пикассо. Наш советский художник по мировоззрению должен быть полноценным советским человеком. Это – первое и главное условие. Отсюда решающее значение для воспитания такого художника имеет наша кафедра марксизма-ленинизма».
3
«Декадентские европейские художники говорили, что только безвкусный и бесталанный художник передает блеск глаз. Переведем это сначала на язык медицины, а потом на язык политики: глаза не блестят у трупа или у очень больного человека, значит, предполагается вместо живого человека изображать труп. Возьмем, например, Сезанна. У его персонажей в глазах нет мысли, у него это просто пятно краски. Совершенно то же у Матисса и у Ван Гога. Советские художники должны задуматься над этим».
4
«Чтобы убедиться в том, что Запад гниет, достаточно посмотреть на картины Сутина: он пишет только гнилое мясо».
5
«Выставки изобразительного искусства в СССР наглухо закрыты для формалистического творчества».
6
«Женщина у нас сейчас давно уже не та, какой она была до революции. Революция раскрепостила ее от всякого рабства. Она теперь наравне с мужчиной участвует во всех делах строительства нашей жизни. Почему же изучение ее внешнего облика должно исключаться? Другой вопрос: могут сказать – а нужно ли вообще обнаженное тело? Да, нужно, и вот почему. Припомните все наши последние выставки, пройдитесь мысленно по этим выставкам и скажите: там радость нашего существования в нашей счастливой Родине ярко выражена? Ничего подобного, не ярко выражена. Где там наши замечательные курортные места? Где наши пляжи, где наша физкультура? Где наши рекордсмены, обладатели мировых рекордов? А вы знаете, что все это делается не в сюртуках, не во фраках и не в воротничках. В крайнем случае надеты трусики, нагруднички и т. д. Другими словами – обнаженное женское тело».
7
«Под видом новаторства болтают об эпигонстве и всяких таких штуках, пугают этими словечками молодежь, чтобы она перестала учиться у классиков. Пускают в ход лозунг, что классиков надо перегонять. Но для того, чтобы перегнать классиков, надо их догнать. И если говорить откровенно и выразить то, о чем думает советский зритель, то было бы совсем неплохо, если бы у нас появилось побольше произведений, похожих на классические по содержанию и по форме. Если это – эпигонство, то что ж, пожалуй, не зазорно быть таким эпигоном!»
8
«Метод социалистического реализма полностью овладевает сознанием советских художников, и понятие новаторства будет скоро расшифровано как умение видеть и чувствовать действительность глазами, сердцем и умом последователя ленинско-сталинской философии».
И так далее…
Подобная нищенская болтовня, заполняющая советские газеты, еженедельники, ежемесячники и отдельные издания по вопросам искусства, исчерпывает собой всю сущность «социалистического реализма».
Советские художники оказались отброшенными в рабскую наивность и профессиональное убожество. Произведения «социалистического реализма» были неоднократно показаны на выставках советского искусства в Венеции, в Брюсселе, в Париже… Кроме скуки и иногда смеха, эти произведения никаких реакций не вызывают; они не вызывают даже споров, и потому посещаемость этих выставок необычайно бедна: залы постоянно пустуют.
Несмотря на это, в советской прессе постепенно наросло среди художников гиперболическое самовосхваление. Так, уже в 1954 году в статье В.Я.Бродского «Мировое значение советского искусства» («История искусства», изд. Ленинградского университета)[224]224
Имеется в виду статья В.Бродского, опубликованная в кн.: Ученые записки Ленинградского государственного ордена Ленина университета им. А.А.Жданова. №160. Исторический факультет. Серия исторических наук. История искусства. Вып. 20. Л., 1954.
[Закрыть] можно было прочесть следующие строки: «Общность направления усилий советских художников, ведомых и руководимых партией коммунистов, составляет могучую жизненную силу и служит залогом небывалой прогрессивности творческого развития советского искусства. В необычайно короткий исторический срок молодое советское искусство твердо заняло ведущее место во главе всего мирового прогрессивного искусства».
Больше того: в той же статье провозглашается «превосходство советского искусства над искусством всех стран и ВСЕХ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН».
Борьба против индивидуализма привела советских художников к полному обезличиванию их произведений. Свидетельства, приходящие из СССР, показывают, что там искусство зачастую превращается в коллективное производство, в ремесло. Какая-нибудь статуя Ленина и Сталина, где верх сделан одним скульптором, середина – другим, а сапоги или ботинки – третьим (вероятно, сапожником), стала в СССР бытовым явлением. То же самое – в живописи, где холст, на котором размещены три или четыре человеческие фигуры, носит иногда пять или шесть подписей живописцев, в то время как один Веронезе расположил около восьмидесяти персонажей в своем «Бракосочетании в Кане».
Произведения «социалистического реализма» сразу же исчезают из памяти.
Владимир Ленин

В юности отец мой принадлежал к революционной партии «Народная воля» и состоял в ее террористической организации, совершившей убийство Александра Второго 1 марта 1881 года. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал и потому избег виселицы. Он пробыл один год и восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговоренный к каторжным работам, был сослан этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку, в город Петропавловск. Туда приехала к нему его жена, и далекий Петропавловск стал моей родиной.
Вскоре отец был помилован и смог постепенно, на собственные средства, вернуться в Европейскую Россию: сначала, в январе 1893 года, – в Самару, где мы прожили года два, и наконец в Петербург.
В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичом Ульяновым, а также с мужем его сестры Марком Елизаровым.
1893 год был исторической датой в биографии Ленина: он написал тогда, в Самаре же, статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», которая была первой его статьей, во всяком случае, первой из сохранившихся ленинских статей.
В августе того же года Ленин покинул Самару, и между ним и моим отцом завязалась переписка. В письменном столе отцовского кабинета долгие годы бережно хранились ленинские письма.
С течением времени в Петербурге, работая в одном из крупнейших страховых и транспортных обществ, отец, заняв вскоре пост директора, достиг зажиточного положения и обзавелся прекрасным имением в финляндском местечке Куоккала, где наша семья проводила летние месяцы в течение восемнадцати лет (1899–1917).
Перовская, Кибальчич, Михайлов, Желябов и Рысаков были, как известно, повешены. Два года спустя была арестована еще одна подруга моего отца, Вера Фигнер, принадлежавшая к той же революционной партии. Еще через год за террористическую деятельность Фигнер была присуждена к смертной казни, но эту кару ей заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости.
В нашей квартире в Петербурге, в кабинете моего отца, неизменно висела под стеклом романтическая фотография юной красавицы Веры Фигнер с ее собственноручной надписью: «Дорогому Павлуше – Вера Фигнер». Революция 1905 года и последовавшие за ней демократические реформы (парламентский строй и пр.) освободили эту узницу, и так как дружеские отношения между моим отцом и Фигнер оказались, несмотря на двадцатипятилетний перерыв, ненарушенными, то Вера Николаевна сразу же из своей одиночной камеры переехала к нам в Куоккалу. В имении было два дома: в одном жила наша семья, другой дом сдавался внаем. В этот год, ввиду всевозможных тревожных событий, второй дом временно пустовал, и в нем поселилась Фигнер. Она еще страдала человекобоязнью (что было последствием столь длительного одиночного заключения) и жила у нас как отшельница, никогда не выходя одна из дома даже в окружавший его сад. Лишь по вечерам, когда мой отец возвращался со службы из Петербурга, она совершала с ним небольшую прогулку по нашему участку, останавливаясь перед цветочными клумбами, пробираясь сквозь высокую некошеную траву луга, уже покрытого росой; бродила среди длинных огородных грядок, о которых отец любовно заботился, среди кустов малины, смородины и крыжовника и отдыхала на скамейке в небольшом нашем нарочно запущенном лесу.
Я не забуду, как во время одной из таких прогулок Фигнер неожиданно вздрогнула и вскрикнула: ее обожгла крапива. Мой отец предложил Фигнер тотчас вернуться домой и помазать ногу какой-то помадой.
– Боже сохрани! Ни за что! – ответила Фигнер и, обернувшись на крапивный куст, умиленно добавила:
– Даже и крапива сохранилась!
Пребывание в Куоккале Фигнер считала своим воскрешением, возвратом к жизни.
Отец часто приводил меня с собой. В.Н.Фигнер называла меня Юриком. Гимназист пятого класса, я был уже замешан в гимназическом революционном движении, выступал с речами на нелегальных гимназических сходках, участвовал в уличных демонстрациях, прятался от казаков в подворотни, видел кровь на мостовой и на тротуарах, потерянные калоши и зонтики, состоял в школьном «совете старост».
– Привел юнца под благословение, – пошутил отец, представляя меня впервые В.Н.Фигнер.
Я смущенно и восторженно смотрел на нее. Мне казалось тогда, что лицам революционеров, и тем более народников и террористов, свойственны особенная чистота и ясность форм.
– Я слышала, что вы уже тоже революционер? – улыбнулась Фигнер. – Революции «все возрасты покорны».
Она расспрашивала меня о волнениях в средней школе, о наших революционных организациях, об основах школьной реформы, потом говорила о необходимости борьбы, о счастье борьбы, о страданиях народа и вдруг, вздохнув и грустно усмехнувшись, сказала:
– Смеется хорошо тот, кто знает цену слезам.
Две-три недели пребывания у нас В.Н.Фигнер казались мне необычайно торжественными и значительными. Возвращаясь домой после вечерних прогулок с Фигнер, отец рассказывал, какая она умница, какая светлая женщина, какой мудростью, верой и добротой веет от ее слов, но однажды с горечью признался, что их пути все же разошлись и что она, по его мнению, уже не понимает эволюции реальной жизни.
В том же местечке Куоккала, верстах в трех от нашего имения, временно поселился другой шлиссельбургский узник, народоволец Морозов (к которому мы ходили с отцом по бесконечной извилистой лесной дороге), и в тот же год (1906) переехал в Куоккалу, скрываясь от петербургской полиции, В.И.Ленин, поселившийся на даче «Ваза». Он неоднократно заходил в наш дом навещать моего отца и В.Н.Фигнер. Таким образом, я впервые познакомился с Лениным в нашем собственном саду. Я, разумеется, уже знал, кем был Ленин, но ни он, ни его жена, Надежда Константиновна Крупская, меня тогда еще не интересовали.
Ленин был небольшого роста, бесцветное лицо с хитровато прищуренными глазами. Типичный облик мелкого мещанина, хотя Ленин (Ульянов) и был дворянин. От моих куоккальских встреч с Лениным в моей памяти не сохранилось ни одной фразы, кроме следующей: раскачиваясь в саду на деревенских дощатых качелях, Ленин, посмеиваясь, произнес:
– Какое вредное развлечение: вперед – назад, вперед – назад! Гораздо полезнее было бы: вперед – вперед! Всегда – вперед!
Все смеялись вместе с Лениным…
В Куоккале я видел и будущего кровавого советского прокурора Николая Васильевича Крыленко, расстрелянного в свою очередь Сталиным. Молодой Крыленко выступал с зажигательной речью на летучем митинге на вокзальной площади и сразу же укатил куда-то на паровозе.
После отъезда В.Н.Фигнер из Куоккалы я встретил ее снова в Париже через пять лет. Я приехал в Париж в 1911 году заниматься живописью и, естественно, вошел в жизнь международной монпарнасской художественной богемы, творчество которой получило, приблизительно в те же годы, обобщающее название «Парижской школы», цветущей по сей день. В этой среде было немало выходцев из России. Кое-кто из них соприкасался с кругами довольно многочисленной русской политической эмиграции. Благодаря этому я познакомился и подружился с Георгием Степановичем Хрусталевым-Носарем, бывшим председателем петербургского Совета рабочих депутатов в годы первой революции (1905). Роль Хрусталева-Носаря была в той революции значительной, и его прозвали даже «вторым премьером». Как известно, премьером (председателем Совета министров) тогда был граф С.Ю.Витте. Мне запомнился посвященный им обоим шутливый куплет, бывший популярным среди петербургской публики:
Премьеров стал у Росса
Богатый инвентарь:
Один премьер – без носа,
Другой премьер – Носарь.
У графа Витте нос был скомканный и в профиль был незаметен, как у гоголевского майора Ковалева.
Вернувшись на родину в 1918 году, Хрусталев-Носарь был в этом же году расстрелян советской властью.
В Париже он часто заходил ко мне на улочку Кампань-Премьер, а я навещал его на авеню Гоблен. Он сказал мне однажды, что на днях состоится вечер русских эмигрантов (с танцами), и пригласил меня пойти туда с ним. На вечеринке я увидел Веру Фигнер. Она меня, однако, не узнала, и когда я назвал себя, спросила с радостным удивлением:
– Юрик? Павлушин сын? Боже мой, как возмужал!
Она поцеловала меня в обе щеки и подвела к человеку мелкобуржуазного типа, с усами, с бородкой и хитроватой улыбкой, в котором я тотчас узнал Ленина.
– Владимир Ильич, – обратилась Фигнер к нему, – позвольте вам представить: новое поколение нашей эмиграции.
Ленин улыбнулся и, пожав мне руку, спросил, в связи с какими событиями «молодой человек» эмигрировал?
– Я не эмигрант, – ответил я. – Я легально приехал в Париж для занятия живописью.
– А я думала… – произнесла Фигнер, ее лицо вдруг стало грустным, и она умолкла, даже не назвав Ленину моего имени.
Ленин меня, конечно, тоже не узнал, и я сразу отошел от него.

Владимир Антонов-Овсеенко
Так состоялась моя вторая встреча с Лениным. На том же вечере я познакомился с Анатолием Луначарским, с Владимиром Антоновым-Овсеенко и с Л.Мартовым (Юлий Осипович Цедербаум). Ни Фигнер, ни Ленин, ни его жена Крупская, ни Мартов, ни Хрусталев-Носарь на этом вечере, как и следовало ожидать, не танцевали. Танцевали Луначарский (модное тогда танго) и Антонов-Овсеенко (что-то вроде польки).
С Мартовым я нередко встречался потом в довольно легкомысленном кафе «Таверн дю Пантеон», на углу бульвара Сан-Мишель и улицы Суффло, в подвальном помещении. Там играл очень хорошо слаженный оркестрик, выступали кабаретные певички и певцы, и посетители танцевали. Мартов, вечно перегруженный работой, почти каждый вечер сидел там у столика за чашкой кофе и рюмкой коньяка и писал бесчисленные страницы политических статей. Но за его столиком непременно сидели также две или три местные девицы, которых он угощал коньяком и ликерами и с которыми был в очень дружеских отношениях. Девицы звали Мартова «Monsieur Mars».
3 апреля 1917 года я был на Финляндском вокзале в Петербурге в момент приезда Ленина из-за границы. Я видел, как сквозь бурлящую толпу Ленин выбрался на площадь перед вокзалом, вскарабкался на броневую машину и, протянув руку к «народным массам», обратился к ним со своей первой речью.
Толпа ждала именно Ленина. Но – не я.
В начале 1917 года я прочел «Капитал» Карла Маркса, книгу, которая все чаще становилась в центре политико-социальных споров. Я читал ее преимущественно в уборной, где она постоянно лежала на маленькой белой полочке, отнюдь не предназначенной для книг. В другое время мне было некогда: я занимался другими делами и читал другие книги.
Шел юбилейный год: «Капитал» был впервые опубликован в Германии ровно полвека тому назад, в 1867 году. Марксов текст казался настолько устарелым, потерявшим реальную почву, что я читал его скорее как скучный роман, чем как книгу, претендовавшую на политическую и притом международную актуальность. Паровоз, раздавивший Анну Каренину в 1873 году, уже вовсе не походил на локомотив, возвращавший России сорок четыре года спустя, на деньги Вильгельма Второго, в запломбированном вагоне Ленина и прочих «марксистов». Все социальные условия жизни с тех пор видоизменились и упорно продолжали меняться, прогрессировать, находить наиболее справедливые формы. Книга Маркса казалась мне уже анахронизмом. Вот почему «историческая» речь Ленина, произнесенная с крыши военного танка, меня мало интересовала. Я пришел на вокзал не из-за Ленина: я пришел встретить Бориса Викторовича Савинкова (автора «Коня бледного»), который должен был приехать с тем же поездом. С трудом пробравшись сквозь площадь, Савинков и я, не дослушав ленинской речи, оказались на пустынной улице. С небольшими савинковскими чемоданчиками мы отправились в город пешком. Извозчиков не было.
Так проскользнула моя третья встреча о Лениным.
Вскоре мне удалось несколько раз увидеть Ленина на балконе особняка эмигрировавшей балерины Кшесинской, ставшего штаб-квартирой большевиков. Вокруг балкона собиралась разношерстная толпа, перед которой Ленин и неизвестные мне тогда его соратники беспрерывно произносили пропагандные речи.
Когда 18 июня 1917 года произошло первое большевистское вооруженное восстание против Временного правительства, мой отец, возмущенный, вынул из своего архива письма Ленина, разорвал их и на моих глазах бросил в зажженную печь. Эта вспышка негодования осталась Ленину неизвестной. Впрочем, еще в 1916 году в нелегальном «подпольном» издательстве Львовича вышла брошюра моего отца – «Записки профана», где развивалась та же противомарксистская тема. К сожалению, эта брошюра у меня не сохранилась.
В середине сентября 1917 года забежала ко мне одна моя приятельница, студентка медицинского института, ярая большевичка, работавшая в секретариате при Смольном институте для благородных девиц, в то время уже занятом Советом рабочих и солдатских депутатов и центральным органом большевистской партии.
В дореволюционное время инспектрисой Смольного была моя тетка, сестра моего отца, Анна Семеновна Воронихина.
Ее семья была тесно связана с нами, и ее дети, Кока и Маруся, были завсегдатаями нашего дома. Маруся, еще подросток, будучи воспитанницей Смольного института, жила в его здании и вместе со своей матерью нередко приглашала меня, по-родственному, в институт на торжественные ученические балы, куда я отправлялся в гимназическом мундире танцевать вальс и падекатр с «благородными девицами», облаченными в очень красивую институтскую форму, а также – пить фруктовый сироп, закусывая нежнейшими пирожными. Здание Смольного института, его коридоры и залы стали благодаря этому для меня хорошо знакомыми и оказались очень мало похожими на их будущую реконструкцию в известном французском фильме Мориса Турнера «Катя» с прелестной Даниэль Дарье в заглавной роли.
Движимый любопытством, я несколько раз побывал в период Октябрьской революции («Десять дней, которые потрясли мир», по выражению Джона Рида) в Смольном институте. Окруженный броневиками и пулеметами, он был еще более неузнаваем, чем в упомянутом фильме. Вместо грациознейшей Даниэль (а таких было очень много в институте до Февральской революции) – горластые рабочие и солдатские (вернее, дезертирские) депутаты в засаленных тужурках и рваных солдатских шинелях, с сорванными погонами не только топтали по всем этажам валенками и сапогами почерневший паркет, дымя махоркой и пачкая стены, но часто храпели на полу, зарывшись в тряпки своих одежд. Возле двери, ведущей в кабинет Ленина, постоянно стояли то один, то два, то целый десяток вооруженных красногвардейцев. На двери оставалась прибитой металлическая дощечка с надписью: «Классная дама».
Прибежавшая ко мне из Смольного приятельница в радостном возбуждении передала мне копию письма, присланного Лениным в ЦК партии из Финляндии, где ему пришлось снова скрываться в то время.
Вот этот, исключительный по неожиданности формы и мотивировки, текст: «Надо на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере, в Москве, завоевание власти, свержение правительства. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: восстание есть искусство.
К числу наиболее злостных и распространенных извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию как к искусству есть бланкизм.
Обвинение в бланкизме марксизма за отношение к восстанию как к искусству! Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству…
Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается марксизм от бланкизма.
Но раз налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию как к искусству значит изменить марксизму и изменить революции.
Переживаемый нами момент надо признать именно таким, когда обязательно для партии признать восстание поставленным ходом объективных событий в порядок дня и отнестись к восстанию как к искусству.
За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и к озверению…
Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.
Мы должны доказать, что мы не на словах только признаем мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию как к искусству. А чтобы отнестись к восстанию как к искусству, мы, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать Генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания в центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.
Это все примерно, конечно, лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не отнесясь к восстанию как к искусству»[225]225
Здесь воспроизводится (с некоторыми сокращениями) статья В.И.Ленина «Марксизм и восстание» (Полн. собр. соч. Т. 34). Первый абзац приведенного Анненковым текста в статье отсутствует.
[Закрыть].
Прочитав это наставление, я рассмеялся. Моя приятельница испуганно взглянула на меня.
– Я никогда не предполагал, что Ленин – такой глубокий теоретик искусства, – пояснил я, смеясь.
Не более чем через год после Октябрьского переворота моя приятельница, бывшая ярой большевичкой, но родители которой пали жертвой уличного самосуда, прокляла революцию и навсегда эмигрировала из советской России.
В ночь на 26 октября 1917 года, после взятия Зимнего дворца и ареста членов Временного правительства, я снова пробрался в Смольный, где до пяти часов утра заседал Съезд Советов. На трибуне появился Ленин, вернувшийся из своего подполья. Встреченный неудержимыми рукоплесканиями, он, выждав минуту, взмахнул рукой и произнес:
– Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Отныне у нас будет наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат, и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Очередные задачи: немедленная ликвидация войны, немедленное уничтожение помещичьей собственности на землю, установление контроля над производством. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция![226]226
Здесь воспроизводится (с некоторыми текстовыми расхождениями и сокращениями) доклад В.И.Ленина «О задачах власти Советов» (Полн. собр. соч. Т. 35).
[Закрыть]
Снова раздались бурные аплодисменты, крики: «Ленин! Ленин!» – и, еще не совсем уверенно, разразилось в переполненном до отказа зале пение Интернационала как гимна.
Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор не расслышанной, непонятой или умышленно забытой в Западной Европе, в Америке, во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза с той ночи и по сегодня является законом и неизменной целью: всемирная социалистическая революция.