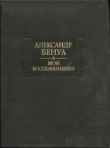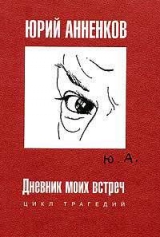
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
– Кто – они? – спросил я.
– Bсе: мой муж, мои друзья, мои клиенты, когда я расскажу им все это. Кинематограф нас, значит, тоже обманывает, как театр! И подумать, что еще всего около недели тому назад я послала моей любимой ведете письмо с просьбой сказать мне, как я должна отнестись к тому, что мой муж остался совершенно равнодушен к моему новому воскресному платью…
На этом наша поучительная (взаимно) беседа иссякла, – во всяком случае, мне так показалось. Однако очаровательная цветочница задала мне еще один вопрос:
– А их поцелуи?
– Поцелуи, да, – ответил я, – это ваши ведеты целуются перед вами. Но, по счастью, зрители видят только поцелуи, окончательно внесенные в фильмовую пленку, так как во время их фабрикации они значительно более многочисленны. Прежде чем фотографироваться, поцелуи тщательно репетируются множество раз, после чего их снимают от пяти до пятнадцати раз для того, чтобы, в конечном счете, постановщик мог выбрать из этого числа наиболее удавшийся, наиболее впечатляющий поцелуй. После каждого поцелуйного снимка гример (или гримерша) вытирает лицо актера от красных пятен, исправляет грим и прически целующихся. Поцелуи для актера – самые неприятные моменты съемок, и после этой неизбежной сцены влюбленный спускается в бар студии, чтобы, облегченно вздохнув, глотнуть одну или две рюмки коньяку или стаканчик виски, тогда как его возлюбленная возвращается в свою ложу, где ее нетерпеливо поджидает муж, и где она, заведя с ним семейно-буржуазные разговоры, старательно вымывает свой рот и полощет горло.
Соседка поблагодарила меня за сделанные признания и – очень грустная – покинула мою мастерскую.
Автографы киноведет…
На меня нахлынула волна воспоминаний.
Знаменитый французский актер, Пьер Френэ, фанатик автомобильной скорости и зигзагов, мчался со мной в своем автомобиле по парижским улицам и пролетел через перекресток, не заметив жест полицейского, останавливавшего движение. Раздался немедленный свисток. Френэ приткнул машину к тротуару с такой решительностью, что я чуть не разбил себе лоб о стекло. Медленными, фатальными шагами полицейский приближался к нам, вынимая из кармана штрафную книжку и перо. Пьер Френэ, улыбнувшись, обернулся к полицейскому. Кто не узнает улыбки Френэ?
– Прошу прощенья, господин Френэ, – произнес полицейский, изменившись в лице и протягивая штрафной лист и перо, – это только для вашего автографа.
Пьер Френэ написал:
«Симпатичному Такому-то, человеку долга и строгому блюстителю порядка —
признательный
Пьер Френэ».
И машина снова рванулась вперед с такой силой, что я едва не продавил плечами спинку сиденья.
Полицейские, несмотря на их профессию, тоже бывают очень чувствительны.
Прекрасная французская актриса (а не только киноведета) Габи Морле живет в парижском предместье Буживаль, в том доме, который раньше принадлежал другой знаменитой французской актрисе (певице) – Полине Виардо. Я бывал в этом имении у Габи Морле перед Второй мировой войной. В саду, в отдельном павильоне, жил наш соотечественник: русский шофер Габи Морле. В эпоху Полины Виардо в этом павильоне жил тоже русский: Иван Сергеевич Тургенев. На воротах имения прикреплена мраморная доска со следующей надписью:
Dans cette propriêtê
a rêsidê plusieurs annêes et у mourut
Le 3 septembre 1883
Ivan Sergueevitch Tourgueneff,
celêbre romancier russe,
nê a Orel (Russie) en 1818.
La commune de Bougival
a êlevê a sa mêmoire
cette plaque commêmorative[256]256
В этой усадьбе в течение многих лет жил и скончался 3 сентября 1883 г. Иван Сергеевич Тургенев, знаменитый русский писатель, родившийся в Орле (Россия) в 1818 г. Коммуна Буживаля возвела в память эту мемориальную доску (фр.).
[Закрыть].
Но если коммуна Буживаля посвятила Тургеневу посмертную памятную доску, то завсегдатай этого имения, Гюи де Мопассан, посвятил русскому писателю в 1881 году одно из лучших своих произведений: «Maison Tellier». На первой странице этой книги можно прочесть:
Этот автограф – совсем из другой серии. Тургенев не клянчил его у Мопассана, и Мопассан написал его по собственному желанию, от чистого сердца.
Как-то, в связи с одним фильмом, мне пришлось съездить на одни сутки в Марсель, чтобы повидаться там с Габи Морле, которая отдыхала тогда в этом городе. Переговорив и позавтракав, мы решили прогуляться по Каннебьер, главной улице города, на которой, в одной из гостиниц, жила актриса. Марсельская толчея на этой улице была, как всегда, чрезвычайна: пешеходы, автомобили, автобусы, трамвай, ребятишки, торговцы пряниками, галстуками, орехами, мороженым… Полицейские с трудом регулировали движение на шумных перекрестках. И вот, когда мы старались перейти на одном из этих перекрестков через улицу на противоположный тротуар, маленькая собачка, которую Габи Морле вела на цепочке, неожиданно остановилась посреди мостовой, на трамвайных рельсах, и присела для своих надобностей. Порядок в уличном движении нарушился. Полицейский подошел к нам, но сразу же узнал актрису и, взмахнув белой палкой, остановил движение на перекрестке во всех направлениях. Нас тотчас окружили любопытные и голосистые марсельцы, тоже узнавшие Габи Морле. У собаки, однако, что-то не ладилось. Габи Морле беспомощно оглядывалась по сторонам.
Не выдержав, один из автомобилистов крикнул:
– Что там происходит, черт возьми?!
– Собачка Габи Морле ставит свой автограф городу Марселю! – весело ответил один из любопытных, окруживших нас.
Вдруг собачка поднялась, и мы бодро, под общие аплодисменты, дошли до тротуара. Полицейский взмахнул белой палкой, и движение на мостовой возобновилось, тогда как на тротуаре начались бесчисленные автографы Габи Морле на всевозможных протянутых бумажках, до бумажки полицейского включительно.
Раздача автографов становится у киноведет профессиональной инерцией. Один прославленный итальянский кинолюбовник, пробираясь сквозь кулисы студии, столкнулся с электротехником, державшим лист писчей бумаги и химический карандаш. Машинально кинолюбовник взял у него бумагу и карандаш и наклонился к стоявшему подле ящику, чтобы поставить свою подпись.
– Простите, – сказал электротехник, остановив руку любовника, – это не для автографов, это – лист моих сверхурочных рабочих часов…
О киноавтографах я могу написать еще, по меньшей мере, страниц триста.
В чем заключается разница между актером экрана и актером театра? Эта разница огромна, и если каждый актер театра может работать для экрана, то почти ни один актер экрана не способен играть в театре. Причина этого проста, но о ней обычно не думают. Дело в том, что в театре актер должен во время спектакля сыграть перед зрительным залом всю свою роль от начала до конца, прожить всю непрерывную линию ее нарастаний, падений, взрывов, усмирений, всю цельность, неразделенность ее психологических этапов и их внешнего выражения. Десятиминутные антракты являются перерывами пьесы, продиктованными ее автором, не передышками того или иного актера. С первого раскрытия занавеса и до его падения в конце последнего акта каждый актер театра переживает полностью свою роль.
В зрительном зале кинематографа, напротив, актер отсутствует или – если ему хочется – сам находится среди зрителей. Кинематографический актер репетирует в киностудии (или вне ее – в лесу, на улице, на пляже, в зависимости от сценария) бесконечное число раз, иногда – в течение целого дня, двухминутный или трехминутный отрывок сценария, прежде чем запечатлеть его на фотографической пленке. При этом эти отрывки почти никогда не снимаются в соответствии с последовательным развитием действия пьесы. По причинам технического или экономического характера очень часто «крутят» сначала какую-нибудь сценку финала сценария, затем – крохотный отрывок из его начала и т. д. Такие, не связанные между собой, отрывки фильма снимаются ежедневно, в нескольких вариантах, в течение трех, пяти, восьми или еще большего количества месяцев и только потом, в отсутствие актеров, склеиваются в лабораториях один с другим, после окончательного выбора постановщиком, чтобы составить целое, то есть – законченный фильм. Таким образом, киноактер никогда не испытывает того творческого напряжения, какое свойственно театральному актеру, разыгрывающему в один прием всю пьесу целиком.
Если от театрального актера требуется главным образом его талант, то от кинематографического актера требуется главным образом его фотогеничность, внешность. Вот почему для экрана ищут больше всего красавиц и красавцев, тогда как в театре – подлинных комедиантов.
Еще одно простейшее объяснение чрезмерной популярности кинематографических актеров: театральный актер может играть в один вечер только в одном театре, в одном городе, в одной стране, так как человек еще, увы, не вездесущ. Но кинематографическая лента печатается в огромном числе экземпляров, и фильм показывается одновременно в любом количестве городов и стран по 3, по 4 раза в день. Кроме того, театральный актер смертен, и после смерти он и его искусство исчезают навсегда или становятся достоянием воспоминаний. Кинематографический актер – бессмертен, и его образ, его искусство – увековечены. После своего физического исчезновения он продолжает жить на экране как ни в чем не бывало, – даже часто с еще большей интенсивностью. И продолжает получать восторженные письма своих поклонников, не осведомленных о его исчезновении.
Преобладающее значение физических, внешних качеств над внутренними, духовными, отражается, конечно, и на интеллектуальном комплексе кинематографического актера. Одна чрезвычайно известная и «обожаемая» киноведета (какие замечательные ноги!) спросила меня однажды, видел ли я ее последний фильм. Я признался, что видел еще только несколько журнальных фотографий.
– Но вы же – совершенно некультурный человек! – заявила киноведета. – Ведь этот фильм уже считается классическим!
В свою очередь, я спросил у ведеты, читала ли она когда-нибудь «Братьев Карамазовых». Она взглянула на меня с некоторой тревогой:
– Братьев Карамазовых? Нет. Не читала. А что они написали?
Киноведета испугалась, подумав, что братья Карамазовы написали что-нибудь недоброжелательное о ее новом фильме, ставшем «классическим», и добавила:
– Русские критики, как говорят, всегда слишком требовательны.
Я сказал ей, что братья Карамазовы очень мило отнеслись к ее фильму. Ведета ласково улыбнулась.
Одна молоденькая американская ведета должна была исполнять роль Марии Антуанетты. Как-то, за столиком в баре киностудии, ведета сказала:
– Я уже давно хотела спросить у вас, кто она была, эта самая Мария Антуанетта?
Сидевшая с нами заместительница («дублерша») ведеты, юная англичанка, покраснев от такой неосведомленности, шепнула:
– Это же была королева Австрии.
Вслед за Марией Антуанеттой наступила очередь Анны Карениной. Я спросил у одной ведеты (итальянки), читала ли она Анну Каренину. Ведета переспросила:
– Чью Анну Каренину? Греты Гарбо? Или Вивианы Лейг?
Другая ведета (француженка) ответила мне на тот же вопрос:
– Слишком длинно. Я прочла только предисловие Жана Кокто.
Еще одна (тоже – француженка) призналась, что она никогда не читала Мопассана, потому что он сошел с ума, и добавила:
– Впрочем, мне очень понравилась на экране его «Нана».
И она же – о Достоевском:
– Ваш Достоевский пишет исключительно полицейские романы: «Преступление» и еще что-то, «Процесс Кафка» и тому подобное. Это не в моем вкусе.
«Массовый» кинематографический зритель (или зрительница), верные поклонники (или поклонницы) киноведет, сталкиваясь со мной, неизменно задают еще один вопрос:
– Вы, так близко и так часто встречающий столько красавиц-ведет, скажите, которую из них вы считаете самой красивой женщиной?
Что мне отвечать? Конечно, в моей памяти навсегда останутся прекрасные глаза очаровательной и очень талантливой актрисы Даниель Даррье, ставшей кинематографической ведетой. Конечно, в студиях нередко встречаются очень стройные ноги (Брижит Бардо), очень привлекательные улыбки («историческая» улыбка Марлен Дитрих)… Но женскую красоту в ее ненарушимой гармонии я не встречал ни среди кинематографических ведет, ни среди «старлет» или – иногда весьма миловидных – «фигуранток». Одной из наиболее красивых девушек, с какой мне пришлось познакомиться, была Анна С., «манекен» в самом известном римском «модном доме», где исполнялось много кинематографических костюмов по моим эскизам. Чистота и изысканность черт ее лица, выразительность глаз, цвет кожи и волос, рот (грустный или веселый, презрительный или смеющийся, открытый – с прелестью зубов, или закрытый), скульптурное совершенство тела – граничили с ирреальным, с чудом.
Однажды, нуждаясь в фигурации очень высокого качества, я предложил моей приятельнице Анне показаться в студии всего на один-два дня. «Венера» (так звали ее в модном доме) согласилась, не выразив никакого удовольствия. Боясь, как бы она не переменила своего решения, я отвез ее в студию в моей машине. Появление Анны произвело сенсацию. Фильм был американский, и представители фирмы, окружив новую фигурантку, предложили ей тут же подписать контракт для Холливуда, со всеми вытекавшими из этого привилегиями. Анна отказалась без малейших колебаний. Назавтра в «модном доме», в комнате, отведенной манекенам и похожей скорее на внутренность гардероба, Анна категорически отклонила новую поездку в студию:
– Это меня не забавляет, и это – не мое дело.
– А контракт? А Холливуд? Деньги? И, может быть, слава? Вы не передумали?
Мы были в комнате вдвоем.
– Нет, – сказала Анна, – я не передумала. Видите ли, мой друг: я влюблена… Я люблю одного человека, и ничто не способно оторвать меня от моего счастья, каким бы маленьким оно ни казалось. Я говорю о моем будущем семейном счастье.
– А кто же этот человек?
– Это – прежде всего – человек, которого я люблю. Он работает счетоводом в почтовом отделении моего квартала.
В атмосфере нездоровой, но многообещающей рекламной пропаганды, покоряющей воображение юных и слишком доверчивых девушек (самых разнообразных социальных кругов), решение Анны показалось мне невероятным. Вот почему, когда несколько недель спустя я получил скромное извещение о ее бракосочетании, я мысленно снял перед ней символическую шляпу (шляп я не носил).
Это был редчайший случай, который вызвал в моей памяти иной эпизод, значительно более характерный. Как-то вечером, тоже в Риме, выйдя из ресторана, на улице Франческо Криспи, я столкнулся с очень красивой девушкой. Извинившись, я спросил ее, не согласится ли она принять участие в одном фильме в качестве фигурантки? Девушка, оглядев меня с головы до ног, ответила с легкой полудетской улыбкой:
– Во-первых, я не люблю, когда ко мне пристают на улице, а затем, есть ли у вас доказательство, что ваше предложение серьезно?
Извинившись еще раз, я попросил ее позвонить мне на другой день утром в киностудию Скалера, известную всему Риму.
– Номер телефона, пожалуйста?
– Вот вам мое имя, – сказал я, передавая девушке визитную карточку, – а телефон вы найдете в телефонной книге.
На этом мы расстались. На следующее утро в студии меня позвали к телефону. Звонила встреченная накануне девушка. Через полчаса, очень смущенная, она появилась в студии. Переодетая в костюм времен Людовика XV, она блистала своей несколько простоватой красотой. В перерывах между съемками она выходила во двор студии и там одиноко читала бульварный роман. Мы скоро подружились, и я сделал с нее несколько фотографических снимков для моего профессионального архива, пометив на них ее имя и адрес.
Месяца через четыре я должен был снова вернуться в Рим для другого фильма, и когда вопрос коснулся фигурации, я попросил включить в нее также и мою новую знакомую.
– Эту? Черта с два! – засмеялся администратор фильма с присущей ему воспитанностью. – Один продуктор случайно увидел ее, когда она была у вас фигуранткой, зацапал ее, и теперь она крутит у него фильм в качестве главной ведеты!
Имя застенчивой девушки, с которой я столкнулся на улице Франческо Криспи, было: Сильвана Мангано. Фильм, в котором она была ведетой, когда я вернулся в Рим, назывался «Riz Amer». Красота ее ног сыграла решающую роль в ее судьбе, и Сильвана Мангано сразу же стала мировой знаменитостью.
Последнее о красавицах.
Подлинным чудом девичьей красоты была очаровательная умница, «мисс Россия», награжденная этим званием в Париже в 1936 году и ставшая моей ассистенткой в 1937 году. Она поехала со мной в Рим и в Венецию, где тогда крутился, в постановке русского режиссера Федора Оцепа, фильм «Княжна Тараканова». Там, в студиях, она познакомилась с министром итальянской кинематографии Луиджи Фредди, молодым, высококультурным и очень симпатичным человеком. В 1938 году она вышла за него замуж и осталась неразлучна с ним до сих пор. Стать киноведетой ее тоже, несмотря на целый ряд предложений, не интересовало. Девичье имя «мисс России» и моей ассистентки – Марина Шаляпина, дочь Федора Шаляпина.
Корни русского графического искусства
Русское графическое искусство зародилось на пороге нашего столетия. В прошлом были, конечно, в России первоклассные рисовальщики, но графическое искусство как таковое еще не сформировалось. Можно ли, например, назвать графиками таких мастеров, как Антропов или Рокотов, Боровиковский или Левицкий, Кипренский, Брюллов, Иванов, Крамской, Венецианов, Федотов, Перов, Маковские или Репин? Нет.
Графическое искусство – понятие слишком широкое, но его границы могут быть все же определены. Графика, прежде всего, есть искусство рисунка – штриха, линий, их слияний, из разветвлений; искусство распределения пятен, лишенных полутонов и перемешанных с линиями, черточками и точками (пунктиром) одной и той же силы. Ослабление или сгущение тона отсутствуют: светотень, иногда весьма выразительная, исполняется разряжением или сгущением штрихов, черточек и точек.
Графика может быть фигуративной, реалистической, так же как орнаментальной и, наконец, абстрактной, но всегда подчиненной вышеназванным элементам рисунка, которые составляют сущность этого рода искусства, приводящего часто художника к контурным и даже к силуэтным формам выражения. Кроме того, графика может быть многоцветной.
Значительную роль графика сыграла в развитии книжного искусства, обогатив его иллюстрациями и декоративными украшениями.
Касаясь темы о графическом искусстве, мысль и память неизменно возвращают нас к его истокам и к его хронологическому росту. Вот незабываемые имена и даты, без которых нельзя говорить о графике, и даже – о графике наших дней:
Пизанелло (1395–1450), итальянец; Финигуэрра (1426–1464), флорентиец; Монтенья (1431–1506), падуанец; Антонио Поллайоло (1432–1498), флорентиец; Мемлинг (1433–1494), фламандец; Боттичелли (1440–1510), флорентиец; Уго де Карпи (1450–1523), итальянец; Дюрер (1471–1528), нюренбержец; Кранах (1472–1553), немец; Марк-Антоний Раймонди (1480–1534), итальянец; Рафаэль (1483–1520), итальянец; Гольбейн младший (1497–1543), немец; Франческо Пармезан (1503–1540), итальянец; Рубенс (1577–1640), фламандец; Жак Калло (1592–1635), француз; Ван Дейк (1599–1641), фламандец; Клод Лоррэн (1600–1682), француз; Рембрандт (1606–1669), голландец; Ватто (1684–1721), француз; Вильям Хогарт (1697–1764), англичанин; Лонги (1702–1785), венецианец; Рейнольдс (1723–1792), англичанин; Гойя (1746–1828), испанец… и так – до Гранвилля (1803–1847), француз; до Гаварни (1804–1866), француз; до Густава Дорэ (1838–1883), француз; до англичанина Обрея Бердслея, до испанца Пабло Пикассо и других исключительных графиков Западной Европы XIX и XX веков, не считая большого числа очень тонких ремесленников, переносивших на гравюрные листы произведения живописцев.
Среди этих профессиональных мастеров гравюрной техники необходимо тоже упомянуть некоторые имена: нюренбержец Михаэль Вольгемют, учитель Дюрера, весьма гордившийся, надо думать, своим учеником; затем – Баччио Бальдини (XV в.), флорентиец, которому приписывается первая попытка гравюры на меди (первые гравюры на дереве были сделаны лет на сорок раньше, в том же веке); голландец Корт, гравировавший в Венеции картины Тициана (1477–1576), в ателье великого живописца; Петер Иод и Кристоф Иeгep – современники и гравировщики Рубенса и Ван Дейка; Люкзельбюргер (гравировавший шедевры Гольбейна); Жорж Одран, гравировавший произведения Николая Пуссэна (1594–1665), Николая Миньяра (1606–1668) и Шарля Лебрена (1619–1690); Лоран Карс, француз, гравировавший картины Франсуа Бушэ (1703–1770).
Искусство гравюры (на дереве и на меди) разрасталось с необычайной быстротой – в Италии, в Германии, в Голландии, во Франции… Перечислить граверов представляется невозможным, здесь названы лишь наиболее крупные из них.
Гравирование на дереве началось в России лишь во второй половине XVI века, одновременно с книгопечатанием и в качестве весьма примитивного дополнения к нему. В эти годы искусство деревянной гравюры на Западе находилось уже на вершине своего развития. Первая русская гравюра на меди была исполнена в 1649 году, то есть на 200 лет позже, чем на Западе.
Но, как и на Западе, русское гравировальное искусство началось не в художественных школах, а – в монастырях, для иллюстраций религиозных книг и для отдельных листов духовного содержания. Граверами были не художники, а преимущественно священнослужители. Слово «гравирование» звучало тогда в России несколько иначе: «грыдорование». Вот краткий указатель граверов-священнослужителей:
Георгий, иеродиакон (иллюстрировал деревянной гравюрой «Евангелие» в 1637 году); Илья, монах киево-печерский (оставивший около 400 гравюр на дереве, сделанных между 1637 и 1715 годами); Прокопий, иepeй (гравировал на дереве рисунки к «Апокалипсису» между 1646 и 1672 годами); Зосима, старец Новинского монастыря (сделал деревянные гравюры к «Евангелию напрестольному», 1662, и к Библии, 1663); Варфоломей, иеромонах (иллюстрировал деревянной гравюрой «Псалтырь» в 1680 году); Пaисий, монах (гравировал на дереве рисунки к «Раю мысленному», напечатанному Иверским монастырем в 1695 году); Дорофей, иеромонах (гравюры на дереве для «Молитвослова», 1701 год); Севастиан, иеромонах (гравюры на дереве для «Житий святых», 1704 год); Макарий Синицкий, иеромонах (гравюры на дереве для «Нового Завета», 1717 год); Гавриил, монах (гравюры на меди для отдельных листов религиозного содержания. Наиболее продуктивным был 1727 год); Левицкий, священник (гравюры на меди к «Деяниям Святых Апостолов», 1737 год); Иларион, игумен (гравюры на меди: Св. Троица, Успение, Св. Великомученица Варвара, Святые, Apxиepeй с жезлом и др. Более всего сделано в 1774 году); Иерофей, иеродиакон (гравюры на дереве к «Апостолу», 1784 год); Филарет, монах (гравюры на дереве к «Апостолу», 1784 год); Иосиф, иеромонах; Mapтиpиaн, иеродиакон; Корнилий, старец Чудова монастыря: Исаия, иеродиакон; Артемий Павловкович, инок, и т. д.
Вскоре после священнослужителей к гравюрному ремеслу были привлечены так называемые «знаменщики», то есть – рисовальщики Серебряной палаты, составлявшей отделение Оружейной палаты, работавшие по указам государственных учреждений. Первый сохранившийся образчик такой гравюры (на меди) – это заглавный лист к книге «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», выпущенной в Москве в 1647 году. Но, судя по высокому качеству гравюр, есть все основания думать, что они были исполнены каким-либо голландским гравером, так как в те годы русская медная гравюра находилась еще в самом юном, школьном периоде.
Вообще говоря, русская гравюра (на дереве и на меди), религиозная или правительственная, дала очень мало художественному творчеству в прямом смысле этого термина. Художественная гравюра пришла в Россию позже, из западных стран, и начало этому было положено Петром Великим. Живя в Амстердаме, он сам увлекся процветавшим там гравюрным искусством и, познакомившись с голландским гравером Адрианом Шхонебеком, обучался у него этому мастерству. В амстердамском музее хранится одна гравюра, исполненная Петром, на которой можно прочесть, на голландском языке, следующую надпись:
«Петр Алексеевич, великий Царь Русский, награвировал это иглой и крепкой водкой, под наблюдением Адриана Шхонебека, в Амстердаме, в 1698 году, в спальне своей квартиры, на верфи Ост-Индской компании».
Желая поднять искусство гравюры в России, Петр пригласил туда Шхонебека и другого голландца – Пикара. Затем в Россию были вызваны знаменитый немецкий гравер (медь) Георг Шмидт; немец Яков Штелин, организовавший русскую Академию художеств в 1747 году и назначенный ее первым директором; немцы Христиан Вортман, Эллигер, Иоганн Tэйxep, Иоганн-Фридрих Шлейн, Иоганн Штенглин, французы Энрикез, Антоний Радиг; итальянец Франческо Гандини…
Учениками Шмидта и других иноземных учителей были русские граверы Яков Васильев, Ефим Виноградов, Алексей Греков, Димитрий Герасимов, Николай Колпаков и наиболее совершенный из них Евграф Чемесов, который должен по праву считаться лучшим русским портретным гравером XVIII века. Впрочем, следует отметить, что портреты (главным образом – лиц царских фамилий) были в ту эпоху почти единственным сюжетом граверов Серебряной палаты и Академии художеств, если не считать батальных композиций.
Одним Штенглином были сделаны гравюрные портреты Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра Великого, Петра II, царевны Софьи Алексеевны, императрицы Елизаветы Петровны, Екатерины I, Анны Петровны…
Христиан Вортман награвировал портреты Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины I, Алексея Петровича, Петра II, Анны Иоанновны, Анны Петровны…
Ученик Шхонебека Алексей Зубов награвировал портреты Петра I, Петра II, Екатерины I, Анны Иоанновны, изображение бракосочетания Петра I…
Учеником Вортмана был также Иван Соколов, один из наиболее талантливых русских граверов, который после ухода из Академии своего учителя был назначен при ней «главным мастером гравировального художества».
В целом, почти все pyccкие граверы XVIII века были учениками иностранцев (за исключением некоторых мастеров допетровского периода: Афанасий Трухменский и его ученик Василий Андреев, Леонтий Бунин и др.). Но, несмотря на их старания, ни Дюреров, на Гольбейнов у нас не было.
В 1762 году Шмидт покинул Poccию и вернулся в Берлин. После его отъезда русская гравюра и вместе с ней русское графическое искусство вообще стали постепенно угасать, не достигнув своего расцвета.
Говорить о нашей графике XIX века представляется бесполезным. Правда, рисунки пером делали такие художники, как Григорий Угрюмов (1764–1823), Василий Шебуев (1777–1855), Егор Скотников (1782–1843), Иван Бугачевский-Благодарный (1783–1859), Петр Боклевский (1816–1897), Александр Агин (1817–1876) и многие другие, но перо было для них только аппаратом работы, и с формальной стороны их рисунки ничего не прибавили к эволюции графического искусства.
Подлинными русскими графиками XIX века могут считаться лишь Алексей Оленин (1763–1843), бывший президентом Академии художеств, и граф Федор Толстой (1783–1873), бывший вице-президентом Академии художеств, мастер контурного, линейного и силуэтного рисунка. Впрочем, нельзя не отметить, что довольно тонкими русскими рисовальщиками того времени были и непрофессиональные художники: Батюшков, Пушкин, Глинка, Гоголь, Лермонтов (рядом с которыми можно поставить и некоторых иностранцев, например – Виктора Гюго и Поля Верлена). Также – и в наши годы: Федор Шаляпин, Владимир Маяковский, француз Жан Кокто… Поэзия и музыка – сестры рисунка.
Леонид Пастернак, отец поэта Бориса Пастернака, родившийся в 1862 году, талантливый мастер рисунка, портретист и книжный иллюстратор («Воскресенье» Л.Толстого и др.), говорил в своих «Записках», что «в основе и живописи и графики лежит умение рисовать, и рисунок – это фундамент всех видов изобразительных искусств».
И – в тех же «Записках»:
«Когда, после мюнхенской Академии, я вернулся из-за границы домой в Одессу и когда потом переехал в Москву, я был поражен, как мало даже серьезные художники понимали и интересовались у нас рисунком как самостоятельным родом пластического искусства и как презрительно они относились к разным видам графики… Будучи в мюнхенской Академии, я часто ходил в Купферштихкабинет (так назывался гравюрный кабинет при мюнхенских музеях – одно из первоклассных, выдающихся собраний рисунков-оригиналов и оригинальной художественной графики старых мастеров). Здесь я знакомился с произведениями старых мастеров и с образцами художественной графики. И каким наслаждением бывало сидеть в тиши специально оборудованной обстановки и рассматривать – словно лицом к лицу с ними – папку за папкой рисунков, эскизов и особенно офортов Рембрандта или другого мастера…»
Мне понятно это наслаждение, но здесь я добавлю от себя, что мне тоже пришлось бывать и работать в мюнхенском «Купферштихкабинете» и что эти дни связаны у меня с анекдотическим воспоминанием. Придя туда в первый раз, я сказал, что хочу видеть оригиналы рисунков Дюрера. Любезная дама, принимавшая посетителей, сказала мне, что она должна сначала получить формальное доказательство того, что я – художник или искусствовед. Я показал ей мой паспорт: «художник». Дама провела меня к отдельному столику, попросила меня присесть и подождать три-четыре минуты. За другими столиками сидели уже несколько человек, углубленных в рассматривание рисунков. Без задержки дама вернулась к моему столику и положила на него обширную папку. С священным трепетом я раскрыл ее и осторожно стал перелистывать пожелтевшие от времени рисунки. Однако почти сразу же я разглядел, что это не были оригиналы, но весьма высококачественные репродукции, «фототипии», очень точно запечатлевшие не только рисунок, но также – поверхность бумаги и все внешние следы древности. Закрыв папку, я отнес ее к любезной даме и передал ей вполголоса мое мнение. Она взглянула на меня с любезной улыбкой и, попросив меня подождать две-три минуты, вышла из залы. Вернувшись без задержки, дама пригласила меня пройти с ней в кабинет директора, который, тоже чрезвычайно любезно встретив меня, подтвердил с улыбкой, что я прав, что мне выдали фототипии и что так поступают в «Купферштихкабинете» всегда. Подлинные оригиналы выдают только тем из посетителей, которые сумели действительно опознать, что выданные им сначала рисунки представляют собой репродукции. Но это случается очень редко, сказал директор, что способствует сохранности оригиналов. Через минуту у меня в руках была папка с неоспоримыми подлинниками рисунков Дюрера. В следующие четыре дня мне без колебаний сразу же выдавались оригиналы.