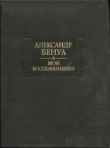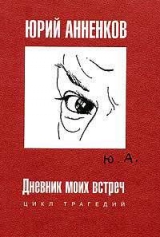
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц)
Говоря о частых встречах Горького со Сталиным, Замятин, между прочим, произнес: «Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих перегибов в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии»[83]83
Цитирую из русского текста, вошедшего в книгу «Лица», уже упомянутую мною выше.
[Закрыть].
Возможно, что получение разрешения на выезд за границу показалось Замятину одним из признаков «смягчения режима», несмотря на то, что именно 1936 год уже ознаменовался кровавыми сталинскими «процессами», «чистками» и массовым истреблением населения, достигшими своей кульминации в 1937 году.
Любовь к творчеству Горького и личная дружба с ним побудили Замятина перенести на французский экран какое-либо произведение Горького. После долгих колебаний Замятин остановил свой выбор на пьесе «На дне». Задача была нелегкая, так как атмосфера русского «дна» была чужда широкому французскому кинематографическому зрителю. Замятин решил ее «офранцузить», пересадить на французскую почву. Но самая мысль сблизиться с кинематографической продукцией была в известной степени навеяна Замятину также и практическими соображениями. Уже в первые месяцы своего пребывания в Париже Замятин понял, что жизнь за границей для русского писателя, оторванного от своей страны, чрезвычайно трудна. Кинематограф показался ему наиболее доступным способом зарабатывать на жизнь.
Прожив несколько недель в моей квартирке, Замятины уехали на юг, на Ривьеру. Вскоре я получил от него письмо от 30 сентября 1932 года:
«Villa Simple Abri
rue des Oliviers, Crоs-de-Cagnes
Дорогой Юрий,
Спасибо за письмо. Но насчет летних наших проектировавшихся встреч – это ты валишь с больной головы на здоровую: когда мы проживали в Париже, ты ведь еще и сам не знал, куда тебя нелегкая понесет – шла речь о St-Tropez, помнишь? И мы решили, что ты о своем летнем местопребывании дашь мне знать по адресу Григорьева[84]84
Художник Борис Григорьев.
[Закрыть].
Ну, ладно, это дело прошлое. А настоящее – неважное. То есть так оно бы и ничего: были замечательные грозы, сегодня – опять лето, жарко, в море – синь, в кармане – какие-то франчишки. Но я опозорился: здесь, на Ривьере, умудрился схватить какой-то паршивый грипп! В Петербурге вот уже лет пятнадцать не знал, что это такое, а тут – пожалуйста! Черт знает что! Купанье – пропало, приходится сидеть в комнатах. Злюсь.
Сколько времени пробуду здесь, на юге, – пока еще не знаю: это зависит от работы. До сих пор еще не найден режиссер для фильма, а потому неизвестно, кто будет делать decoupaqe[85]85
Режиссерский сценарий (фр.).
[Закрыть]: то ли режиссер, то ли я, то ли оба вместе.
Буду рад, если напишешь, как дела у тебя? Удалось ли наконец сдать квартирку на rue Duranton?
Встретился здесь, в студии, со стариком Федором Ивановичем – Дон Кихотом[86]86
Ф.И.Шаляпин в роли Дон Кихота (фильм Г. В.Пабста).
[Закрыть]. Встречался не один раз с Катей Карнаковой[87]87
Екатерина Карнакова, позировавшая мне однажды в одной рубашке и коротеньких кружевных панталончиках.
[Закрыть], б. актрисой МХАТа и бывшей женой Дикого – знавал таковую? Хорошая девушка. Она живет в Cap-Ferrat. И там же жила другая хорошая Катя: Красина[88]88
Екатерина Красина, дочь Л.Б.Красина, первого советского полпреда
[Закрыть].
Хорошего много, да ведь я-то что-то не хорош.
Жму руку.
Твой Евг. З.».
Речь, произнесенная Замятиным на вечере, посвященном памяти Горького, заканчивалась следующими словами: «За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького „На дне“. Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией пьесы, что он ждет манускрипт. Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл – с земли».
Режиссер был в конце концов найден: Жан Ренуар, один из самых крупных французских кинематографических постановщиков, сын знаменитого художника-импрессиониста Огюста Ренуара, с большой убедительностью перенесший замятинский сценарий на экран, при участии талантливейшего Луи Жуве и (на мой взгляд – бездарного, но ставшего благодаря своей грубой вульгарности «любимцем публики») Жана Габена. Текст Горького был переработан Замятиным с тонким уменьем и тактом, и фильм имел огромный успех. Правда, не кинематографическая, а более рафинированная французская театральная публика была уже давно знакома с пьесой Горького, представленной в Париже в постановке Люнье-По 12 октября 1905 года, с участием Элеоноры Дузе в роли Василисы Карповны, и позднее – 22 марта 1922 года – в постановке Георгия Питоева, с участием Людмилы Питоевой в роли Насти и Мишеля Симона в роли Бубнова. Та же пьеса была снова показана в Париже, лет тридцать спустя, Сашей Питоевым, сыном Георгия; но эта постановка явилась обедневшей копией постановки, сделанной в Художественном театре, в Москве.
Еще несколько писем:
«Villa Simple Abri, rue des Olivers,
Cros-de-Cagnes (A.M.).
14. X.1932
Дорогой Юрий Палыч,
Через неделю с небольшим кончается срок моей квартиры здесь, и я, должно быть, двинусь в Париж с Людм. Ник. Число беспризорных на улицах Парижа может увеличиться на две единицы. А посему: если твоя гарсоньерка на rue Duranton еще не сдана, не сдашь ли ты ее мне – скажем, хоть на месяц – пока что, с тем, что я найду себе другое помещение, если появятся претенденты на эту квартирку более солидные. Неохота сейчас же с вокзала начинать квартирную беготню…
Здесь после потопов и холодов – опять лето. Не откладывай с ответом.
Целую тебя – твой Е.З.».
К сожалению, это письмо пришло ко мне, когда меня не было в Париже, вернувшись недели через полторы, я нашел у меня уже два замятинских письма. Во втором, написанном в той же вилле «Simple Abri» и датированном 24.10.1932 года, говорилось:
«Дорогой Юрий,
Жив ли ты и невредим ли? Может быть, как в старину, опять твой пуп начал уходить внутрь? Иначе, если бы пуп был на месте, думаю – ты ответил бы мне на мое письмо и открытку. Во всяком случае, по получении этого послания бери перо и пиши мне ответ немедля.
Вероятно, 1 ноября я буду в Париже с Людм. Ник., и мне нужно где-нибудь устроиться на три-четыре дня, пока я найду себе какие-нибудь appartements meublês[89]89
Меблированные комнаты (фр.).
[Закрыть]. Уж очень не улыбается мне прямо с вокзала – бежать разыскивать какое-то жилье, и трудно сделать это наспех, в один день. Если твоя комната на rue Duranton стоит пустая до сих пор – может быть, можно было бы хотя бы на краткий срок приклонить там голову?
Будь другом – ответь немедля.
Жму руку,
Твой Евг. Замят.».
В то время, однако, я уже отказался от моей квартирки на улице Duranton, и Замятиным пришлось искать в Париже другое убежище, чтобы «приклонить там голову».
Через несколько месяцев французский театральный предприниматель и актер Поль Эттли решил осуществить постановку пьесы «Блоха» в переводе Сидерского, переведшего уже в 1923 году поэму А.Блока «Двенадцать». Замятин обратился ко мне с просьбой сделать внешнее оформление спектакля (декорации и костюмы). Я с удовольствием принял это предложение. Но в те же месяцы я готовил декорации (четырнадцать картин!) и огромное количество костюмов для пьесы французского драматурга Шарля Мере «Passage des Princes», героями которой были Жак Оффенбах, певица Гортензия Шнайдер и вообще вся пышность так называемой «belle êpoque»[90]90
Прекрасная эпоха (фр.).
[Закрыть] Франции шестидесятых и семидесятых годов прошлого века. Премьера этого спектакля должна была состояться (и состоялась) в самых первых числах декабря, в театре Madeleine, и я был перегружен работой.
Репетиции «Блохи» начались во второй половине октября. Постановщиками были Поль Эттли и балетмейстер Мирон Библин, который должен был поставить танцы. 7 ноября Замятин прислал мне следующее письмо:
«6.XI.1933
10 час. веч.
Дорогой Юрий,
был у тебя в пятницу 3-го, оставил для тебя письмо у Дэзи[91]91
Моя соседка, жена известного английского живописца Энтони Гросса.
[Закрыть]. Получил ли ты это письмо? Я писал, что жду тебя в воскресенье, и не дождался. Самое позднее 3-го или 4-го ты должен был, по твоим словам, все сдать в Madeleine – и затем заняться „Блохой“. То, что ты не даешь о себе знать, я понимаю только так, что ты хочешь обрадовать меня и показать сразу эскизы декораций?
Нет, дорогой, ты лучше не откладывай и покажись сначала сам, хоть на четверть часа, чтобы мне быть спокойным и знать, когда можно будет показать твои эскизы в театре. Потому что там на меня наседают с французом, а ни в каких французских декорациях „Блохи“ я никак не вижу. Не режь меня без ножа, не будь душегубом!
Завтра я дома утром до 2 и вечером с 9.
Твой Евг. З.».
В девять часов вечера состоялось наше свидание, и я показал Замятину некоторые мои предварительные наброски. Но на другой же день я должен был неожиданно подписать один фильмовый контракт на четыре месяца и немедленно выехать из Парижа. По случайному совпадению административные трудности вынудили Поля Эттли тоже перенести постановку «Блохи» в Брюссель, где первое представление состоялось в декабре 1933 года. Декорации были исполнены Маньеном де Рейзе, костюмы – Ландольфом. Музыка была написана Сержем Векслером. Их творчество мне, к сожалению, незнакомо.
Летом 1935 года я покинул мою мастерскую на улице Буало и переехал в буржуазно-удобную квартиру на бульваре Мюра. Несколько позже Замятины, в свою очередь, переселились на летние месяцы в парижское предместье Бельвю к их приятелю, доктору Рубакину, основавшему там, в своем имении, «образцовую школу», что-то вроде гимназии. Последнее сохранившееся у меня письмо Замятина написано им оттуда:
«69, Route des Gardes,
Bellevue
Дорогой Юрий,
У тебя в новой квартире – спору нет: хорошо. Но у нас в парке Бельвю – ей-Богу, лучше. Мы думали, что ты сам догадаешься и приедешь с твоей нормандской красоткой Тиной в субботу или воскресенье подольчефарниенствовать, а ты и глаз не кажешь. Приезжай скорей – пока я не засел за какую-нибудь новую работу: пока – кончив дела с Оцепом – бездельничаю и сижу безвыездно здесь. Приезжай в любой день, кроме среды (в этот день я буду под Версалем). Да вспомни и про старика Осоргина.
Привет Тине,
Твой Евг. Замятин».
Тина (Валентина Ивановна) была тогда моей женой, с которой я позже разошелся. В тридцатых годах она действительно была «красоткой», но не нормандской, а чистокровно московской.
Федор Оцеп (русский) был очень известным кинематографическим постановщиком, жившим во Франции до войны 1939 года. Им были сделаны фильмы «Парижский мираж», «Пиковая дама», «Княжна Тараканова» и др. В «Пиковой даме» (фильм, в котором участвовали такие актеры, как Маргерит Морено – в роли графини, Мадлен Озерей – в роли Лизы и Пьер Бланшар – в роли Германна) мне пришлось заменить Мстислава Добужинского в качестве автора костюмов, так как Добужинский должен был срочно выехать в Вену. Мною были также созданы костюмы для фильма «Княжна Тараканова», крутившегося в Италии (Рим, Ватикан, Венеция), где моей ассистенткой была дочь Ф.И.Шаляпина – прелестная Марина, «мисс Россия» 1937 года.
У Федора Оцепа в Париже Замятин и я проводили иногда вечера, засиживаясь до поздней ночи. По просьбе Оцепа Замятин написал сценарий «Анна Каренина». К сожалению, этот фильм остался неосуществленным.
В том же году приезжал в Париж Борис Пастернак, и втроем мы катались по городу в моей машине. Я спросил однажды, куда Пастернак хотел бы еще съездить. Он ответил:
– В предместье St-Denis, к гробницам королей.
– Весьма своевременно, – сказал Замятин.
И мы поехали в St-Denis…
Тридцатые годы были временем очень частых наездов русских писателей в Париж: Замятин, приехавший с разрешения Сталина и потому не считавший себя эмигрантом; Пастернак, Федин, Пильняк, Бабель, Эренбург, Безыменский, Слонимский, Мариэтта Шагинян, Никулин, Алексей Толстой, Киршон, Всеволод Иванов… Приезжая в Париж, они постоянно и весьма дружески встречались с писателями-эмигрантами, несмотря на политические разногласия. Случались, конечно, и небольшие недоразумения. Так, я помню, в моей квартире Федин упрекнул меня в том, что я не предупредил его о приходе Осоргина, встреча с которым казалась ему неуместной. Но это был редчайший случай, и в тот же вечер они мирно беседовали друг с другом, сидя рядом на диване.
Теперь – некоторые выписки из моего дневника того времени.
«17 августа 1935 г.
Ездил с Замятиным в Бельвю к доктору Рубакину, в его „образцовую школу“. Метро переполнено толпой, не перестающей меня поражать своей потливостью, семейственностью и упорством, с которым люди решаются потратить около двух часов на скучнейшее путешествие под землей, чтобы провести два часа на травке, закиданной клочками просаленной бумаги, окурками и яичной скорлупой.
В саду образцовой школы (сад огромный, великолепный, холмистый) велась за чаем беседа о новых методах образования и воспитания детей. Рубакины – завидные энтузиасты своего дела, но, к сожалению, пользование их школой доступно лишь очень состоятельным людям: плата за нравоучение – от 500 франков в месяц с ребенка. Как всегда – все хорошее стоит дорого.
Дочь Рубакина, кустодиевская барышня, не знает ни слова по-русски. Рубакин показывал свою книгу, написанную по-французски. „Человеческое неравенство перед болезнью и смертью“ – труд из области социальной гигиены, основанный на данных международной статистики. Содержание исчерпывается заглавием.
К вечеру читали в парке последние номера советского журнала „Творчество“, только что пришедшие из Москвы. Безграмотность советских художников и художественных критиков непонятным образом возрастает с каждым годом. Довольно крепко упомянув „мамашу“, Замятин прибавил:
– Возврат от трактора к сохе, от аэроплана – к телеге».
«22 мая 1936 г.
Весь день просидел безвыходно дома. Живопись. Вечером пришли Оленька Глебова-Судейкина и Замятин. Оленька рассказывала о новых своих заботах: у нее расплодились канарейки. Итого – 54 птицы без клеток, в одной комнате для прислуги. Потому что Оленька живет в комнате для прислуги.
Замятин:
– Не хватает филина и страуса. Необходимо исхлопотать!»
Здесь я чувствую необходимым привести еще нигде не опубликованное стихотворение Игоря Северянина, посвященное Ольге Судейкиной и написанное в Париже, куда поэт приезжал в начале тридцатых годов.
ГОЛОСИСТАЯ МОГИЛКА
В маленькой комнатке она живет.
Это продолжается который год.
Так что привыкла почти уже
К своей могилке в восьмом этаже.
В миллионном городе совсем одна:
Душа хоть чья-нибудь так нужна!
Ну вот, завела много певчих птиц —
Былых ослепительней небылиц —
Серых, желтых и синих, всех
Из далеких стран, из чудесных тех,
Где людей не бросает судьба в дома,
В которых сойти нипочем с ума…
Париж,
12 февраля 1931 г.
«6 октября 1936 г.
Чудесный осенний вечер. Осенние скрипки. Но денег у меня по-прежнему нет ни копейки. Телефон не работает уже свыше трех месяцев. Утром купил на два франка и пять сантимов хлеба, сахара и яиц. Жизнь дешева и прекрасна: грошовая опера, Opêra de quat’sous. Тинок бодрится».
«7 октября 1936 г.
Утром был разбужен… телефонным звонком: со станции сообщили, что моя линия восстановлена. Происшествие непонятное, так как денег я не вносил. Остаются два предположения: либо свет не без добрых людей, либо в жизни бывают чудеса. Хорошо бы верить и в то и в другое. Около полудня – еще звонок. Голос Замятина:
– Уже восстановили?
– Восстановили.
– Ну так пойдем, на радостях, пожрать креветок и мулей.
– Пойдем.
И мы встретились в маленьком ресторанчике на бульваре Эксельманс, где изумительно вкусно готовились всяческие ракушки».
Во все годы, что я знал Замятина, он был всегда окружен книгами, жил книгами. Книги, книги, постоянно – книги. Книги были для Замятина своего рода культом.
В 1928 году он писал: «Когда мои дети выходят на улицу дурно одетыми – мне за них обидно; когда мальчишки швыряют в них каменьями из-за угла – мне больно; когда лекарь подходит к ним с щипцами или ножом – мне кажется, лучше бы резали меня самого.
Мои дети – мои книги; других у меня нет».
Несколько иначе, но с теми же чувствами писал о книгах и Виктор Шкловский в статье «О пользе личных библиотек и о пользе собрания книг в первых изданиях в частности» («Новый мир», Москва, 1959)[92]92
Статья была опубликована в журнале «Новый мир», 1959, №10.
[Закрыть].
«Работать с книгой, не пользуясь государственными библиотеками, невозможно… Лестницы государственных библиотек священны, и те, кто ходят по этим ступеням, не разочаровываются.
Но книгу надо иметь и дома.
Библиотечную книгу читаешь в определенные часы: потом она от тебя уходит; ее нельзя размечать.
Своя книга остается дома, обогащается от чтения к чтению; в ней можно сделать отметку, к ней можно возвратиться.
Проходят годы, изменяется жизнь; ты возвращаешься к старой книге по-новому… (примеряешь свой рост к ней, и оказывается иногда, что время тебя вырастило).
Очень важны книги, оставшиеся после работы… К ним надо возвращаться для того, чтобы проверить себя так, как художник возвращается к старым своим рисункам…
Надо накапливать книги, знакомясь с человеческим опытом, – пускай они лежат вокруг твоей мысли, становясь твоими, – кольцо за кольцом, так, как растет дерево, пускай они подымаются со дна, как коралловые острова.
Если от книг становится тесно и некуда поставить кровать, то лучше заменить кровать раскладушкой.
Я собирал книги, собрал хорошую библиотеку по старой русской прозе. Она сейчас не у меня – она стала частью библиотеки Союза писателей.
Я скучаю по ней, потому что она заперта в шкафах, и я слыхал, что ее теперь редко читают…
Самая маленькая библиотека, оставшаяся у человека, драгоценна…
Частные собрания книг для нас драгоценность, потому что они сохраняют книгу. Книга должна иметь друга, иначе она растеривается, зачитывается».
Почему собранные им книги, о которых он скучает, стали «частью библиотеки Союза писателей», осиротевший Шкловский не говорит.
В начале 1937 года здоровье Замятина сильно пошатнулось. В последний раз я был у него за несколько дней до его смерти. Замятин принял меня, лежа на диване и, конечно, с улыбкой на усталом лице.
Замятин скончался 10 марта 1937 года. В день похорон я поднялся на этаж замятинской квартиры в доме № 14 на улице Раффе, но войти в квартиру у меня не хватило мужества. Я остался на площадке лестницы перед открытой дверью. Через несколько минут из квартиры вышел заплаканный Мстислав Добужинский и прислонился к стене рядом со мной. Он сказал мне, что лицо Замятина сохраняло улыбку. Еще минут через пять на лестницу вынесли гроб. Лестница в доме была крутая, вьющаяся и слишком узкая, так что гроб пришлось спускать по ней в вертикальном положении. Присутствовало много провожающих, но мне было так тяжело, что я не запомнил ни лиц, ни имен.
Погребение состоялось на кладбище в Тие (предместье Парижа).
Советская энциклопедия (1936) о Замятине: «Замятин (1884) печатается с 1908 г. В дореволюционных произведениях („Уездное“, 1911; „На куличках“, 1914) выступал изобразителем тупости, ограниченности и жестокости захолустного мещанства и провинциального офицерства. В своем пореволюционном творчестве З. продолжает давать ту же консервативную провинциальную обывательщину, которая, по его мнению, осталась характерной и для Сов. России. Буржуазный писатель, З. в своих произведениях (особенно в „Пещере“ и „Нечестивых рассказах“) рисует картину, совершенно искажающую советскую действительность. В опубликованном за границей романе „Мы“ З. злобно клевещет на советскую страну»[93]93
Здесь приведена (с мелкими неточностями) заметка из Малой советской энциклопедии (Т. 6. М., 1936).
[Закрыть].
Точка. В последующих изданиях Советской энциклопедии имя Замятина не упоминается.
По счастью, Людмила Николаевна отличалась редкой бережливостью ко всему литературному наследию Замятина и тщательно охраняла все им написанное – до кратчайших заметок, записных книжек, всевозможных черновиков и писем. И это не только береглось, но одновременно и распределялось по хронологическим и иным признакам, с точными указаниями дат и другими пояснительными примечаниями. Замятинские архивы уцелели.
После смерти Евгения Ивановича Людмила Николаевна, несмотря на тяжесть наступившего одиночества, отдала все свое время и свои силы на поиски возможностей спасти произведения Замятина от забвения. Уже в 1938 году вышел в свет на русском языке роман «Бич Божий» в издательстве Дома книги, в Париже. Но шли годы страшной эпохи, надвигалась мировая война, разразившаяся через несколько месяцев, и издательская деятельность почти совершенно прекратилась во всех странах. Только в 1952 году, то есть спустя тридцать два года после его написания, роман «Мы» впервые вышел наконец полностью на русском языке, но, конечно, не в Советском Союзе, а в Соединенных Штатах Америки, в нью-йоркском русском Издательстве имени Чехова. Там же в 1955 году появилась книга статей Замятина «Лица». В 1958 году «Мы» появились на немецком языке («Wir», изд. Kiepenheuer u. Witch, Кельн—Берлин). Вслед за тем, в 1959 году, этот роман вышел по-итальянски («Noi», изд. Minerva Italica, Бергамо—Милан), по-фински («Me», изд. К.J.Gummerus Osakeyhtio Jyvaskyla), по-шведски («Vi», изд. Albert Bonniers Forlag, Стокгольм), по-норвежски («Vi», изд. Tiden Norik Forlag, Осло), по-датски («Vi», изд. С.A.Rotsels Forlag) и – во второй раз – по-английски («We», изд. Е.Р.Dutton and Company, New York). Кроме того, «Мы» были напечатаны в «Антологии русской литературы» советского периода (изд. Random House, New York, 1960). Наконец, в 1963 году вышел в свет на русском языке том повестей и рассказов Замятина (изд. ЦОПЭ, Мюнхен)…
Всем этим русская литература обязана Людмиле Николаевне.
В 1965 году, исполнив долг, Людмила Николаевна вернулась к своему мужу, и ее гроб укрылся в могиле Евгения Замятина, в Тие.