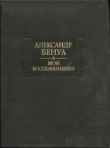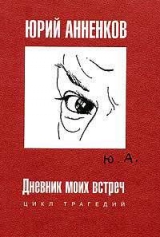
Текст книги "Дневник моих встреч"
Автор книги: Юрий Анненков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Юрий Мандельштам (Юрий, а не Осип) говорил в своей статье «О любви» (сборник «Литературный смотр», Париж, 1939): «Любовь меняется, ибо меняется сознание и духовное содержание человека… Любовь – не отвлеченное понятие, а живая реальность… Любовь – непрерывная цепь чудес… Само возникновение любви – чудо… В любви есть неиссякаемый источник лиризма. Вероятно, поэтому любовь всегда была основной темой поэзии… Любовь – не только тема поэзии, но и ее источник… Некоторые люди любят повторять, что не верят в любовь. Для меня это звучит так же, как если бы они заявили, что не верят в воздух, которым дышат. Ахматовские строчки:
Придумал какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле —
не больше чем раздраженная реакция утомленного психологизмом сознания. Если бы Ахматова усомнилась в существовании любви на самом деле, то не писала бы об этом стихов…
Стендаль, в бытность свою консулом в Чивитта-Веккии, предчувствуя приближение смерти, сам составил себе эпитафию: Анри Бейль. Жил, писал, любил. Я не знаю более достойной надгробной надписи».
Любопытно также (если этот легкомысленный термин в данном случае применим) читать ждановский марксо-ленинский-сталинский материалистический бред – рядом с процитированными здесь статьями Мариэтты Шагинян и Виктора Шкловского.
Впрочем, ничто не вечно под луной. В толстом московском ежемесячном журнале «Новый мир» от 1959 года, в статье того же Шкловского «Несколько слов о реализме у нас и на Западе» я прочел: «Путь социалистического реализма не выдуман и не сейчас возник, он путь для человечества; он неизбежен; человечество движется вперед, только осознавая себя и свою общность».
Я покинул Советский Союз летом 1924 года, семь месяцев спустя после смерти Ленина, и с тех пор не встречал Анну Андреевну Ахматову, не переставая, однако, читать все ее вещи, которым удавалось проникнуть в печать. И вот в последних числах июня 1961 года, то есть в пятилетие хрущевской «десталинизации», я получил из Москвы только что вышедший в государственном издательстве «Художественная литература» сборник стихотворений Анны Ахматовой, от 1909 до 1960 года. Благоговейно раскрыв его, я увидел на титульном листе следующую надпись, сделанную пером, от руки:
Милому
Юрию Павловичу
Анненкову,
дружески
Ахматова.
Москва, 20 июня 1961 г.
Мне не стыдно теперь признаться: прочитав эти строки, я, несмотря на мой возраст, не мог удержать слез.
В качестве фронтисписа в книге помещен фотографический портрет Ахматовой, снятый в сороковых годах, когда Ахматова уже вступала в пятое десятилетие своей жизни. Но этот снимок оказался до странности похожим на мой гуашный портрет: тот же взгляд, та же «незавитая челка», прикрывшая лоб, тот же поворот лица, то же скромное декольте…
Этот томик – одна из моих самых незаменимых драгоценностей.
В конце уже упомянутого предисловия «Коротко о себе» Ахматова пишет: «Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи».
Читатель, знающий Ахматову, никогда в этом не сомневался. Он жалеет только, что в новой книге, носящей ретроспективный характер (1909–1960), нет ни одного стихотворения, написанного в 1923, 1925, 1926, 1928, 1930, 1932, 1933, 1935, 1937 и 1938 годах. Затем – снова пустыня: 1947, 1948, 1949, 1950[36]36
В указанном сборнике опубликовано одно стихотворение А.Ахматовой, написанное в 1950 г.
[Закрыть], 1951, 1953, 1954, 1955 годы. Читатель жалеет также, что 1927, 1929, 1931, 1934, 1939, 1956 и 1957 годы принесли ему в этой книге всего по одному стихотворению. Читатель выражает надежду, что в ближайшем будущем поэзия Ахматовой этих «стертых» лет станет наконец для него доступной.
Впрочем, очень немногочисленные строки, написанные в эти годы, сумели появиться в сборнике Ахматовой «Реквием», выпущенном Товариществом зарубежных писателей (Мюнхен, 1963).
Для меня «Реквием» А.Ахматовой – возрождение ее укрытой поэзии.
5 июня 1965 года на мою долю выпал счастливый случай присутствовать в амфитеатре Оксфордского университета на торжественной церемонии присуждения Анне Ахматовой звания доктора honoris causa. Кроме Ахматовой, таким же дипломом были одновременно награждены английский поэт Зигфрид Бассин, английский прозаик Жофрей Кейнс и итальянский профессор, флорентинец Джианфранко Контини, специалист по Данте.
Трудно сказать, кого было больше среди переполнившей зал публики: людей зрелого возраста или молодежи, в большинстве, вероятно, студенческой.
Появление Ахматовой, облаченной в классическую докторскую тогу, вызвало единодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную овацию после официального доклада о заслугах русской поэтессы.
Часа через два после этого события в моей отдельной комнате раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Оксфорде, Ахматова просила меня возможно скорее приехать к ней. Я не замедлил исполнить ее желание.
– Страшно подумать: почти полных полвека! – сказала Ахматова, протянув мне свою руку.
Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминания, вопросы, разговор обо всем. Ахматова сказала мне, что она получала все мои письма и что советские туристы, бывавшие в Париже и видевшие меня, всегда передавали ей мои приветы. Меня чрезвычайно тронуло, что Ахматова вспомнила даже о том, как в 1921 году она позировала мне в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, солнечный июльский день и что она была одета в очень красивое синее шелковое платье.
Но еще более меня тронуло нечто совершенно неожиданное: Ахматова привезла с собой в Оксфорд и подарила мне одну страшно ценную для меня фотографию, относящуюся к первым дням войны 1914 года. В один из этих дней, зная, что по Невскому проспекту будут идти мобилизованные, Корней Чуковский и я решили пойти на эту улицу. Там, совершенно случайно, с нами встретился и присоединился к нам Осип Мандельштам, о котором Ахматова написала замечательную статью в нью-йоркском журнале «Воздушные пути» (№ 4, 1965). Когда стали проходить мобилизованные, еще не в военной форме, с тюками на плечах, то вдруг из их рядов вышел, тоже с тюком, и подбежал к нам поэт Бенедикт Лившиц. Мы обнимали его, жали ему руки, когда к нам подошел незнакомый фотограф и попросил разрешение снять нас. Мы взяли друг друга под руки и были так вчетвером сфотографированы…
Ахматова приехала в Оксфорд в сопровождении очень симпатичной, молоденькой Ани Каминской, внучки Николая Пунина, известного русского искусствоведа, теоретика и защитника авангардных форм художественных исканий в первые годы революции, с которым я был в товарищеских отношениях. Второй спутницей была американская студентка, проживающая в Англии, Аманда Чейс Айгт, изучающая русский язык и уже неплохо говорящая на нем. Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой.
Я виделся с Ахматовой в Оксфорде три раза. Само собой разумеется, наши разговоры сводились главным образом к взаимным расспросам о литературе, об изобразительном искусстве, о музыке, о театре – в СССР и за рубежом, а также – о наших общих друзьях, живущих там и живущих здесь.
Мы расстались очень дружески, и я вернулся в Париж 8 июня. Но 17 июня, неожиданно, Анна Ахматова тоже приехала в Париж, где пробыла четыре дня. По случайному совпадению она поселилась в отеле «Наполеон», на авеню Фриэдланд, около площади Этуаль, отеле, управляемом Иваном Сергеевичем Маковским, сыном Сергея Константиновича Маковского, поэта и основателя знаменитого художественно-литературного журнала «Аполлон», где были напечатаны ранние стихотворения Ахматовой, о чем я подробнее говорю в главе, посвященной С.Маковскому. Иван Маковский, узнав, что в его отеле остановилась Ахматова, послал в ее комнату огромный букет цветов.
Встретившись в этом отеле, мы заговорили о наших далеких парижских воспоминаниях, о балетах Дягилева и, конечно, о художнике Амедео Модильяни, сделавшем с Ахматовой несколько портретных набросков в 1911 году и о котором она тоже интересно рассказала в журнале «Воздушные пути». Затем – о монпарнасских кофейнях, о ночных кабачках Монмартра и Латинского квартала, но вскоре незаметно оказались на Михайловской площади в Петербурге, в «Бродячей собаке» Пронина. Там Ахматова поведала мне, что название питерской улицы, на которой я жил и где Ахматова мне позировала, – Кирочная улица – было в месяцы осады Петербурга гитлеровской армией заменено другим именем, потому что слово «Кирочная» происходит от немецкого слова Kirche (церковь). На этой улице действительно находилась немецкая церковь при немецкой школе (Annenschule)…
Я пригласил Ахматову приехать ко мне к обеду на следующий день с Аней Каминской и с американской студенткой. Ахматова сразу же согласилась, и суббота 19 июня останется для меня одним из незабываемых дней. В рабочем кабинете и в библиотеке, на стенах – мои портреты Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Казимира Малевича, Алексея Толстого, Никиты Балиева, Леонида Андреева (1911), Валерия Инкижинова, а также – гуашный портрет Ахматовой, знакомый ей лишь по фотографиям, так как он был закончен мною уже в Париже.
– Мне кажется, что я вернулась в мою молодость, – прошептала Ахматова, оглядываясь на эти рисунки.
– Мне тоже, потому что вы здесь, – ответил я…
21 июня, в 11 часов утра Ахматова и Каминская уезжали в Москву, с Северного вокзала. Я приехал туда проводить их, Аня и Аманда сидели на перроне, что-то записывая друг другу. Я встретил там же художника Дмитрия Бушена, Сергея Эрнста и приехавшую из Америки Нину Берберову, с которой я не виделся уже многие годы.
Анна Ахматова была уже в купе спального вагона Париж – Москва. Она сказала мне, что утром, вследствие усталости и сильных душевных волнений, у нее начались боли в груди и что ей пришлось принять специальные пилюли, но что теперь все уладилось и она чувствует себя хорошо. Я спросил, какое у нее осталось впечатление от этого почти трехнедельного пребывания за границей. Ахматова сказала, что она никак не ожидала такого радушного, такого теплого приема со стороны всех, кого она встречала и с кем ей удалось беседовать, и что она никогда не забудет этого путешествия. Мы трижды поцеловались.
Когда поезд тронулся, Ахматова и Аня, стоя у открытого окна вагона, очень ласково махали нам руками до тех пор, пока вагон не скрылся.
Велимир Хлебников
Я избрал цвет для гласных букв:
А – черная, Е – белое, И – красное,
О – голубое, У – зеленое.
Я установил форму и движение
для каждой согласной буквы…
Я писал молчания, я запечатлевал необъяснимое.
Артюр Рембо
Существительное и глагол совпадают, первое с краской, второе – с линией.
Александр Блок
Соотношение сил, управляющих творчеством,
как бы становится на голову.
Первенство получает не человек
и состояние его души, которому
он ищет выражения, а язык, которым
он хочет его выразить. Язык, родина
и вместилище красоты и смысла,
сам начинает думать и говорить за человека
и весь становится музыкой.
Борис Пастернак
Пишу исключительно по слуху…
Словотворчество есть хождение по следу
слуха народного, хождение по слуху.
Все же остальное – не подлинное искусство,
а литература.
Марина Цветаева

Велимир Хлебников
Велимир Хлебников был подлинным и чистым артистом слова, который отказывался придавать слову документальный, объяснительный, практический смысл. «Желание умно – а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение», – писал он. Мы находим у Хлебникова его собственную и неоспоримую правду творчества, отрицающую всякий компромисс и всякую зависимость, которые художник может иметь с реальностью.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеятельствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных
смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!
Смейно, смейно,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Эти одиннадцать строк, озаглавленные «Заклятие смехом», написанные в 1908 году, сделали их автора в русских литературных кругах знаменитым.
С тех пор прошло более полувека. Было бы неразумным пренебречь этой очевидностью. Позже, в 1919 году, Хлебников утверждал, что в этой короткой поэме «были узлы будущего – малый выход бога огня и его веселый плеск. Когда я замечал, – продолжал Хлебников, – как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества – будущее. Оттуда дует ветер богов слова».
Известный языковед и профессор филологии Жирмунский говорил своим ученикам: «Первые восемнадцать языков очень трудно изучить, но зато потом все остальные языки сами входят в рот».
В свое время, под влиянием моих разговоров с поэтом Балтрушайтисом (литовского происхождения), я очень интересовался фонетикой литовского языка, признанного одним из самых древних живых языков, унаследовавшим это преимущество непосредственно от санскритских корней. Литовский язык открывал доисторическую страницу в культуре индоевропейских народов. Сопоставления и сравнения языковых звучаний уводят филолога к единому первоисточнику человеческой речи.
«Увидя, что корни слов лишь призраки, – писал Хлебников, – за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, – мое отношение к азбуке. Путь к мировому заумному языку… вне быта и жизненных польз».
Это сближает нас с воззрениями сегодняшней литературной школы, получившей название «леттризм» (по-русски – буквенность), которая объявляет, что «геометрическая основа суммы согласных и гласных, сведенная к линейной красоте, содержит международную азбуку поэзии» и что, следовательно, поэзия «леттристов» становится «не только французской поэзией, но поэзией мировой» (поэт Изидор Изу).
Французский драматург и поэт, мой друг Жак Одиберти опубликовал в 1950 году:
Brother woman
noch ein mal einmal a woman
sur un lit for the ficamento
for thy red and black business
ploum, ploum night! Stars! God!
mon petit monsieur God.
Une gonzesse sur un plumard
noch ein mal for ever
l’êtê comme l’hiver
ploum ploum!..[37]37
Стихотворение состоит из разноязычных (английских, французских, немецких) слов. В буквальном переводе выглядит так:
Брат женщинаеще раз разженщинана постелидля совокуплениядля Твоего красногои черного делаплюм, плюм ночь!Звезды! Бог!мой маленькийгосподин Бог.Женщина на перинееще раз навсегдалетом как зимойплюм плюм!..
[Закрыть]
Саrо[38]38
Дорогой (итал.).
[Закрыть] Audiberti! Это действительно sehr schon![39]39
Очень хорошо (нем.).
[Закрыть] Однако, несмотря на очевидную попытку «омеждународить» поэзию, это стихотворение не имеет ничего общего ни с «заумным мировым языком» Хлебникова, ни с «мировой» поэзией Изидора Изу.
Велимир Хлебников, мой близкий товарищ, был по сравнению с другими поэтами странен, неотразим и патологически молчалив. Иногда у меня – в Петербурге или в Куоккале – мы проводили длинные бессонные ночи, не произнеся ни одного слова. Забившись в кресло, похожий на цаплю, Хлебников пристально смотрел на меня, я отвечал ему тем же. Было нечто гипнотизирующее в этом напряженном молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника. Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности – курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом об искусстве, но иногда и на более широкие темы, до политики включительно. Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его.
– Не прерывайте меня, – произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, – поболтаем еще немного. Пожалуйста!
Время от времени наш бессловесный диалог превращался даже в спор, полный грозовой немоты, и окончился как-то раз, около пяти часов утра, подлинной немой ссорой. Хлебников выпрямился, вскочил с кресла и, взглянув на меня с ненавистью, сделал несколько шагов к двери. В качестве хозяина дома, вспомнив долг гостеприимства, я взял Хлебникова за плечо:
– Куда вы бежите в такой час, Велимир?
– Бегу! – оборвал он, упорствуя, но, придя в себя, снова утонул в кресле и в немоте.
Минут двадцать спустя, молчаливо, мы помирились.
Возможно, что бессловесные разговоры, часто весьма интересные и глубоко содержательные, лежали у Хлебникова в основе его языка, который он называл «заумным» и который оформился в его поэзии. Трансцендентальные слова Хлебникова были чрезвычайно образны:
Трепетва Плещва Будязь
Зарошь Студошь Лепетва
Умнязь Жриязь Мокошь
Дышва Желва Вылязь
Пенязь Жарошь Нежва
Помирва Храмязь Темошь
Варошь Плаква Новязь
Вечазь Сухошь
Ла-ла сов! ли-ли соб!
Жун-жан – соб леле.
Соб леле! ла, ла, соб.
Жун-жан! жун-жан!
Эти отрывки Хлебникова относятся к 1912 году. Алексей Крученых, его спутник, знаменосец и порой водитель, напечатал в том же году:
Дыр, бул, щил
Убещур
Р, И, поэц…
Был ли это футуризм? Или дадаизм? Сюрреализм? Леттризм? Этот последний термин, впрочем, тогда еще не существовал. То были, как мы видели, «алфавитные струны», «крошки алфавита», «буквы». Николай Кульбин (умерший в 1917 году), военный врач, интереснейший художник и неутомимый проповедник артистического авангарда, исключительный персонаж в русской предреволюционной интеллектуальной богеме, прозванный «доктором от футуризма», написал в 1913 году «трактат» длиной в добрую страницу о «значении буквы» или – о «букве-мухе», как он сам любил говорить.

Жак Одиберти
– Я восхищаюсь ею, я восхищаюсь ими, этими мудрыми двухкрылыми! – восклицал он. – Смотрите на нее, смотрите на них: они перелетают от одного слова к другому, от одного языка к другому, такие точные, такие легкие! Оставьте их делать то, что они хотят!
Изидор Изу, сегодняшний «леттрист», «буквенник», старался доказать (в 1955 году), что Хлебников был просто-напросто «славянским футуристом, переводившим на свой язык буквы из поэм Маринетти». Здесь заключено неоспоримое недоразумение: «славянские футуристы» не были футуристами Маринетти. Термин «футуризм» мы не приняли в те годы как обозначение литературного направления или художественной школы. Этот термин нам понравился, и мы его приняли в его примитивном, переведенном на русский язык смысле: искусство «будущего», искусство, ищущее новых форм. Только и всего. В русской поэзии футуризм как движение, вытекавшее из итальянского футуризма, не существовал. Термин «футуризм» символизировал для нас лишь разрыв с пережитками и традициями, иными словами – скачок в будущее. Слово «футуризм» не обозначало для нас никакой программы, никакой определенной эстетики.
Больше того: идеологическая, эстетическая и структурная программа итальянского футуризма подняла в нас решительную оппозицию, и мы встретили Маринетти в России в 1914 году волною брани, главным автором которой был именно Велимир Хлебников с его нашумевшей листовкой «Против Маринетти!». Это, разумеется, не помешало нам принять Маринетти со «славянским гостеприимством», так как наши нападки доказывали прежде всего наш большой интерес к его личности и к его артистической индивидуальности. Я очень хорошо помню две или три ночи, проведенные в компании с моими друзьями, русскими поэтами и художниками, футуристами и нефутуристами, в подвале «Бродячей собаки» (наш тогдашний петербургский главный штаб) вместе с Маринетти, который до изнеможения читал нам по-французски (а не по-итальянски), иллюстративно жестикулируя, свою поэзию, достаточно изобразительную и настолько звукоподражательную, что ее можно было понимать без переводчика.
Ошибка Изидора Изу кроется здесь. Впрочем, по-нашему, Изу тоже футурист, в особенности когда читаешь его следующие строки: «В его произведениях замечается, – говорит он о самом себе, – устрашающее лицо его неизвестного Искусства… Только время или – иначе говоря – только порыв новых поколений в поисках неиспользованных путей – сделает однажды молодого чужестранца Изу столь же значительным, как сегодняшний Пикассо».
Споры, определения, теории…
«Что хочет сказать определение? Оно не говорит ничего… Нужно жить жизнью произведения искусства, а не определять. Поэзия не имеет ничего общего с определениями, даже эстетическими. Пикассо никогда не мог объяснить кубизм. Он его создал, он его прожил» (слова французского писателя Макса Жакоба).
В 1916 (!) году Жан Кокто писал:
Эо из ию иэ
Э э иэ ио иэ
Юи юи ио иэ
Аэоэ иаоэ
Оя у аоэ…
Но за два года до этого, в 1914 году, Хлебников опубликовал в «Изборнике» следующие строки:
Ио, иа, цолк,
Ио, иа, цолк.
Пиц, пац, пацу,
Пиц, пац, паца,
Ио иа цолк, ио иа цолк…
Впрочем, не желая быть пристрастным, я приведу выдержки из книги И.Сахарова, вышедшей сто двадцать девять лет тому назад: «Сказания русскага народа» (СПБ., 1836). Вот – из «Песни ведьм на Лысой горе»:
А.а.а. – о.о.о. – и.и.и. – э.э.э. – у.у.у. – е.е.е.
ио, иа – о – ио, иа, цок, ио, иа,
паццо! ио, иа, пипаццо!..
Литературные корни Хлебникова восходят также в известной степени к поэзии Николая Языкова (1803–1846).
В 1945 году мы читали у Изидора Изу:
Жамбалеээ
Ньюфлейофах о лефа
Жааахеээ
Жеуфха вахеээ…
И – у Сахарова, на сто девять лет раньше:
Эшохомо, лаваса, шиббода
Зоокатема, зоосуома
Чикодам, викгаза…
В 1919 году Хлебников писал: «В учении о слове я имею частые беседы с – Лейбница… В последнее время перешел к числовому письму, как художник числа вечной головы вселенной, так, как я ее вижу, и оттуда, откуда ее вижу».
И – Изидор Изу, в 1950 (!) году: «Следует использовать числа, которые могут немедленно влиться в буквенные объединения… Благодаря введению чисел в гамму можно точно вписать новую звучность… Буквы вызвали во мне страх, когда идеальная алгебра туберкулезным кашлем обрушивалась на меня:
арв зеФ БРу нд
1—7—г (абв) =
и 12–15–др. гаи! —»
В целом: следует ли говорить о плагиате? Нет. Тем более что сам Изидор Изу нас заверяет, что «типы, как Пикассо, Малларме и т. д., то есть – подлинные творцы, никогда не плагиируются, ими заражаются и продолжают их искания».
Хлебникова, являющегося для многих из нас «подлинным творцом» (если оставить в стороне выдержку из книги И.Сахарова), никто, следовательно, не плагиирует: за ним почтительно идут вслед. Вот почему я вполне уважаю «леттристов»: они являются сотрудниками Хлебникова, но не его плагиаторами. Когда в январе 1960 года я присутствовал в Париже на вечере «авангардной поэзии», я был глубоко тронут выступлениями «леттристов», читавших, каждый в отдельности или хором, свои произведения. Как и следовало ожидать, раздавались иногда издевательские взрывы смеха и даже неразборчивые крики возмущения. Но для меня в этой поэзии не было ничего «уже прожитого», ни абсурдного. Я почувствовал возрождение поэтических исканий времени моей юности, исканий, удушенных коммунистической революцией (или, вернее, реакцией). И термин «возрождение» отнюдь не является в данном случае порицательным.
Правда, через тридцать лет после смерти Хлебникова Изидор Изу, сравнивая свои «великолепные и стопроцентно леттристские» стихи с произведениями покойного поэта, заявил, что Хлебников «пользовался заумным языком только здесь или там (и как мало!), мешая его с нормальной речью». Что поделаешь? Легендарный Икар приклеил к себе воском крылья, но во время полета солнце растопило воск, крылья отклеились, и героический Икар утонул в море. Леонардо да Винчи построил аэроплан, который никогда не полетел. Блерио перелетел через Ла-Манш. Линдберг – впервые через Атлантический океан. Теперь на авионах катаются все кому угодно, как когда-то катались на извозчиках. Но никакой Гагарин (если он действительно совершил свой полет), никакой Сепар или Гриссом не загасят значения и славы Блерио или Линдберга: закон хронологии, глаз Истории.
Полемика в данном случае была бы бесполезна. И так как здесь упоминалась алгебра, то я приведу слова известного теоретика и историка абстрактного искусства, голландца Мишеля Сефора:
«Алгебра нападает на геометрию; геометрия объявляет алгебру вне закона. Однако я люблю алгебру, и я люблю геометрию. И первая не ревнует меня ко второй. Но я ненавижу подражателей, маленьких, крикливых эпигонов, претендующих на то, что это они все изобрели…»
Алфавит, буквы, графика, звуки, даты, цифры… «Новое искусство признает только поэмы, состоящие из букв», – заявляет тот же Изу, как бы вспомнив слова Кульбина. В 1923 году французский стихотворец Робер Деснос писал:
Энергии эмаль
Эмали энергия
Эмаль энергии
Энергия эм
Н М
М Н
М Н
Н М
Но понятие «новое искусство» очень растяжимо. Александр Пушкин, едва достигнув пятнадцатилетнего возраста, написал уже в 1814 году (за двадцать два года до выхода в свет упомянутой здесь книги И.Сахарова) по-французски крохотную шуточную пьеску, герои которой произносят большие буквы алфавита в строгом алфавитном порядке. Вот один отрывок:
И так – до буквы Z. Произносить это надо следующим образом:
Eno (а Pecu): Abbe, cedez!
Pêcu (mêditatif): E… ef…
Eno (coupant net): J’ai hache!
Ijêkaêlle (se jetant au cou d’Eno): IjIjêkaêlle aime Eno!
Eno (trioinphant): Pêcu est restê![41]41
Эно (Пекю).
Аббат, уступите!
Пекю (задумчиво).
Э... эф...
Эно (резко).
У меня секира!
Икаэль (бросаясь на шею Эно).
Икаэль любит Эно!
Эно (торжествующе).
Пекю остался с носом! (фр.)
[Закрыть]
И еще кое-что (чтобы закончить): я сохраняю в моем архиве «школьную тетрадь» Института Св. Алира в Клермон-Ферране, датированную 1906 годом и заключающую в себе следующее указание: «Каждый лист этой тетради содержит отметки за последние две недели:
а, ае, е, еи, и, ио, о, у.
Примечание: а = очень хорошо
ае = почти очень хорошо
е = хорошо
еи = довольно хорошо
и = удовлетворительно
ио = почти удовлетворительно
о = посредственно
у = плохо».
Это, конечно, более внимательно, более снисходительно по отношению к ученикам, чем отмечать их усердие, как это делается обычно цифрами (единица, двойка, тройка и т. д.), которые, со слов Изидора Изу, представляют в «леттристском алфавите» следующее:
1 = опустошение
2 = издыхание
3 = зюзюканье
8 = храпенье
15 = пуканье
17 = плевок
18 = поцелуй…
В каждодневной жизни умозаключения Хлебникова бывали очень неожиданными. Однажды утром в Куоккале, войдя в комнату, где заночевал у меня Хлебников, я застал его еще в постели. Окинув взглядом комнату, я не увидел ни его пиджака, ни брюк и вообще никаких элементов его одежды и выразил свое удивление.
– Я запихнул их под кровать, чтобы они не запылились, – пояснил мой гость.
Я должен сознаться, что все комнаты моей дачи содержались в очень большой чистоте, и если нужно было искать пыль, то, пожалуй, только под кроватью. Это происшествие сильно взволновало мою молоденькую горничную Настю, ревнивую блюстительницу чистоты, питавшую нескрываемое презрение к «интеллигентам», этим «лодырям», приходившим ко мне спорить, греметь (за исключением Хлебникова) до зари и засыпать пол окурками и пеплом, несмотря на многочисленные пепельницы. Настино осуждение особенно укрепилось в ней поведением Маяковского, который высокомерно почти не замечал ее, а иногда заинтересовывался ею слишком демонстративно.
Завещание Велимира Хлебникова: «Заклинаю художников будущего вести точные дневники своего духа: смотреть на себя, как на небо, и вести точные записи восхода и захода звезд своего духа. В этой области у человечества есть лишь дневник Марии Башкирцевой – и больше ничего. Эта духовная нищета знаний о небе внутреннем – самая черная Фраунгферова черта современного человечества».
Застенчивый, нуждающийся анахорет, Хлебников скромно именовал себя Председателем Земного Шара.
Как-то у меня в Петербурге за обедом, воспользовавшись громкой болтовней и смехом гостей (их было человек двенадцать), Хлебников осторожно протянул руку к довольно далеко стоявшей от него тарелке с кильками, взял двумя пальцами одну из них за хвост и медленно проволок ее по скатерти до своей тарелки, оставив на скатерти влажную тропинку. Наступило общее молчание: все оглянулись на маневр Хлебникова.
– Почему же вы не попросили кого-нибудь придвинуть к вам тарелку с кильками? – спросил я у Хлебникова (конечно, без малейшего оттенка упрека).
– Нехоть тревожить, – произнес Председатель Земного Шара потухшим голосом.
Снова раздался общий хохот. Но лицо Хлебникова было безнадежно грустным.
Когда я делал портретный набросок с Хлебникова, он вдруг произнес:
– Странно: художник смотрит насквозь, а запечатлевает лишь внешние формы. Даже в беспредметном, в заумном искусстве. Границы стали уже прозрачными, но все еще не раздвинулись. Ведь краски, пятна, линии – это еще только материализация зауми. Дальше всего ушла музыка. Но она – тоже еще не заумь, а вспышки безумия… Когда-нибудь достукаемся…
Может быть…
«Вдохновение поэта (слова Хлебникова) – это путь и семена будущего».
Формула, бесспорно, правильная. Безымянный поэт, затерявшийся в веках, создал однажды образ ангела, крылатого человека. Этот образ, этот миф пережил тысячелетия, дышал тысячелетиями, пока не появились братья Райт, летающие люди. Но если бы анонимный автор ангелов воскрес в наши дни, то, узнав о существовании авиации, и даже авиации межпланетной, он несомненно испытал бы такой же ребячески-эгоцентрический восторг, какой вспыхнул в Хлебникове перед некоторыми особенностями советского режима (убившего поэзию).
– Эр Эс Эф Эс Эр, че-ка! Нар ком, ахрр! Это же заумный язык, это же – моя фонетика, мои фонемы! Это – памятник Хлебникову! – восклицал он, переполненный радостью.
Реальность, увы, как и всегда, была значительно более прозаичной, чем воображение поэта. Какая судьба могла ожидать Хлебникова в советской России, где все организовывалось для того, чтобы однажды советский президент Академии художеств А.М.Герасимов, вождь бездарностей и пошлятины, смог объявить, что «по счастью, все книги, противоречащие социалистическому реализму, изъяты из книжных магазинов и библиотек СССР»?
Нищим, бездомным бродягой, покрывая усталыми шагами русские версты, Хлебников добрался до смерти в какой-то затерянной деревушке, убитый голодом и истощением. В 1922 году. В тридцатисемилетнем возрасте. Материалистическая революция отказалась его приютить и подкармливать: он был слишком большой и неисправимый мечтатель.
Владимир Маяковский опубликовал тогда следующее признание: «Я считаю своим долгом написать черным по белому, от моего имени и – я нисколько не сомневаюсь – от имени всех моих друзей поэтов, что мы считали и считаем Хлебникова одним из наших поэтических предшественников, искреннейшим и твердым борцом в битве, которую ведет современная поэзия».
И – наш общий друг, Виктор Шкловский, глашатай русского футуризма, «формализма» и вообще обновления искусства: «Наш великий писатель, заруганный, не прочтенный, но признанный лучшими, творец нового сюжета, создатель нового стиха… Хлебников признан немногими, но среди признавших есть почти все поэты».
Это верно. В 1918–1920 годах Александр Блок несколько раз говорил со мной о поэзии Хлебникова. Все отзывы Блока были очень лестными. И если в 1914 году Блок написал в стихотворении «День проходил, как всегда»:
Хлебников и Маяковский
Надбавили цену на книги,
Так что приказчик у Вольфа
Не мог их продать без улыбки, —
то уже во втором издании эти четыре строки были Блоком опущены. Блок говорил, что поэзию Хлебникова недостаточно только читать: ее следует изучать. И разве побывавший в Париже в 1963 году (то есть более сорока лет после смерти Хлебникова) поэт Андрей Вознесенский не сказал в беседе с французскими журналистами, что считает своими учителями Маяковского, Блока, Пастернака и Хлебникова, подчеркнув, что «без Хлебникова нельзя в наше время писать стихи».