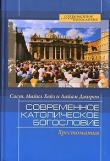Текст книги "Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1"
Автор книги: Ярослав Пеликан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Но, судя по указанию Иринея на Евхаристию как на «не обыкновенный хлеб», это учение о реальном присутствии, в которое Церковь верила и которое утверждала своей литургией, тесно связывалось с идеей Евхаристии как жертвы. Во многих приведенных нами цитатах, где речь идет о воспоминании и реальном присутствии, говорится и о жертве, как, например, у Иустина: в нескольких довольно туманных местах он сравнивает жертву в иудаизме с жертвой, приносимой в «воспоминание во время принятия сухой и жидкой пищи» христианской Евхаристии. Среди доникейских богословов одно из самых пространных и ясных толкований Евхаристии как жертвы принадлежит Киприану, который является также одним из самых ранних авторитетов в истолковании церковного служения как служения священнического. В ходе дискуссии по литургическим проблемам Киприан сформулировал аксиому: «Если Господь и Бог наш Иисус Христос есть сам верховный священник Бога Отца, если Он первый принес Самого Себя в жертву Отцу и заповедал сие творить в Его воспоминание, то очевидно, что только тот священник есть истинный преемник Христов в служении, который подражает в священнодействии Христу, и только тогда он приносит полную и совершенную жертву Богу Отцу в Церкви, когда приносит ее так, как приносил Сам Христос». Это основывалось на убеждении, что «страсти Господни – это жертва, которую приносим мы». Жертва Христова на Голгофе была совершенной; жертва Евхаристии ничего не добавляет к ней и не «повторяет» ее, как если бы было больше, чем одна жертва. Но как в случае с жертвой Мелхиседека священник служил «прообразом таинства жертвы Господней», так и евхаристическая жертва Церкви совершается «в воспоминание» жертвы Страстной Пятницы и «в священнодействии с законным освящением». Из других мест, посвященных литургическим вопросам, также ясно, что для Киприана уместно говорить о «жертве» применительно к Евхаристии; однако он настаивал и на том, что «жертва сокрушенного духа» является «жертвой Богу равно драгоценной и славной».
Другим важным аспектом евхаристического учения была вера в то, что участие в Трапезе Господней готовит причастника к бессмертию. В данном случае самым известным, наверное, является утверждение Игнатия, который говорил, что хлеб Евхаристии есть «врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь в Иисусе Христе». Ставшие предметом споров слова Иустина о том, что в Евхаристии происходит «преложение [μεταβολή]», возможно, означали либо изменение элементов при их освящении, либо преображение человеческого тела благодаря дару бессмертия, либо и то и другое вместе. Ириней проводил явную параллель между этими двумя трансформациями, когда заявлял, что тела, принявшие Евхаристию, уже больше не являются тленными, как и хлеб, получивший освящение, уже больше не обыкновенный хлеб. С другой стороны, совсем не очевидно, что каждый отзвук этой темы является прямой ссылкой на Евхаристию. Когда Климент Александрийский говорит о «лекарстве бессмертия» как «преславном», в его словах не слышно какого-либо евхаристического оттенка. И когда Ориген, трактуя прошения Молитвы Господней о «хлебе насущном [6 άρτος 6 επιούσιος]», определял его как хлеб, «который наиболее приспособлен к разумной природе и сродни самому его [человека] существу, принося душе здоровье, благоденствие и силу и давая вкушающему его долю своего собственного бессмертия», совсем не очевидно, что он говорил о последствиях вкушения евхаристического хлеба. Не исключено, что его дополнительный комментарий – «Логос Божий бессмертен» – служит объяснением его слов о бессмертии через «сверхсущностный хлеб» и многих способов выражения идеи жертвы у таких авторов, как Иустин, ибо обе темы, в конечном счете, проистекали из учения о том, что Христос Логос есть истинная жертва и истинный дар бессмертия.
Более того, обе темы предполагали учения Церкви и ее литургическую практику. Литургические свидетельства говорят о понимании Евхаристии как жертвы, отношение которой к жертвам Ветхого Завета является отношением прообраза к образу, а отношение к Голгофской жертве – «репрезентацией», как и хлеб Евхаристии; «репрезентирует» тело Христово. Представляется также, что спиритуализация материальной реальности в богословии Климента Александрийского и Оригена заходила довольно далеко, хотя и не приводила к гностической ереси; поэтому их неевхаристическое употребление таких евхаристических понятий, как «лекарство бессмертия» и «хлеб, дающий бессмертие», говорит о том, насколько важными были эти понятия в учении, находящем выражение в литургии и благочестии Церкви. Они спиритуализировали то, что, по-видимому, служило распространенными способами выражения смысла Вечери Господней. Эти способы выражения, присутствующие во многих разрозненных фрагментах сохранившихся текстов, более важны для развития церковного вероучения, нежели примеры спиритуализации, по отношению к ним вторичные. Нужно было проделать большую богословскую работу, прежде чем эти способы выражения обрели свое место в евхаристическом богословии; и прежде всего необходимо было внести ясность в учение о личности Христа, чтобы появились понятия, которые смогли бы выдержать смысловую нагрузку евхаристического учения. Но, даже пользуясь понятиями, которые с трудом выдерживали эту нагрузку, Церковь продолжала совершать богослужения и верить, учить и экспериментировать с метафорами, защищаться и исповедовать. В своем вероучении, как и в своей литургии, она вспоминала Того, Кто присутствовал в ее богослужении, и в своем совокупном опыте она была соединена с той жертвой, благодаря которой обетование вечной жизни стало реальностью.
По многим причинам неуместно говорить о других «таинствах», имея в виду учение доникейской Церкви, – за исключением покаяния (о его развитии в эти столетия мы кратко говорили, касаясь свойства святости в учении о Церкви) и, возможно, рукоположенного священства, незаменимость которого в качестве необходимого условия совершения законной Евхаристии помогла придать ему сакраментальный статус. И только после конфликта между Августином и донатистами западное богословие смогло начать построение полноценной теории о природе и числе таинств, и только в Средние века такая теория была разработана. Но первые века в развитии вероучения имели своей задачей прояснить функцию Церкви как средства благодати; это прояснение являлось необходимым условием для понимания слова Божия и таинств.
4. Тайна Троицы
Вершиной в развитии вероучения в древней Церкви стал догмат о Троице. В этом догмате Церковь отстояла единобожие, бывшее предметом конфликтов с иудаизмом, и усвоила концепцию Логоса, по поводу чего спорила с язычеством. Связь между творением и искуплением – ее Церковь утверждала против Маркиона и других гностиков – нашла выражение в исповедании веры, касающемся отношения Отца к Сыну; составной частью вероисповедания стало и учение о Святом Духе, недостаточная разработанность которого обнаружилась в конфликте с монтанизмом. Учение, в которое верила, которому учила и которое исповедовала кафолическая Церковь П и Ш веков, также вело к Троице, так как посредством этого догмата христианство проводило границу, отделяющую его от языческого понимания сверхъестественного, и подтверждало свой характер как религии спасения.
Однако утверждение о связи никейского догмата о Троице с вероучением предшествующих веков может создать поверхностное впечатление, будто процесс протекал более гладко, чем свидетельствуют факты: формулирование и переформулирование этого догмата было вызвано вероучительными спорами такой остроты, какой Церковь еще не знала. Главный вопрос кратко выражен так: «Тождественно ли божественное, явившееся на земле и воссоединившее человека с Богом, тому высшему божественному, что правит небом и землей, или же это полубог?» Спор по этому вопросу занял почти все IV столетие. Главенствующую роль в нем играл Афанасий; он стал епископом Александрии и поборником ортодоксии в 328 году, через три года после Никейского собора, и умер в 373 году, лишь за восемь лет до Константинопольского собора. Однако, вместо того чтобы прослеживать историю этого спора в строго хронологическом порядке, мы сосредоточим внимание на вероучительных вопросах, противостоящих друг другу позициях и вероисповедных решениях. Такой подход позволит также исключить какие-либо ссылки, кроме самых кратких, на небогословские факторы этих споров; ибо иначе может создаваться впечатление, будто многие из этих факторов определяли итог споров, который потом отменялся под воздействием других, подобных, сил. Вероучение нередко представляли как жертву – или продукт – церковной политики и конфликта отдельных личностей. Изучая процесс формирования учения о Троице в его собственных категориях, мы не отрицаем важности подобных факторов, но лишь относим их к другой области исторического исследования.
Христос как божественный
Несмотря на разнообразие метафор, с помощью которых христиане выражали смысл спасения, все они разделяли убеждение в том, что спасение совершил не кто иной, как Господь неба и земли. Несмотря на все многообразие реакций на гностические системы, христиане были уверены, что Искупитель не принадлежит к какому-то более низкому порядку божественной реальности, но является Самим Богом. Самая древняя из сохранившихся проповедей христианской Церкви после Нового Завета начинается словами: «Братья! Об Иисусе Христе вы должны помышлять как о Боге и судье живых и мертвых, так как и о своем спасении мы не должны думать мало; ибо если мы мало думаем о Нем, то и получить надеемся мало». Самый древний из дошедших до нас рассказов о смерти христианского мученика содержит утверждение: «Мы никогда не сможем ни оставить Христа… ни почитать кого-либо другого. Ибо мы поклоняемся Ему как Сыну Божию: а мучеников… достойно любим». В древнейшем сохранившемся языческом сообщении о Церкви про христиан говорится, что они собирались до рассвета и «воспевали Христа как бога». Самая древняя известная литургическая молитва Церкви обращена ко Христу: «Господи, приди!». Ясно, что весть Церкви о том, во что она верит и чему учит, как раз в этом и заключалась: именно «Бог» есть имя, приличествующее Иисусу Христу. Но для того чтобы эти вера и учение приняли форму исповедания Троицы и догмата о лице Христа, потребовались столетия уточнений и споров, так как необходимо было определить, как эта вера соотносится с христианским учением в его полном объеме. Ибо Тот, Кого Церковь называла Богом, был также и Тем, чьи страдания и смерть на кресте стали бременем церковного свидетельства, как показывает сам контекст некоторых приведенных цитат. Утверждение, что Тот, кто был Богом, пострадал, вызвало первые доктринальные споры в Церкви. Выступая от имени языческих критиков Евангелия, Цельс сделал это утверждение объектом своих нападок, заявляя, что «тело бога не могло ни родиться… [ни] насыщаться пищей». Маркиониты, приводя слова «подобие плоти греховной» из Рим 8:3, выступали против образа Христа как человека с материальным, подверженным страданию телом; симонианский гностицизм учил, что Симон «показался пострадавшим в Иудее, хотя он не страдал»; для Птолемея Спаситель «пребыл не причастным страданию»; а гностические евангелия старались поставить преграду между личностью Спасителя и болью и страданием, описанными в канонических Евангелиях. Однако исторический принцип, в соответствии с которым разделительную черту между ортодоксией и ересью не следует проводить преждевременно или слишком определенно, подтверждается свидетельствами о том, что подобный докетизм был свойствен не только гностикам и другим еретикам: он имел достаточное распространение и в церквах, что побуждало раннехристианских авторов неоднократно выступать с предостережениями. Хотя откровенное утверждение, что «Он страдал только призрачно», принадлежало учению гностиков и было довольно быстро и легко опознано как еретическое, пример Климента Александрийского показывает: докетическое мышление, даже среди ортодоксальных верующих, следует рассматривать в качестве одного из способов «думать об Иисусе Христе как о Боге». То, что в данном случае ради такого исповедания слишком многое приносилось в жертву, понимал, прежде всего, Игнатий. Он настаивал на том, что Христос «истинно родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно был распят и умер… истинно воскрес из мертвых». И все же само существование докетизма является также и свидетельством стойкости убеждения, что Христос должен быть Богом, даже ценой отвержения Его истинной человечности.
Постановка проблем, вскрытых докетизмом, была несколько преждевременной, так как для обсуждения более тонких и более глубоких аспектов этих проблем требовалось создание столь же утонченной христологической терминологии. Нужно было также сначала прояснить более важный вопрос об отношении божественного во Христе не к Его земной жизни, а к божественному в Отце. В формулировке Афанасия: «Возможно ли, чтобы, совершенно не познав преискреннего и истинного рождения Сына от Отца, не имел он [человек] погрешительной мысли и о пришествии Сына во плоти?» Рассмотрение учения о Христе вносило ясность в тот способ, посредством которого Церковь мыслила и выражала в языке предыдущую проблему, а затем, с помощью того же самого языка, происходил возврат к вопросу о «двойном провозглашении» Христа – как Бога и как человека.
Благодаря христианским усилиям раскрыть библейские основания и богословское содержание учения о том, что Христос есть Бог, былиобнаружены по крайней мере четыре группы ветхозаветных пассажей, говорящих, при надлежащей интерпретации и в сочетании с соответствующими новозаветными пассажами, о божественности Христа. Это пассажи об усыновлении, в которых при указании на некий момент во времени, когда Он становится божественным, подразумевается, что статус Бога был сообщен человеку Иисусу Христу в крещении или в воскресении; это пассажи о тождестве, в которых, при упоминании о Яхве как о «Господе», утверждается простая тождественность Христа с Богом; это пассажи о различии, в которых говорится об одном «Господе» и о другом «Господе» и так обозначается некая разница между ними; и это пассажи о происхождении, в которых об Отце говорится как о «большем» или же используются такие именования, как ангел, Дух, Логос и Сын, и предполагается, что Он «пришел от» Бога и был в некотором смысле меньше Бога.
Первая группа библейских пассажей являлась основой того, что Гарнак определил как адопционистскую христологию: «Иисус считается человеком, которого Бог избрал для Себя, в котором обитает Божество или Дух Божий, и кто после испытания был усыновлен Богом и наделен полнотой власти». Примечательно, что Гарнак добавляет: «До нас в полноте дошло только одно произведение, содержащее откровенно адопционистскую христологию: "Пастырь Ерма». Утверждение, будто содержащееся в «Пастыре» учение было адопционистским, трудно доказать или опровергнуть в силу путаного языка книги и по причине проблем литературного порядка, связанных с определением источников и структуры этого произведения. Такие новозаветные высказывания, как слова Петра в Деян 2:32–36, можно прочесть в духе адопционизма. Широко распространенный текст Нового Завета, засвидетельствованный различными рукописями, версиями и цитатами из ранних отцов, которые придерживались ортодоксии, передает слова, изошедшие из облака при крещении Иисуса, как «определение» из Псалма 2:7: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя»; именно таким образом прочитывали этот текст эвиониты в соответствии со своим учением об Иисусе как человеке, наделенном особыми силами Духа.
Очевидно, что и Павел Самосатский видел в крещении Иисуса решающее событие в Его божественном усыновлении. Хотя учение Павла невозможно реконструировать по сохранившимся фрагментам, судя по всему, он называл Иисуса «Христом» только после крещения, посредством которого Логос вселился в человека Иисуса через дарование Святого Духа. Он также «запретил употреблять песнопения в честь Господа нашего Иисуса Христа». Не вызывает сомнения смысл следующего сообщения: «Мысли его [Павла] о Христе ползали по земле и не могли над ней подняться; вопреки учению Церкви, он считал Его обыкновенным человеком»; равно как и то, что он учил «о земном происхождении Иисуса Христа». То есть союз Иисуса и Логоса здесь понят не онтологически; он подобен союзу христианина и «внутреннего человека» или ветхозаветного пророка и вдохновляющего его Духа. Павел излагает это учение более осторожно по сравнению с его ранними версиями. Если Феодота Сапожника осудили за учение, согласно которому «Христос был просто человеком», то Павел ввел в свои теории учение о Логосе и снабдил их более солидным экзегетическим обоснованием. В середине III века христианская ортодоксия еще не располагала богословской формулой, чтобы «думать об Иисусе Христе как о Боге», а тем более формулой, позволяющей описать отношение между божественным в Нем и Его земной жизнью. Но утверждение со стороны ортодоксии, что мысли Павла Самосатского «ползали по земле и не могли над ней подняться», говорит о том, что его учение о Христе в Его отношении к Богу было квалифицировано достаточно определенно.
Хотя сегодня адопционизм чаще называют «адопционистским монархианством» или «динамическим монархианством», обозначение «монархианин» было введено Тертуллианом для тех, кто, заявляя, что «отстаивает монархию» [единоначалие], защищал «монархию» Божества, подчеркивая тождество Сына с Отцом, но не указывая при этом с такой же точностью на различие между ними. Однако в том же трактате Тертуллиан признает, что «простецы… которые всегда составляют большую часть верующих… боятся домостроительства», то есть различия между Отцом и Сыном. По его мнению, даже ортодоксальные верующие могут говорить об отношениях в Троице, лишь акцентируя монархию в ущерб икономии. Это суждение подкрепляется источниками, особенно если учитывать так называемое «гимиологическое богословие общины, отличительной чертой которого является любовь к противоречию». У древнехристианских авторов многие фрагменты, звучащие как модалистское монархиансгво, напоминают отрывки из богослужебных текстов независимо от того, являются ли они цитатами из гимнов и литургий или нет. «Бесстрастный страдает и не грозит отмщением, Бессмертный умирает и не отвечает ни словом», – пишет Мелитон Сардийский; и в другом месте: «Представший Агнцем остается Пастырем». Почти такими же словами Игнатий славит «Невидимого, ставшего ради нас видимым, Бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего». Такие выражения, как «Бог родился», «страждущий Бог» или «мертвый Бог», стали настолько привычными в спонтанном языке христиан, что даже Тертуллиан, при всей его враждебности к монархианству, не мог избежать чего-то подобного.
Этому литургическому языку вторила экзегеза библейских пассажей о тождестве. Совершенное Христом спасение было деянием Бога, как сказано в Ис 63:9 (ЦОС): «ни ходатай, ни ангел, но Сам Господь» был Спасителем в простом и не конкретизированном смысле; будучи Господом, Христос есть Яхве. Расширение Пс 96:9 посредством «христианского мидраша», дающее чтение «Господь царствует с древа», толковалось в том смысле, что, вопреки иудеям, Господь уже пришел и царствует с креста и что, вопреки еретикам, Пришедший во Христе и царствующий с креста – не кто иной, как Сам Всевышний Бог. Даже употребляя в отношении Христа титулы «Бог» и «Господь» без какого-либо уточнения, христиане в то же время настаивали – и внутри общины, и перед лицом язычников и иудеев, – что через пришествие «Бога нашего» Иисуса Христа единство Бога не нарушается, а наоборот, утверждается. В деривативном, или метафорическом, смысле – что показывают такие места, как Пс 81:6, если их толковать в свете Ин 10:34, – слово «бог» может употребляться и в отношении тварных существ. Но когда Церковь применяла это слово ко Христу, она боролась «не за имя "Бог", его звучание или письменную форму, а за сущность которой это имя соответствует.
«В отношении исторического человеческого облика Христа» такие формулы были «понятными и, будучи истолкованы религиозно, даже разумными; однако и отрыве от исторического облика Иисуса Христа они звучали, как бормотание идиота». Можно сказать, что в литургическом употреблении и даже в качестве экзегетического приема простое отождествление Иисуса Христа с Богом имело определенный христианский смысл. Но возникали немалые трудности, когда это отождествление оказывалось перенесенным из области веры в область вероучения, и еще большие трудности – при его перенесении в область исповедания. Так можно говорить, когда падаешь на колени, чтобы помолиться, но гораздо труднее – когда стоишь и учишь или сидишь и пишешь. Это и проявилось в модалистском монархианстве, которое можно охарактеризовать как попытку наполнить язык благочестия богословием. Ссылаясь на библейские места, подобные вышеприведенным, и «используя лишь одну группу» этих мест, а именно те, где не проводится различия между Отцом и Сыном, монархиане-модалисты утверждали, что «существует одно-единственное Существо, именуемое Отцом и Сыном, не одно, произошедшее от другого, а само от себя, лишь называемое Отцом и Сыном в соответствии со сменой времен; и что этот Единый есть тот, кто являлся [патриархам], и подчинился рождению от девы, и обращался среди людей как человек. В силу того что он родился, он исповедовал себя Сыном перед теми, кто видел его, тогда как перед теми, кто был способен постичь, он не скрывал, что был Отцом». Таким образом защищались и единобожие, и божественность Христа, но не проводилось никакого различия между Отцом, Сыном и Святым Духом. Эта теория «полагает, что в ЕдиногоБога следует верить не иначе, как считая Отца, Сына и Святого Духа одним и тем же». Творение и спасение – дело одного и того же Бога, Который по способу и времени Своего явления может быть назван или Отцом, или Сыном, или Святым Духом.
В том виде, как его передают Ипполит и Тертуллиан, это учение об отношении между Христом и Богом оказывается систематизацией народной христианской веры. И получается, что она довольно наивна. Несколько более утонченная версия этого учения обнаруживается, если верить более поздним сообщениям, в богословии Савеллия, откуда она и получила свое общепринятое наименование: савеллианетво. О Савеллии сообщается, что он пошел дальше упрощенного языка Ноэта и Праксея, более точно обозначив последовательность явлений Отца, Сына и Святого Духа. «Что мы скажем? – цитирует Епифаний савеллиан. – У нас один Бот или три?» Если один, тогда слова Ис 44:6 относятся и к Христу: «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его, Господь воинств: "Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога"». Савеллий называл этого единого Бога «Сыноотцом [υίοπατωρ]». Связывая свое учение с представлением о Боге как свете и о Сыне Божием как сиянии, он, говорят, использовал образ солнца – одна сущность и три энергии (сообщающая свет, согревающая и астрологическая [σχήμα]) – в качестве аналогии для своего понимания Троицы. Приводится также такое его высказывание: «Поскольку "дары различны, но Дух один и тот же", то и Отец один и тот же, но раскрывается в Сыне и в Духе». Если это не вполне ясное сообщение верно, то понятие раскрытия или расширения является средством, позволяющим избежать очевидных недостатков в любой теории об отношении между Христом и Богом, не располагающей методом различения между ними.
Именно этот недостаток оказывался препятствием для всех, кто вел полемику со сторонниками вышеобозначенной позиции, от Тертуллиана и Ипполита до Епифания и Псевдо-Афанасия – автора «Четвертого слова против ариан». Основной пункт полемики сформулирован Тертуллианом: «Как будто невозможно, чтобы все Они были бы Одним таким образом, что все Они происходят от Одного при единстве Их сущности! Ведь так ничуть не менее сохраняется таинство домостроительства, которое располагает Единицу в Троицу, производя Трех – Отца, Сына и Святого Духа. И Трех не по положению, но по степени, не по сущности, но по форме, не по могуществу, но по виду». Или, говоря короче, Тертуллиан обвинял Праксея в том, что тот изгнал Утешителя и распял Отца. Эта попытка прояснить отношение между Христом и Богом потерпела неудачу там же, где ее потерпели сторонники плюралистического умозрения – Маркион и гностики: распятие и смерть Того, Кого именовали Богом.
Такое учение вступало в прямое противоречие с представлением о бесстрастии Бога. По словам Ипполита, Ноэт рассуждал так: «Я вынужден, поскольку признается один [Бог], представить этого Единого подверженным страданию. Ибо Христос был Богом и страдал ради нас. Сам являясь Отцом, чтобы Он мог спасти нас». Это, отвечал Ипполит, «безрассудное и дерзкое мнение – считать, что Отец Сам есть Христос, Сам Сын, что Он Сам родился, Сам страдал, Сам воскресил Себя». Доводя модалистскую позицию до ее неизбежных следствий, Тертуллиан утверждал, что монархиане, вопреки своим намерениям, кончили тем, что отделили одного Бога от другого, хотя и упраздняли различие между Отцом и Сыном; ибо «Тот, Кто воскресил Христа, воскресит и наши смертные тела; и Он, как Воскресивший, конечно же, должен быть Кем-то иным, нежели умершим и воскресшим Отцом, если [допустить, что] Христос, Который умер, есть Отец». Сразу за этим следует комментарий Тертуллиана: «Да смолкнет эта хула, да смолкнет. Будет достаточно назвать Христа, Сына Божия, умершим, [только] потому, что так написано». Довольно трудно было приписывать страдание и смерть Сыну Божию, и в отсутствие убедительного библейского свидетельства вполне логичным было от этого уклоняться; но без всяких оговорок приписывать их Божеству – это чистое богохульство. При этом подразумевалось также, что проклятие креста, которое от Отца пало на Сына вместо человечества, теперь распространится и на Самого Отца; ибо «как то, что позволено сказать о ком-нибудь, не будет хулой [то есть о Христе], так и то, что не позволено сказать, будет хулой, если это скажут [то есть об Отце]». Отец не мог участвовать в страданиях Сына.
В не менее прямое столкновение учение монархиан пришло с основным направлением христианской экзегезы. Ибо, хотя библейские пассажи о тождестве, такие как Ис 63:9, подразумевали, что «ни ходатай, ни ангел, а Сам Господь» совершил спасительное деяние посредством креста Христова, христианская экзегеза обращала особое внимание на ветхозаветные пассажи о различии, где один «Господь» отличается от другого «Господа» или постулируются какие-либо иные различения, которые, не отрицая уместности применения ко Христу таких именований, как «Господь» или даже «Бог», все-таки дают основание для уклонения от простого отождествления Отца с Сыном. Стих Быт 19:24 означал для Иустина, что должно быть какое-то различие между «Отцом и Господом всего» и «Господом», Которым был Христос, и, опять-таки, между «Господом, Который получил поручение», и «Господом, Который [остается] на небе». Для Иринея это означало, что ни Святой Дух, ни апостолы никогда не употребили бы имя «Господь» в отношении кого-либо, «кроме господствующего над всем Бога Отца и Его Сына, получившего от Отца Своего господство над всем созданием»; для Тертуллиана это место было доказательством различия, существующего между Отцом и Сыном. Иустин, Ириней и Тертуллиан – все они в той или иной степени связывали Быт 19:24 с Пс 109:1; в обоих местах подразумевается, что поскольку «Отец истинно есть Господь, и Сын истинно есть Господь, то справедливо Дух Святый обозначил Их наименованием Господа». Даже самое откровенное отождествление Христа с Богом в Новом Завете (Рим 9:5: «Бог, благословенный во веки» – место, которое Ноэт и Праксей приводили в поддержку монархианской позиции) на самом деле означало, что имя «Бог» можно по праву употреблять применительно ко Христу, но в то же время подразумевало, что есть и различие. Стала ли именно эта тенденция побудительным мотивом для составления так называемых «монархианских прологов» к Евангелиям или нет, но экзегеза монархиан с трудом согласовывалась с употреблением второго и третьего лица по отношению к Отцу, что характерно для слов Христа в Новом Завете и приписывается Христу в ортодоксальной интерпретации Ветхого Завета.
А поэтому, несмотря на попытки монархиан обосновать свою ортодоксию ссылками на язык христианского благочестия, предложенное ими разрешение проблемы было осуждено как ересь сначала единодушным вердиктом защитников ортодоксии (что примечательно, за исключением Зефирина, епископа Римского) и затем – официально такими инстанциями, как собор в Браге (VI в.), который постановил: «Если кто не исповедует, что Отец и Сын и Святой Дух суть три лица одной сущности, и добродетели, и могущества, как учит кафолическая и апостольская Церковь, но говорит, что [они] одно и единственное лицо, так что Отец есть то же, что Сын, и этот Один есть также Утешитель Дух, как говорили Савеллий и Присциллиан, да будет анафема». Однако сама дата этого собора показывает: хотя монархианскую позицию можно было предать анафеме, от вопроса, который она поднимала, и от интуиции, которую она выражала, не получалось отмахнуться столь же легко.
Последующие формы христологического мышления тоже нужно рассматривать как попытки соотнести Бога Иисуса Христа с крестом Иисуса Христа; ибо здесь стих Ис 63:9 снова понимался так, что «ни ходатай, ни ангел, а Сам Господь спас нас, и не смертью кого-то другого, и не вмешательством обычного человека, а Своей собственной кровью». И в теопасхитских спорах одним из принципиальных вопросов был уже поставленный здесь, так что тем, кто использовали литургическую формулу «Свят Бог, распятый за нас», приходилось защищаться от обвинения в возрождении савеллианской ереси. Монархианская позиция снова и по-разному возникала даже после своего осуждения. Ибо на протяжении всей христианской истории «людей часто осуждали за отрицание божественности Христа, но редко – за отрицание различия между Отцом и Сыном. Первое отрицание считалось антихристианским, второе же – лишь неразумным.
Наряду с монархианской гипотезой и во взаимодействии с ней и друг с другом развивались различные способы говорить о божественности Христа, опираясь на то, что мы назвали библейскими пассажами о происхождении. Последние стали затем ключом к православному пониманию как пассажей о тождестве, так и пассажей о различии. Одни именования, взятые из этих фрагментов, оказались неадекватными или вводящими в заблуждение и в конечном итоге исчезли из языка Церкви. Другим принадлежало будущее, особенно тем, что имели коннотации, близкие по смыслу к отвергнутым именованиям.