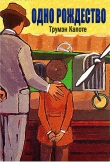Текст книги "Окаянные"
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
О неудавшемся дне и несбывшихся надеждах Верховцеву вспомнилось со злой иронией, когда ткнулся он с агентами в закрытые наглухо двери крепкого ещё добротного дома капитана Аркашина Николая Николаевича, как значилось в адресной записке, вручённой ему Осинским. Залаяла внутри изголодавшаяся собака, гремя цепью, а через некоторое время громкий визгливый женский голос из соседского двора остановил ломившихся в дверь Сивко и Снегурцова.
– Ну чего беситесь, шальные! Нет никого в доме. Увезли Дарью Ильиничну уже как два дня. И чего барабанят? Головы, что ли, нет? – вышла на улицу и сама грозная молодуха. – Ну чего надо? – сверкнула было она очами и смолкла, наткнувшись на хмурое лицо кожаного человека, явно начальника двух смутьянов.
– Куда увезли? – сдвинул Верховцев брови.
– В больницу… – опустила руки молодуха. – Куда ещё больных увозят…
– С чем?
– С тифом. С чем теперь-то ещё. А уж так не так, разберутся. Собаку вон, хожу кормлю. Тоже сдохнет.
– Тяжела хозяйка?
– Горела вся.
– И родни никого?
– Николай Николаевич в рейсе. Должен быть день на день возвратиться. Но на воде сами знаете как. Застал бы её живой.
– А где ж родня?
– Вдвоём они куковали. Вот в последний рейс она его и отпустила. Он уж и сам больной весь, но без парохода света белого не видит. Отпустила. А саму увезли… – Молодуха схватилась подолом за глаза. – Я приглядываю без её наказа, в горячке была, когда увозили. Ключи вот. – Она протянула связку. – Я туда боюсь ходить. Только во двор. К собаке.
– А ключи кто оставил?
– Так жила у Дарьи Ильиничны квартирантка, родственница не родственница, с ребёночком. А как хозяйку увезли, она ушла к знакомым.
– Что за знакомые? Фамилию называла?
– Фамилию?.. Нет. Из бывших учительниц вроде. Пожилая женщина. Софья Яковлевна, кажись.
– До революции ещё учительствовала? В женской гимназии?
– Да откуда ж мне знать? У Дарьи Ильиничны дома рояль или пианино – инструмент стоит, так она всё на нём играла и мальчика приучала. Слышала я, что мамаша успокаивала сыночка – у Софьи Яковлевны, мол, тоже есть инструмент.
– Какой от ворот? – принял Верховцев ключи.
– Вот, – ткнула молодуха.
– Держи, – высвободил он ключ и вручил ей. – Корми собаку. А мы завтра или на днях вернёмся. Посматривай тут. Чтоб никто не шастал. И запоминай. Если что, дашь знать.
– Да что ж я, городовой, что ли! – взвилась не стерпев та.
– Какой ещё городовой? Сдурела, баба!
– Охрану поставьте, раз надо.
– Сказал же, завтра сам буду.
– А мне, значит, до завтра не спать?
– Одна живёшь?
– Одна. А вы как угадали?
– По тебе видно. Тебе сторожа не надо. Если только от тебя кого сторожить, – хмыкнул Верховцев.
– Вам бы, мужикам, всё о своём, – осмелела та.
– Ну хватит, – пресёк Верховцев. – Ступай. – И, махнув рукой, позвал за собой агентов. – Я, кажется, предполагаю, кто эта Софья Яковлевна из бывшей женской гимназии, которая пригрела нужную нам дамочку с мальцом. Только надо будет уточнить у бывшего моего знакомого. Должен он знать, где она проживает.
Агенты, покуривая, наблюдавшие сцену переговоров командира и не без интереса разглядывавшие боевую молодуху, вытянулись, не дожидаясь команды.
– Снегурцов, вы всё-таки наведайтесь в ближайшие больницы. Их тут не так уж и много наберётся, – ткнул пальцем в грудь старшего Верховцев. – Выясните, что с женой капитана. Жива ли и, если жива, можно ли с ней работать. Я ясно объясняю?
– Так точно.
– Потом вернётесь к дому и подежурите до утра, пока вас не сменят. Соседке этой, говорунье, глаза не мыльте. Понятно?
– Так точно.
– Ну а мы с товарищем Сивко завершим наконец наши затянувшиеся поиски. Поплутать, конечно, придётся, но уверен, я вспомню тот дом.
И они разошлись на темневшей уже без единого фонаря пустой улице.
VII
Стук в дверь он едва различил. Увлёкся, засидевшись над рукописью под керосиновой лампой. Замешкавшись, смёл бумаги со стола, сунул их под матрац, спохватившись, выдрал, заметался по комнате и, наконец, смекнул: нашёл им место на полу под грязным ковриком у порога. Если пришли те, кого опасался, затопчут грязными сапогами коврик, а подымать его побрезгуют пачкаться. Что-то вроде довольной гримасы исказило его лицо. Когда он улыбался последний раз? Забыл. Испуг, владевший им всю эту суматоху, свалил на стул. Он медленно приходил в себя.
Словно прощаясь и досадуя, в дверь отбарабанили сильнее и громче. И он вздрогнул, вдруг отчётливо вспомнив тот стук – тайный знак из далёкого прошлого. Так умели стучать лишь десятка полтора человек из его знакомых. Но этого не могло быть, он точно знал – большинства в живых нет. Если и сумели спастись единицы, вестей от них не имелось. А значит, тот, за дверью, жив! Сумел уцелеть!
Дверь скрипнула под его рукой веселей, нежели шаркали подошвы заспешивших башмаков. Коснувшись крючка, словно одумавшись, одёрнул пальцы. И всё же, вопреки рассудку, произнёс:
– Кто?
– Исак Исаевич! Откройте. Это я.
Его узнали по голосу. Удивительно, он сам почти его забыл, не выходя на улицу, прячась в лачуге на окраине города и дожидаясь прихода соседки Нюрки, занимавшейся от безделья его незавидным хозяйством; если и разговаривал, то с Батоном, таким же доживавшим свой век котом, и с дворнягой, отзывавшейся на окрик "эй!", вечно пропадавшей со двора по ночам в поисках пропитания.
– Исак Исаевич! – решительнее позвал мужской голос, видно, на улице услышали его шаги.
Решившись, он толкнул дверь вперёд и едва не выронил лампу из рук – перед ним стоял тот, кого он давно похоронил в своей памяти.
– Корно!
– Исак Исаевич!
Ночной гость перешагнул порог и крепко обнял его; быть бы лампе на земле, не подхвати он ловко и её.
– Ты! Глебушка! Каким ветром?
– Уж и не думал. Барабаню, благо, соседей никого поблизости. Перебаламутил бы. Собрался уходить.
– Корно, дружок… Ты жив! Как я рад!
Приглядываясь в потёмках, один – улыбаясь во весь зубастый рот, второй – со слезами на впалых бледных щеках, они простояли, обнявшись, невесть сколько времени, теребя и поглаживая друг друга, словно не веря, что оба живы, пока гость, успокоившись первым, ни вымолвил:
– У меня там вещи. На улице. Исак Исаевич, вы позволите?
– Стыдись, Глебушка! Конечно. Ах, я старый дурак!
– Я быстренько.
– Вноси, вноси. Да что ж это? Один чемоданчик!
– Я – бедный странник, – отшутился гость. – Можно сказать, пилигрим.
– Располагайся. Вот сюда. – Хозяин пододвинул стул. – А я с перепугу… – Кинулся под коврик, выхватил бумаги, покружился, покружился, подыскивая им место и вернул на стол. – Вот. Пишу. И прячу для потомков. Пишу и прячу.
– От кого, Исак Исаевич? – Гость уже немоложавый, чувствовались в нём мужество, мощь испытавшего многое человека, интеллигентный, в пенсне и с бородкой клинышком, водрузил лампу на стол. – От кого? Нам ли с вами теперь что-то прятать? – Он помолчал, оглядывая комнату, поморщился от её убожества, твёрдо закончил: – И прятаться.
– Вот, – засуетился, потирая руки, хозяин, – здесь моё пристанище. Обрёл, так сказать, на старости лет. Но!.. Но не ропщу! – Петушась, он потянулся, встав на носки, но до глаз гостя было далеко; скис, изобразив подобие улыбки. – Угощать тебя, мой друг, нечем. Чаю если? Право, не знаю с чем. А ты раздевайся, раздевайся.
Мы сейчас что-нибудь придумаем. У меня там дровишки припрятаны на чёрный день. Печку раскочегарю, а пока присаживайся к столу. Я вот рядышком, на кровати пристроюсь. Ну?.. Как ты? Вижу, жив, здоров. А ведь здесь тебя похоронили. Я счастлив! Сколько лет прошло!..
– Ну прежде всего, Исак Исаевич, я давно уже не Корно. – Тесня бумаги и выкладывая на стол из расстёгнутого чемоданчика провизию, потёр бородку гость, снял пенсне, сунул, как мешавшую вещицу, в карман. – Сами понимаете, время, революция, война… впрочем, всё перечислять, до конца не добраться. Жизнь внесла коррективы. Зовите меня Глебом, как прежде, но теперь уже Романовичем. И фамилия моя Устинов, а не Кор-новский. Вот так. Ваш покорный слуга.
Заметив растерянность и недоумение в глазах старика, он усмехнулся, подмигнул заговорщицки:
– Впрочем, здесь кличьте, как вздумается, можете сразу и Корно, и Глебом.
– Глебушка…
– Пока мы вдвоём.
– Я уж по-прежнему.
– Не возражаю. Сообразим кипяточку. На столе вроде всё, чтобы поужинать. Я, признаться, нагулявшись у вас по городу, изрядно проголодался.
– У вас? Что я слышу!
Гость между тем скинул шляпу, лёгкое пальто; поискав глазами, бросил их на ящик, служивший хозяину чем-то вроде комода.
– Ты это зря, Глебушка. Зря. У меня к ночи сущая холодрыга.
– А мы разогреемся. – Выставил на стол бутылку коньяка гость.
– Коньяк! Неужели? Очарование! – старик задохнулся от аромата разливаемого прямо в чайные чашки напитка. – А мне ведь нельзя. Сердце. Приступ был.
– От сердца как раз верное средство, – поднял чашку гость и безапелляционно провозгласил тост: – За встречу!
Они выпили. Корновский, сразу опрокинув чашку и схватив первое, что подвернулось под руку, жадно начал закусывать; Исак Исаевич некоторое время принюхивался, закатив глаза, а прикоснувшись, уже мелкими глоточками пил, наслаждаясь.
– Да вы, право, гурман, Исак Исаевич. Раньше я не замечал.
– А были случаи? – не смутился старик, выбрав сыр, и нарезал его себе мелкими дольками.
– Да не скупитесь вы!
– Нет, милейший Глебушка, забыли мы как такую сладость кушать следует. Тут расточительность вредна. Тут аромат и вкус!..
– А это, значит, ваш манускрипт? – двумя пальцами подхватил листик рукописи с вороха бумаг Корновский и поднёс ближе к свету.
– Былое и думы… – гордо вскинул глаза Исак Исаевич, они у него величественно блеснули, коньяк или нахлынувшие чувства заискрились в них несвойственным огоньком.
– И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю[77]77
А. Пушкин, Воспоминание. Собрание сочинений в 10 томах, том 2.
[Закрыть], – произнёс с ухмылкой Корновский и, бросив лист на ворох бумаг, полез за портсигаром. – Я закурю?
– Что ты спрашиваешь? Конечно, мой друг! В этой берлоге наконец-то появится хоть запах былой цивилизации. – Кинулся хозяин убирать листки со стола и ставя вместо пепельницы пустую жестяную банку из-под керосина. – Это всего лишь мои скромные наброски. Мысли, так сказать, о пережитом и не воплотившимся.
– Неисполненном?
– Старческие философствования, Глебушка.
– Крестьянский социализм? Былое и думы, как у Герцена, вы сказали?
– Правильнее, наверное, былые думы. И ты ведь тоже когда-то… Чем мы бредили… И это здесь есть, и новое. – Старик прижал бумаги к груди.
– Чернов?
– А как же без Виктора Михайловича? Он у нас тогда путеводной звездой значился. С саратовского "Летучего листка" начиналось, это уж потом, в столице, Андрюша Аргунов[78]78
А. Аргунов – руководитель Северного союза социал-революционеров.
[Закрыть] в кружки всех объединил. «Земля и воля» – лозунг, сдвинувший сердца многих. «В борьбе обретёшь ты право своё!»[79]79
Девиз партии социал-революционеров (эсеров).
[Закрыть] – это же зовёт на большие патриотические подвиги!
– За границу удрал ваш Виктор Михайлович, – сбросил пепел в банку Корновский и плеснул себе коньяку, видя, что старик ещё возится с рукописью, не находя ей места.
– Тут они все у меня, – наконец решил тот спрятать бумаги в один из ящичков шкафа у стены; последних слов гостя старик явно не расслышал и продолжал так же велеречиво: – И Ключевский[80]80
В.О. Ключевский (1841–1911) – один из крупнейших российских историков, заслуженный профессор Московского университета, блестящий лектор, в 1905 г. участвовал в Комиссии по пересмотру законов и печати и в совещаниях по проекту учреждения Государственной думы и её полномочий.
[Закрыть], и Бердяев[81]81
Н.А. Бердяев (1874–1948) – русский религиозный и политический философ, был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, в 1904 г. примкнул к Союзу освобождения, при советской власти попал в тюрьму за свои взгляды, выслан за границу, в 1946 г. получил советское гражданство, но выехать на родину не успел, умер во Франции.
[Закрыть], и Ильин[82]82
И.А. Ильин (1885–1954) – русский философ, публицист и писатель, сторонник Белого движения и критик коммунистической власти в России, непримиримый борец с коммунизмом, в 1922 г. по приказу Ленина выслан из России на «философском пароходе» вместе с другими 160 видными философами, историками и экономистами, умер в Швейцарии.
[Закрыть]. Да, непохожие, разные. Но что ни голос, то колокол! И те, которых ты, Глебушка, переносить не мог, с которыми в своих молодых метаниях вечно спорил. И те, которых почитал и на кого молился.
– Тени прошлого!
– Великие пророки!
– Рукопись-то вы правильно прячете. – Отхлебнул коньяк Корновский и затянулся папироской. – Не время сейчас, и вообще появится ли в ней надобность?
– Что-что?
– Сжечь бы её от греха. Я, правда, мельком глянул, но уловил из ваших зажигательных суждений. Не время. Поберегите себя.
– А кому я вреден, Глебушка? Кому дорога или будет помниться моя жизнь, мои мысли, вот и ты меня уже осуждаешь…
– Что вы, Исак Исаевич, и не думал. Но сейчас неопасно только с девушками под ручку в парках и то разденут и разуют или надругаются, если жизни не лишат. Как тут у вас по ночам? Шалит шпана?
– Дома горят на окраинах, – тут же согласился старик. – А ночью постреливают.
– Вот. И я к вам с большой опаской пробирался, – выложил Корновский перед собой на стол браунинг.
– Беда! – отшатнулся от него собеседник и долго не отводил глаз.
– А вашего Ключевского спасла не спасла, в общем, уберегла от позорной кончины смерть после неудачной операции. Не слышали, наверное. Он в политику, по правде сказать, особенно не лез, но мнение на всё имел своё и не боялся озвучивать. Это он заявил, что в двадцатый наш век угодил случайно, по ошибке судьбы, позабывшей убрать его вовремя. Умнейшая, светлая голова!
– Гигант! Вот я о нём тоже в своих писаниях высказался…
– А Бердяева забудьте, его уже арестовывали несколько раз.
– Николая Александровича? Он же был в Союзе освобождения? И приговаривался к ссылке в Сибирь ещё в тринадцатом году!
– Не идеализируйте, Исак Исаевич. Бердяев всё больше философствовал по поводу мировоззрения революционной интеллигенции и к ссылке той приговорён за антиклерикальную статью. Читали его "Гасителей духа"? Так, кажется, она называется, я уж и не помню. В общем, в защиту монахов.
– Ну что ж, – не сдавался старик. – Мысли и демократическая философия некоторых передовых священников тоже сыграли значительную роль. Я как раз об этом не забыл упомянуть в своём труде. И ничего удивительного в том, что господин Бердяев арестовывался чекистами, не нахожу. Полагаю, это делает ему честь.
– Выдворили его за границу после того, как сам Дзержинский учинил допрос и предупредил господина Бердяева, если станет упорствовать или попытается возвратиться нелегально, будет расстрелян без суда и следствия.
– Принял мучения… – сник Исак Исаевич, осторожно поставил чашку с недопитым коньяком на краешек стола. – Ну что же. От злого, но, наверное, истинного пророчества – суд вершит победитель – не уйти. Это закон, вынужден согласиться, но и против Божьих законов восставать находятся смельчаки!
– Ильин ваш, Иван Александрович, с позором изгнан. Отплыв пароходом с сотней подобных ему сотоварищей, уже в Штеттине, наверное, шастает, а может, и в Берлине. Зарабатывает на антикоммунистических митингах, – сам с собой, уже не с собеседником, мрачно рассуждал Корновский, роясь пальцами, подыскивая в закуске подходящий кусочек съестного, слегка запьянев, гость не церемонился. – Но он может доиграться до серьёзных неприятностей. Товарищ Дзержинский – послушная смертоносная игрушка в руках Сталина. Ильина уберут в два счёта, достанут и за границей, если не утихомирится.
– Ты так близок с ним, Глебушка? – сжался на стуле старик. – С ними?
– Они – победители, вы же сами только что изрекли, – не взглянув на собеседника, окутался дымом папиросы Корновский. – Обанкротившихся игроков гонят от игрального стола.
– Ты к ним несправедлив, Глебушка.
– Думайте, как хотите, а мы с вами пригубим ещё и расскажите о себе. – Отхлебнув из чашки, он закинул ногу на ногу и глубоко затянулся папироской. – Как Евгения? Что Угаров? Где они? Что случилось? Я проторчал за углом их дома не один час, надеясь увидеть хоть одно знакомое лицо, но тщетно. Дом словно вымер. Она не в больнице? Где Угаров? Темнело, когда, потеряв терпение, я отправился искать вас.
– Жива Евгения…
– Писать мне она не могла… Некуда было писать. А весточку, записку со знакомыми?.. Не с кем!
– Дочка твоя жива, Глебушка. Правда, я её и сам не видел давно.
– Так что же?
– Пока жила с Угаровым, нужды не знала. Ребёночек у них. Мальчик. Уже большой, должно быть. – Старик запнулся, неуверенно глянул перед собой и тут же отвёл глаза.
– Продолжайте, не молчите, – махнул папироской Корновский.
– Но эти…
– Чекисты, хотели вы сказать? Можно. Я ж говорил, я для них свой.
– Для них?
– И для вас, Исак Исаевич, и для вас. Пусть это вас не волнует.
– А что ж ночью?.. Я, право, не знал, что думать…
– Не стоит беспокоиться. Так надо. Я тут у вас в городе неофициально. Чтоб зазря не будоражить местное начальство в гэпэу и власть.
– Вы?..
– Ну сколько нужно убеждать! – Корновский даже изобразил улыбку. – Для вас я прежний Глеб Корновский, если хотите. И никто более. Так что с Евгенией? То, что она расторгла брак с Угаровым, мне недавно стало известно. Собственно, этим, можно сказать, и объясняется мой визит сюда.
– Угарова инициатива! – вскинулся, опрокидывая посуду, старик. – Женечка была у меня. Бедняжка! Она думала обратиться к вам за помощью, коль уж вы сами ей рекомендовали его в женихи когда-то…
– Не совсем так.
– А я ей ничем не смог помочь.
– И что же?
– Они расстались, – смолк, но тут же вспыхнул старик. – Он бросил её в дикую пору с ребёнком на руках! Поступок непорядочного человека! Попросту выгнал из дома.
– Да-да… Это как раз тогда, когда Радек угодил в опалу впервые, – без эмоций, с пустыми глазами, буркнул Корновский, будто анализируя какие-то только ему известные события.
– Кто? Радек? При чём здесь Радек?
– Я был тогда с ним рядом.
– Вы с Радеком?
– А что вас так удивляет, Исак Исаевич? Радек сумел отвертеться, он в Коминтерне[83]83
Коминтерн – международная организация, объединившая коммунистические партии различных стран в 1919–1943 гг. Ленин назвал его союзом рабочих всего мира, стремящихся к советской власти во всех странах. Основан 04.09.1919 по инициативе РКП(б) и Ленина. Карл Радек после Февральской революции в 1917 г. в России стал членом заграничного представительства РСДРП, действовал как связной между руководством социалистических партий других стран, участвовал в подготовке вооружённого восстания и революции в Германии.
[Закрыть] и теперь не второе лицо.
– Я, право… У нас с газетами давно…
– Да что газеты?! Об этом никто никогда не напишет. Разве только тогда, когда открутят голову совсем!.. Мне с группой товарищей было поручено помогать Карлу Бернгардовичу организовывать восстание в декабре восемнадцатого года в Берлине. Но мы опоздали, сил и опыта не хватило. В январе девятнадцатого на Берлин были брошены правительственные войска, фрайкоров-цы. Это их Белое движение, сформированное из бойцов гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. Они были неудержимы. Силы неравны, арестовали лидеров восставших Карла Либкнехта и Розу Люксембург, тут же их подло убили без суда и следствия. Забили прикладами и застрелили те же сволочи из бойцов фрайкора. Разгром был полный. Радека схватили, и он оказался в Моабитской тюрьме, вы, конечно, ничего не слыхали об этом адском застенке, бежать оттуда не смог бы даже легендарный граф Монте-Кристо, но мы готовили побег. К счастью, обошлось, его освободили из-за недостаточности улик… мы старались…
– Кому же всё это известно?
– Вы удивительный человек, Исак Исаевич, – хмыкнул Корновский. – За такие разглагольствования я и сейчас могу лишиться головы от своих же друзей-товарищей.
– Вы доверяете мне такие секреты?
– Вам не поверят, даже если бы вы и решились. И потом, Исак Исаевич, вы неспособны на доносы. Нас столько связывает, и я вас так изучил!.. Вы – благородное сердце русской интеллигенции, не способное на подлости. Таких, как вы, единицы, если ещё уцелели.
– Я благодарю вас, Глеб Христофорович.
– Глеб Романович, – поправил, улыбнувшись, тот.
– Я благодарен за доверие. В наши времена это…
– Да полноте, Исак Исаевич, в этой дыре… К тому же вполне возможно, что тайное скоро может стать явью. Российский пролетариат активно поддерживал революцию у немцев в девятнадцатом, и сейчас наше правительство не скрывает этого. Я недавно из Германии, там ещё всё кипит, хотя тюрьмы переполнены недовольными, те, кто уцелел и на свободе, поражение врагу не простят и уже готовятся к новым сражениям. Немцы – народ упорный, я сумел убедиться, и, поверьте, они чем-то… наверное, неукротимым духом и стремлением к свободе, похожи на нас, русских. Мировой пролетариат тоже на их стороне. Всё ещё может развернуться в обратную сторону. Бумеранг, запущенный немецкими коммунистами в восемнадцатом, вернётся и ударит так, что звон отзовётся во многих странах…[84]84
23.08.1923 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) Радек предложил организовать новое вооружённое восстание в Германии. Сталин высказался скептически, но всё было решено создать комитет для подготовки такого восстания под руководством Радека. В последствии ввиду неблагоприятной политической обстановки восстание было отменено.
[Закрыть]
– Вы большевик?
– А как же!
– Вы изменились даже в политических воззрениях, Глеб Христофорович.
– Не бойтесь меня.
– Я старый человек. Чего и кого мне опасаться? Властям, со своими старорежимными философствованиями на краю империи я не причиню никакого вреда. И не мыслю об этом в своих трактатах, как вы выразились. Так, иронизирую от скуки над собственными незрелыми идиллиями. Финита ля комедия, да и только.
Они помолчали.
Корновский затушил окурок в банку, подкрутил лампу светлее. Язычок враз закоптил. Хозяин бросился ему помогать, устраняя копоть.
– Вот и наша жизнь стариковская, – запричитал он, – изменять своим принципам, взглядам опасно, мы если и вспыхнем на миг, то враз и закоптим, а там и потухнем…
– Ох, милый, добрый мой Исак Исаевич, – обнял его за плечи Корновский, – вы напоминаете мне древнего мудреца Диогена из той бочки. – Он обвёл комнату взглядом. – Закупорившись от происходящего в мире, продолжаете баловаться своими выдуманными истинами. Они убаюкивают вас, а жизнь ускользает вперёд. Давайте всё же поведайте лучше о себе. Как вы? Всё это время вы слушали меня. – Он снова плеснул в свою чашку коньяку. – Вас, вижу, тоже потрепало. Прячете, значит, листики? Упаковываете свою жизнь в бумагу и прячете. Грустно.
Он запрокинул чашку, выпив содержимое одним глотком, нараспев продекламировал:
Старик смахнул вдруг набежавшую нежданную слезу, стыдясь, отвернулся:
– Вареньку, жёнушку вашу, мы схоронили.
– Знаю. Сообщили с запозданием, да и не было меня в стране.
– Так и жила одна. Скончалась тихо. В забытье. От тифа. Как сознания лишилась, рассказывала София, за ней ходившая, так и сгорела. За гробом никого. Я, Софка, да ваша дочка Евгения.
– Где лежит?
– Я уж и не найду. Тогда тифозных каждый день пачками в землю клали. В одну яму порой. Но Женечка маму не позволила… Тут, Глебушка, такое было!.. Я сам-то своего дома лишился при пожаре. Вымерли все мои ближние, словно одной безжалостной косой подрезанные, а ночью дом подпалили, как прокажённое место. Думали, злодеи, что нет в живых никого. Я чудом выполз. Как спасся от огня, не помню. Приютила вот здесь, – он поклонился стенам, – родственница дальняя, Софа, чай нам подавала, когда у меня собирались, помните? Напевала под рояль "Розу чайную". Славный такой голосок. Забыли?
Корновский качнул головой, полез ковыряться в закуске.
– Конечно. Столько лет… Вы юношей тогда… глаза помню, у вас блистали, лицо от них светилось… В бой рвались… За волю, за правду, справедливость…
Корновский дожевал, откинулся на спинку стула, закрыл глаза.
– А я вот здесь… Недавно навещали… из чека.
– Гэпэу.
– Да-да. С обыском.
– И что же? – лениво поднял веки Корновский, он начал дремать.
– А что у меня? Голые стены.
– Это они перед судом над эсерами всех бывших шерстили. Слышали о суде?
– Ну как же! Докатилось и до нас. По улицам митинговали. Про нашу дыру не забыли.
– Значит, вспомнили и про вас?
– Что взять со старика, который одной ногой за порогом. Для формы, конечно, всё перевернули, а я, как чуял – записки-то свои в собачьей конуре схоронил.
– Вот, значит, как. Зачищают они до последнего. Как велено было.
– Угаров постарался. Так я думаю.
– Угаров? Вадим!
– Он ведь власть большую имеет в губкоме. Поэтому, помня ваше прошлое, поспешил с Евгенией расторгнуть отношения. Про вас-то, конечно, достоверных сведений не имел. Прознает, где вам быть приходилось, за голову схватится. Это существо отвратительное!
– А внучок? Сашок где?
– С ней. Аркашина Дарья Ильинична их на квартиру пустила. Скучно ей одной. Муж-то плавает. Софья к ней бегает, а уж мне вести приносит.
– Я приехал, чтобы увидеться. Помочь. Возможно, нескоро теперь встретимся.
– Чем вы поможете? Угаров всё порешил. Если он ради вас и согласится, Женечка подлецу не простит.
– Вы полагаете? У меня хватит сил, чтобы сломать ему хребет, – сжал кулаки Корновский.
– Возможно, но этот негодяй, лишь вы уедете, отыграется на вашей дочери. А ребёнок? Что станет с ним?
– Александр… да-да, я о них не подумал.
– Спрятать бы обоих. Или увезите с собой.
– С собой не могу. А везти куда-то нет времени. Я не свободен собой распоряжаться. Завтра, послезавтра – срок. Меня ждут в другом месте.
– Советовать вам, Глеб Христофорович, не смею. Уж и не знаю. – Старик тронул чашку. – Может, коньяк помутил рассудок, уж не обижайтесь, только с Угаровым вам отношения лучше не усугублять. Как-нибудь его не трогать. Ужалит исподтишка гадкая змея. Не вас, так Женечку достанет или ребёночка.
– Так страшен?
– Послушайте старика. Не знаю как, кем вы в Москве или в Питере, только здесь своя власть. Советская, конечно… так называется, однако у Угарова хлеще личности в друзьях-товарищах.
– В гэпэу?
– Послушайте меня, Глебушка.
– Ладно. – Допив остатки и опрокинув содержимое в рот, Корновский вскинулся на ноги. – Утром на свежую голову разберёмся. А сейчас… – Он бросил взгляд на кровать.
– Укладывайся, укладывайся, Глебушка, я на полу устроюсь. Найдётся, что кинуть под спину, да и печку сейчас раскочегарю.
– Нет уж, увольте, Исак Исаевич, хозяина, хоть и положено слушаться, но я на стульях устроюсь, знаете ли, привык. Лишь бы не разъехались. – Он принялся собирать себе лежбище, невольно ударился о шкафчик на стене, потёр ушибленное плечо, грустно хмыкнул:
– А это бросьте. Опасно для вас. Не нужен теперь никому ваш "тяжких дум избыток"[86]86
А. Пушкин. Воспоминание.
[Закрыть].
VIII
С трудом он всё же уложил длинноногое своё тело на нескольких разъезжающихся стульях; застеленный под спину тяжёлый тулуп, откуда-то принесённый Исаком Исаевичем, накрепко придавил их к полу. Но главного во всей той процедуре приготовления ко сну, успокаивал себя Глеб, он добился – улёгся удобно, теперь бы заснуть, и до рассвета глаза сами не откроются, уж очень он намучился за весь день. Обвёл взглядом из-под смыкающихся век вынужденное своё пристанище, словно прощаясь, и замер, наткнувшись на старинную в рамке под бронзу небольшую картину, висевшую над кроватью хозяина.
– Притушить лампу? – коснулся его груди, поправляя одеялку Исак Исаевич, проходя в коридор.
– Отчего ж, – задержал он его, всматриваясь в картину внимательней. – Пусть горит.
– Я вот только за дровишками сбегаю, протоплю часок и сам улягусь. Спите.
– А кто ж там на картине?
– Не узнаёшь, Глебушка?
– Занятная группа. С фотографии писано?
– Учудил когда-то. Лишь вы, мои любимые воспитанники, разлетелись по белому свету себя попытать, не удержался, упросил знакомого любителя изобразить на память. Фотографии-то не сберечь.
– Вы – в центре, прямо в ангельском окружении, с Варенькой моей и с Софьей. – Приподнялся на локте Глеб. – А наша буйная компания за вашими спинами: Маевский, Гурденко Костя и Бобрик.
– Лев не поспел.
– Льву тогда не до нас было. Он увлёкся одной дамочкой, с которой только пыль не сдувал.
– Молодость, – вздохнул Исак Исаевич, – пора великих надежд.
– И великих разочарований.
– Да уж, натерпеться пришлось и мне за своё чудачество.
– Вы это про что?
– Про картину эту, – горько усмехнулся старик. – Когда про некоторых из вас чека дозналась, заинтересовались и ей товарищи. Ты уже прости меня, Глебушка, просидел я у них не один день, пока про всех вас допытывались. А что я знал? Только сегодня вот и ясно мне, кем ты стал. Как сложилась судьба остальных, мне неведомо. По умершим, вот, скорблю. Тому ли учил?..
– Не корите себя, Исак Исаевич. Успокою я вас или нет, только и Толстой учил, и мудрецом сказано, что дьявол в той или иной мере присутствует в каждом из нас. Каждый из нас волен находить своё и выбирать.
– И соглашусь, и возразить хочется, – покачал головой старик. – Не учёл ты, Глебушка, обстоятельств, которые бывают выше нас и диктуют, а порой и управляют нами. Вот ведь в чём весь катаклизм природы человеческой сущности.
– Вы, помнится, воинствующего материализма всегда придерживались, а теперь, слышу, на волю всевышнюю ссылаетесь или к фатализму клониться стали?
– Хватит, хватит, Глебушка, на сегодня, – засуетился старик. – Не то заговоримся снова и забуду я про печку. Замёрзнем ночью оба. Да и поздно уже.
– Простите.
– Это всё я, старый. – Засеменил хозяин в коридор, загремел в темноте чем-то сбитым, захлопнул за собой дверь во двор.
"Утомил я Исака, – забывшись, Глеб попытался повернуться на бок, но стулья, угрожающе заскрипев, пришли в движение, и он оставил опасную затею; хорошо голове на нежёсткой удобной подушке, а тело само смирится со временем, рассудил он. – Да, Исак Исаевич здорово сдал. Раньше в спорах подавлял всех, главенствовал в диспутах, дрался за свои убеждения и побеждал, молодых затыкал за пояс. А теперь сед как лунь. Но в седине его лицо, испещрённое морщинами, приобрело ореол мученика-отшельника. Забравшись в нору, удалившись от мира и соблазнов, он посвятил остаток жизни единственной страсти – пишет книгу и в этом, возможно, находит нравственные силы для спасения чистоты души. А что всё ещё ищем мы?.."
Воспоминания нахлынули на него, он потянулся к столу за папиросами. С риском слететь с непрочной лежанки закурил. Но события былой юности, навеянные старой картинкой со стены, быстро выветрились из сознания, уступив место тревожным нынешним.
"Полжизни промелькнуло, а что приобретено? – морщился он. – В чём удалось по-настоящему разобраться? Что стало главным?.. Утратил жену, почти забыл дочь, никогда не видел внука… Всё бегал, кого-то спасал, палил в людей, ставших заклятыми врагами. Сам стал для многих, прежде своих, заклятым врагом. Теперь вот охотятся. Убили бы, не спаси неизвестный…"
В его памяти запечатлелись, будто отпечатанные на машинке детали, предшествовавшие этой поездке, последние напутствующие беседы с начальством ГПУ. Выпросив разрешение наконец-то навестить дочь с ребёнком, Корновский был крайне удивлён и обескуражен, каким таинственным фарсом и немыслимыми до смешного секретами, окружает его поездку на пароходе Буланов. Потребовав изменить до неузнаваемости внешность, он вручил ему фальсифицированные документы личности, обратив его в некоего Устинова, благо Глебу удалось отстоять хотя бы имя. Последний аргумент – дочь напугается до смерти – смутил Буланова, а вот категорические отказы от оружия – браунинг за пазухой изрядно надоел в Германии – не были приняты во внимание. Буланов настоял на своём, твердя, что в поездке личное оружие не будет лишним. Неуместной и зловещей прозвучала его глупая шутка, брошенная экспромтом, мол, хоть вокруг парохода только вода, но лишь оказавшись за бортом, поймёшь, что пистолет бесполезен. Упорствуя, Глеб продолжал возражать, убеждая, что его поездка вызвана желанием восстановить измотанные нервы, повидать родных и не составит осложнений, не вызовет озабоченности у местных властей и тем более у гэпэу. Он не собирается даже там показываться.
– Вот здесь наши интересы совпадают, – криво усмехнулся Буланов. – Наконец-то мы нашли общие точки соприкосновений. Появляться у властей и в нашей конторе вам не следует, хотя, – шутя погрозил он пальцем, – при острой необходимости не брезгуйте заглядывать. Кому положено, мною предупреждены.