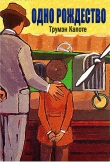Текст книги "Окаянные"
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Пасмурный день, насыщенный напряжёнными неприятными будничными заботами с самого утра, казалось, измотал Кобу, но он перекусил на скорую руку приготовленными Каннером холодными закусками, хлебнул горячего чая и, с часок вздремнув на диване, словно ожил заново. Покоя не давали мысли, не покидавшие сознание.
Коба не мог забыть, какой неожиданностью стало для большевиков известие, что возглавляли мятеж и вооружённое сопротивление против Брестского мира именно руководители ВЧК. Злостных зачинщиков потом выковырнули, и жизнь большинства завершилась у стенки пулями в затылки, но остались в аппарате ОГПУ по непонятной причине некоторые, избежав позорной участи. Случись такое теперь, когда за Главвоенмором остаётся регулярная армия и флот с весьма склонными к вольностям командирами, малейшая оплошность в замышляемой атаке на Троцкого, промедление или нерешительность любого звена ОГПУ, понимал и тревожился Коба, могут обернуться большими волнениями в политических кругах и вооружёнными столкновениями среди населения. Только победителей не судят, в конечном итоге при провале его затея грозит большой бедой не ему одному, а всей стране, не залечившей ещё раны от ужаса Гражданской войны.
Коба, задымив трубку, вскочил с дивана, принялся расхаживать от одной стены к другой; задурила голова от нахлынувшего – будто в камере он, в одиночке, и выжить, чтобы не сойти с ума, на стенки бросаться надо, рвать решётки голыми руками.
Возможности трагедии такого масштаба, как новая Гражданская война, Коба не допускал в своих расчётах. Ситуация, считал он, управляема, большинство на его стороне, поэтому оппозиционные вылазки Зиновьева с Каменевым и бонапартистские замыслы Троцкого, находящиеся пока в зачаточном развитии, следует пресечь теперь самым жестоким способом. Он допускал и возможность физического устранения Троцкого, но считал, что сделать это следует так, чтобы ни у кого и мысли не возникло, будто гибель Главвоенмора не случайна, а задумана заранее и, тем паче, дело его рук, об этом Коба неоднократно делал тайные назидания Ягоде, часто остававшемуся исполнять обязанности председателя, отбывавшего в дальние командировки, и в отсутствии страдавшего тяжким заболеванием Менжинского. В преданности и решительности Ягоды Коба, до последнего времени по своей давней привычке никому полностью не доверять, сомневался. Поэтому не раз устраивал проверки намеченному новому руководителю главной карательной машины вместо Дзержинского, не разделявшего его планов по грандиозной облаве на всех, обвинявших его в диктаторских методах руководства и узурпаторстве властью. Но случай с бесшабашной выходкой зарвавшегося Аршака, в обход его учинившего зверскую расправу над агентом ОГПУ и поставившим в идиотское положение подчинённого Ягоды, не только возмутил Кобу, но и убедил в мудрости своего избранника; тот действовал жёстко, но справедливо – немедленно наказал убийцу-авантюриста, вероятно, хотя и догадывался, кто стоит за его спиной. Поступи кто так, как этот мальчишка, с самим Кобой, он реагировал бы таким же образом, а то и жёстче. Поэтому претензий к Ягоде Коба не испытывал, печаль по гибели Аршака мучила его лишь несколько первых мгновений; воспитывался тот в безумной ярости Камо, в молодости который выкидывал и не такие фортеля, за что укорял его не только Дзержинский, но и сам Ленин, но тщетно. В результате, даже отойдя от дел, перечеркнул геройскую свою жизнь учитель Аршака нелепой смертью.
Так, покуривая и успокаиваясь, Коба всё больше и больше убеждался, что выбор на Генрихе Ягоде он сделал верный, мстить за Свердлова тот не собирался, и если сидели в его голове подобные мыслишки раньше, то давно выветрились; мудрость, обретённая в аппарате ОГПУ, взяла своё. Ягода без сомнений выполнит любой его приказ, если станет морочить голову и гадать Железный Феликс. Впрочем, поморщился Коба, так ли тот крепок, и невольная презрительная гримаса исказила его физиономию. Старые чекисты посмеивались над байкой, за что их начальника молва наградила таким прозвищем. Однажды, на заре становления ВЧК, в кабинет Дзержинского на втором этаже, разбив окно, влетела бандитская граната. Разорвавшись, она наделала бы много бед, лишив жизни и самого председателя, как обычно, восседавшего над бумагами за столом. Но он Сообразил броситься к огромному сейфу и спрятаться в нём за бронированными стенками, отделавшись испугом. После этого трагического случая окна кабинета перенесли во двор, а Феликс был награждён почётным званием Железный.
Где злые выдумки, где всерьёз, Кобу мало интересовало, он почему-то сразу поверил, что так оно и было. Дзержинский, подмечал он, в драку с политическими противниками особо не рвался, метался среди партийцев с молодости – это верно, выглядел же вечно сомневающимся даже в том, что сам и произносил, на трибуну лезть не заставишь, а уж, если попадал туда по велению вышестоящих, то обходился общими патриотическими лозунгами, которые писались на плакатах, за что и был прозван Дон Кихотом. Вероятно, гадал Коба, поэтому Ленин и остановился на его кандидатуре, назначая председателем красной гильотины. Опасаясь обвинений, что мстит за брата, повешенного царём, Ильич в подручные взял такого же хитреца, зло хмыкнул Коба и притопнул по полу сапогом – в их борьбе с такими извращенцами, как коварные Зиновьев и Троцкий, мнораздумывающие и сомневающиеся вредны. Рядом должны быть лишь беспрекословные исполнители, как Генрих Ягода. Сам он приказал Назаретяну пригласить только главных лиц, наделённых возможностью самостоятельно влиять или исказить его планы, с остальными, был уверен, – справится Ягода. Больного Менжинского в расчёт не брал совсем, тот – застаревшая мозоль на ноющей пятке, – как удостоверился Каннер, залёг на койку надолго и серьёзно, а Дзержинского поторапливать из Питера Коба не станет. Если и будет надоедать просьбами, объяснит, что в Питере при распоясавшейся оппозиции тот нужнее…
Вроде, всё продумав до мелочей, Коба также тщательно провёл и собеседование с приглашёнными. Они вызывались по одному, встречаясь только у Назаретяна, который и заводил каждого в кабинет по очереди, где Коба демонстративно распивал чаи с Ягодой. Входившие вытягивались в струнку и, тараща глаза, застывали у порога, но подталкиваемые Назаретяном, приближались к их столику, приглашались к незатейливой трапезе, ужасно смущённые, конечно, отказывались, но тут же осваивались и становились разговорчивей, а некоторые даже чересчур, так, что Ягоде приходилось им подмигивать, чтобы умерить пыл.
В общем, Коба остался доволен, задуманная встреча удалась как нельзя лучше. Замыкавшим когорту приглашённых неслучайно оказался Паукер. Посвящённый Ягодой в некоторые тонкости акции, он нуждался лишь в ранее замысленных Кобой обещаний скорого роста по должности в серьёзном подразделении ОГПУ и в уточнении некоторых существенных деталей, касающихся вмешательства подчинённых ему оперодовцев в случае острой необходимости.
Когда, успокоившись после ухода Паукера, Ягода начал подумывать, что пришла и его очередь, Коба, неожиданно помрачнев, кивнул ему на стул подле своего длинного стола и шагнул сам от, казалось бы, дружеского чайного столика.
– Ты от меня главных исполнителей акции специально прячешь или что-то происходит? – тигриными жёлтыми глазами прожёг он Ягоду. – Не затеял игру со мной?
– Простите, товарищ Сталин, – побледнел Ягода. – Они оба были представлены товарищу Назаретяну. Он сообщил, что докладывал вам и вы остались довольны. Я посчитал лишним их общение с вами. Назаретян объяснил, что их участь решена однозначно. Ни следов, ни свидетелей не должно остаться, тем более – исполнителей.
– Он неправильно тебе объяснил, Генрих, – нахмурился Коба. – Или ты неправильно его понял. Один из тех двух – известный в политических кругах бывший эсер, переметнувшийся в наш лагерь.
– Это Глеб Корновский! – вырвалось у Ягоды само собой. – Его же бывшие дружки приговорили за измену партии к смерти. Кстати, пытались реально осуществить угрозу, но наш человек, прикреплённый к нему, уберёг его от гибели.
– Назаретян докладывал, что спас его тот второй, что подобран вами к исполнению нашей акции. Вы не рискуете?
– Сакуров – испытанный чекист, товарищ Сталин, за отвагу в борьбе с врагом неоднократно поощрялся.
– Странная у него агентурная кличка – Самурай, – хмыкнул Коба, – уж не за те подвиги на Востоке он награждён, когда барона фон Унгерна отлавливал?
– Так точно!
– Да, занятно всё сходится, – цыкнул языком Коба. – Но хватит о нём. – Он поморщился, сурово нахмурил брови. – В нашем деле большая роль отведена бывшему эсеру Корновскому. Он главный исполнитель, и он должен остаться жить. Его ждёт трибунал, может быть, и закрытый. Будет суд, но газетки рассвистят по всему миру то, что добиваюсь я этой акцией – эсеры не смирились, уйдя в подполье. Обманом проникая в наши ряды, они продолжают вести террористическую борьбу, покушаясь даже на самых известных наших лидеров, каким станет в данном случае товарищ Троцкий. Достигнув этой цели, мы одновременно справимся наконец со второй задачей – условный приговор будет приведён к немедленному исполнению, осуждённых ранее мы сможем расстрелять. И тогда уж ни одна буржуазная знаменитость лишится возможности обвинять нас в беззакониях, эсеры первыми нарушили условия. – Коба задымил трубкой, и иезуитская ухмылка скользнула по его лицу. – Так что Корновский пусть живёт, но его следует арестовать сразу же после акции.
– А Сакуров?
– Он тоже побудет с ним в камере, может, что выведает у товарища. В любом случае ему это будет только на пользу, а нам – выгода. А что вас так волнует его судьба?
– Ценный сотрудник, товарищ Сталин, – жаль терять. Он бы нам здорово пригодился в работе подобного рода, – осторожно подсказал Ягода. – Его опытом могут похвастать единицы из моих преданных людей.
– Ну что ж, подумаем. Готовьте их.
– Как только они возвратятся, Булавин займётся этим. К назначенному вами дню всё будет готово.
– Как! Они не в Москве?
– Выполняют задание по известной вам зачистке, товарищ Сталин. Операция в стадии завершения.
– Ликвидируют скрывшихся людей Аршака? Но этим занимается Паукер…
– Так точно, Карл Викторович попросил их в помощь. Им известно многое, в том числе приметы и повадки скрывшихся.
– Остался в живых, как мне доложено, один?
– Так точно, но бандит предпринял попытку укрыться среди подобных ему сотоварищей. Махнул аж в Поволжье.
– Поганое гнездо должно быть уничтожено на корню! – сверкнул тигриным взглядом Коба. – И сделать надо так, чтоб этот мерзавец не успел раскрыть рта.
– Перед Корно и Самураем как раз и поставлена такая задача! – вытянулся в струнку Ягода.
– Держите в курсе Назаретяна.
– Будет исполнено!
III
Сивко, отделавшийся выговором с учётом перенесённых увечий и, по существу, помилованный начальством, в отряд, снаряжаемый на поиски Верховцева и недобитых бандитов, как ни просился, не попал. После торжественных захоронений останков Ксинафонтова, не угомонившись, он всё же с трудом уговорил Осинского похлопотать за него, но лишь они заявились на порог кабинета Лугового, тот погнал обоих недовольным взмахом руки, не дослушав патриотического обращения заместителя до конца.
– Охваченные единым гневным порывом отомстить за погибшего товарища и навсегда покончить с бандитским бесчинством Белого движения!.. – заикнулся было Осинский и замер с открытым ртом.
– Работы и здесь хватает! – Луговой едва сдержался от крика, лицо его пылало, ещё не остыв от речи на митинге, он схватил стакан с водой, осушил залпом и перевёл дух. – А ты, Платон Тарасович, совсем совесть потерял! Человеческое отношение, оказывается, тебе во вред. Тянешь последние нервы? Тебе же намедни было сказано – нет! А ты защитников да просителей ко мне гнать?! Обидчиков своих сначала найди и ко мне притащи живыми. Разберёмся, хулиганьё они уличное или кто позловредней. Вот тогда буду решать, что с ними и с тобой делать.
На этом чувственная речь его оборвалась, а Осинский, схватив Платона за локоть, выволок его за дверь, матерясь и приговаривая:
– Ты что же меня ставишь в сволочное положение, товарищ Сивко, сукин ты сын?! – Глаза его метали испепеляющие искры. – И соврал, что был уже у Михалыча, что отгул получил! Я к тебе с открытой душой, а ты, значит, ко мне всей!..
– Лев Соломонович покоя не даёт, – каялся, чуть не плача, Платон. – И днём и ночью живым перед глазами руки ко мне протягивает, только и слышу говор его жалостливый: "Не верь никому, Платоша, не вредничал я, не предавал никого. Жив я, у них, злодеев, мучаюсь. Спаси!.." Вы же, Марк Эдуардович, лучше всех знаете про наши отношения, как я его любил и как он ко мне относился… От лживых наветов Чернохвоста только он и защищал. Камень с души мне не снять, пока его живым и целёхоньким не увижу… Да хоть бы и убиенным, но чтоб земле душу грешную его предать…
– Не ныть!
– Да как же быть-то?
– Цыц! Не трави меня. Не железный. По Игнату Ильичу, как комья по гробу загрохотали, весь заряд своего маузера в небо выпустил.
– А я, доведись, желал бы рядом с ним лечь.
– Цыц, говорю! Жив пока, вот и исполняй, что велено командиром нашим.
– Да я…
– Что у тебя с хулиганьём? – перебил его стенания Осинский, растроганно протягивая раскрытый портсигар и закуривая сам.
– Есть кое-какие мыслишки.
– Кое-какие никому не нужны. Слышал, как отбрил нас обоих Яков? Он с тебя живого не слезет. Мы с отрядом к вечеру выступаем. В последний раз отправляемся, команда дадена точку ставить. И ты балясы да панихиду по Верховцеву не разводи, может, отыщем его, а нет – разузнать удастся, как погиб наш товарищ. Найдём тело или останки какие, не брошу, сюда привезу, слово даю, увидишь останки дружка. Только и ты меня не подведи, крутись здесь волчком. Хочешь, в помощники дам человека?
– Кого? Почти все смышлёные да отчаянные с вами. Уж не Чернохвоста проклятущего? Видел, черней дьявола рыщет. Возле могилы Игната Ильича не слёзы лил, клыки скалил. На меня зверем глянул, я так и шарахнулся от него.
– По всем нам гибель товарища Ксинафонтова пуще кнута вдарила. Его вина в этом больше других. Вот он и злобствует. А ты с него пример не бери, у тебя голова светлой должна быть. У тебя задание есть. Важнее нет ничего. Помни. Мальца тебе оставлю, Егорку Булычёва, здоровьем он окреп, а хватким на такие дела и раньше славился. Я его в первый раз брал с собой, так он там, среди головёшек человечьих от огня уцелевших, в уголь не обратившихся, выщёлкивал трупы и не морщился, глазки не закатывал, как некоторые. Отчаянный паренёк, одно слово – из заводских. Там, конечно, не хватать его будет, но с учётом твоего бедственного положения здесь, подсоблю. Чую я, напавший на тебя не один был. Ты вон какой бугай, в больнице память у девчат по себе оставил. С одним бы ты справился. Если орава была из заводской шпаны, Булычёву легче будет их отыскать, он же всех помнит, сам среди них обитал, но, конечно, не разбойничал. И они его не успели забыть, найдётся, кто и подскажет. Друзья у него остались среди тех, кто завидовал ему, что к нам попал.
– Заводские – парни крепкие, мне приходилось в их кодлах одного разыскивать, помыкался я… Они своих не сдают.
– Насчёт настоящих, крепких согласен, а вот шпана, да пьянь всегда лишь на ор берут, да на халяву, этих прижать к стенке посильней – расколются. Егорка справится. Берёшь или как? Решай, у меня времени в обрез. В этот раз Яков Михайлович посоветовал отряд разделить, одни на лошадях добираться к месту станут, а вторую часть – на лодки приказал посадить и по берегам поглядывать, а где коряги, – шестами и вёслами до дна буравить, вдруг тела утопших обнаружат.
– Задумка верная, но времени упущено много, в реке сомы, как раз в таких заманихах у кустов, а на берегу голодного зверья полно, лисицы да волки рыщут стаями. Надежд никаких.
– Ладно, – отмахнулся, хмыкнув, Осинский, – проверим, а вдруг повезёт утопленникам. Так что с Булычёвым? Мне бежать надо.
– Спасибо, Марк Эдуардович, за заботу, – затушив окурок и с ненавистью, как червя надоевшего, втоптал его сапогом Сивко. – Мне самому раскрутить это дело надо. Обойдусь.
– Доказать хочешь, что не глупей других?
– Есть мыслишки, Марк Эдуардович, не зря же я на койке больничной бока вылёживал, голова незанятой оставалась.
– Ну бывай, умник. Только помни, Якову Михайловичу результат нужен. Боюсь, требовать станет – мы возвернуться не успеем.
Платон не лукавил, соображений на счёт нападения у него накопилось достаточно, версии рождались одна за другой, но многие умирали, оставляя лишь горечь в беснующемся сознании. Поделиться, посоветоваться было не с кем. Не хватало Льва Соломоновича. С ним бы он юлить не стал, а высказав, что засело в голове, ответ от Верховцева услышал бы достойный и разумный.
И ещё не доставало Платону одного человечка. В Верке Сидоровой, в хромоножке, прислуге Гертруды Карловны, нужда имелась, но та не появлялась на улице, не встречалась и на базаре, куда забегал Сивко, – знал, та рыскала там порой в поисках провизии. Интересовал Платона один вопрос – не задержался ли на жительство в особняке кто-либо из тех гостей, которых приводил на ночлег старый еврей Исай Заславский. От самого бывшего учителя услышать правдивого ответа он не надеялся, а беспокоить грозную Гертруду Карловну не решался, помня её нрав и больше всего опасаясь, что вдруг начнёт сама она его пытать по поводу долгого отсутствия Верховцева. Словом, приходилось ждать появления прислужки, однако состоявшийся разговор с Осинским натолкнул Платона на новую мысль, показавшуюся ему весьма здравой, и, отправившись провожать сотрудников ГПУ, укладывавшихся в лодки, он, расцеловавшись с агентом Снегурцовым, возглавлявшим эту часть отряда, решил поболтать с любопытствующим происходящим народом, выбравшимся из ближайшего жилья на берег. Его интересовала прежде всего мужская половина, глазеющая на отплывающие лодки. Во-первых, их рассуждения представлялись Платону толковыми, хотя и немногословными, во-вторых, их ответы на его вопросы вызывали доверие, не то, что беспорядочная трескотня, перебивавших друг дружку болтушек, тут же засыпавших интересующегося степенного дядьку пустобрёхством.
Отплывающие скрылись из виду, а любопытствующие разбежались, когда Сивко набрёл на дремавшего старичка с затухшей самокруткой, готовой выскочить из жёлтых его пальцев в любой момент. Пригревшись в лёгком тулупчике в лучах не закатившегося ещё солнышка, тот не подавал признаков жизни, и Платону потребовалось немало усилий привлечь его внимание и разговорить. Старожил, подбодрившись от поднесённого огонька, любезно поблагодарил за дорогие папиросы, назвался Тимофеем Сидоровичем и оказался настоящим кладезем находок, интересовавших Сивко. Он знал хозяев всех лодок, только что отплывших с отрядом, и охотно назвал скупердяев, пожалевших своей "байды[115]115
Байда – большая рыбацкая лодка (разг.).
[Закрыть]" для нужного дела «государевым людям», так он уважительно поименовал сотрудников ГПУ.
Но самой важной удачей, отчего Платон, притулившийся к деду и тоже лениво покуривавший, едва не подскочил на ноги, стала услышанная им история, случившаяся с Тимофеем Сидоровичем на днях. Точную дату тот вспомнить не смог, как ни старался, а вот троих незнакомцев, либо в стельку пьяных, либо уставших, высадившихся из одной лодки поздно под вечер, не забыл. Лодку они с большим трудом выволокли на берег, причём мучились с этим двое, третий без движений лежал на днище и лишь стонал. Словно мешок, болезного взвалил на плечи один, а второй, так же, как Сивко, угостил его папироской и сунул к глазам наган, пригрозив, что приехал к дружку поблизости и каждый вечер будет навещать деда, а руки у него длинные, если сбрехнёт, дотянется до всех, а соседей спалит. Разбойничает народ под городом, а добычу привозят своим, подмечал сообразительный Тимофей Сидорович, в этот раз, видать, не зафартило, уж больно сильно стонал тот, которого из лодки вытащили. Кто как выглядел, вспомнить он и не пытался, – глаз не тот, по этой причине и лодку, на которой приплыли, показать не мог, а вот направление, куда отправились двое с третьим на плече, указал сразу, не мешкая. Приметной выглядела та местность и от берега недалеко – высилось там одинокое строение.
– Особняк Гертруды Карловны! – охнул Платон и рот ладонью прикрыл, но зря опасался; глуховатый старик бурчал уже что-то своё и различить его слова было сложно.
– Видел их ещё? – нагнувшись к нему, прокричал Платой.
– Да что ты, милок, – отшатнулся от него дед. – Чего ж орать. Не глухой я. А из тех троих больше никто не объявлялся. Хотя один и грозился проведать.
– А ты кому рассказывал, Тимофей Сидорович?
– Да что ж я? – вытаращил глаза тот. – Я ещё поживу на этом свете. Их тут такого народа полно шастает. С ними свяжись – могилки заказывать не надо, камень на шею – и как собаку. Воды-то вон сколь!
С берега Сивко не шагал, а нёсся. Это поначалу, от захлёстывавшей, перехватывавшей дыхание радости. Но, не добравшись до ГПУ, остыл, даже пришлось присесть на подвернувшуюся скамейку под деревом близ какого-то дома. "К Луговому с этой троицей заявляться нельзя, – опомнился он. – Ещё неизвестно, что это за народ. К Гертруде Карловне и при Верховцеве многие наведывались и ночлег имели. Раз их не разыскивают, и в ГПУ про них ни слуху ни духу, значит, и интереса ещё не имеется. А на лодках разбойничков хватает, старик врать не станет. Те, что были, могли уже далеко и дальше уплыть. Он же не помнит, когда их видел. Нет, пока определённости в этом вопросе не имеется, соваться к Луговому опасно. Боком станет мне открытие, дряхлым глухим стариканом поведанное, когда нагрянет Луговой к Гертруде Карловне, почтенной даме, совсем недавно красноармейцев в своём госпитале от тифа спасавшей, а там – по сусекам скреби – пусто…" Действовать надо наверняка, решил Платон, но Гертруда Карловна в этом деле ему тоже не помощница…
IV
Выследить Верку-хромоножку Платону удалось лишь через несколько дней неустанного дежурства близ местного рыбного базара. Странно, из особняка, где он ждал удачи, никто не выходил ни днём, ни вечером, хотя пасся он там до поздних часов. В особняке почти и света не зажигали, кроме как в окошке Гертруды Карловны Филькенштейн. Казалось, куковала в проклятом доме одна вдовушка. Платон уже стал подумывать, не сбрехал ли ему старик, но неожиданно повезло. Он даже и не заметил, откуда появилась шустрая хромоножка. Словно прячась, та вынырнула меж рядов кричащих торгашей, не приценяясь, бросила в сумку несколько сомьих хвостиков, добежала, переваливаясь уточкой к птичьему ряду за яйцами, отоварилась луком и картошкой и, явно перегрузившись и сильнее припадая на больную ногу, запрыгала восвояси. Дождавшись, когда она свернула в тихий переулок на полпути к особняку, Сивко неслышно настиг её и, выхватив тяжёлую ношу из рук, подхватил шарахнувшуюся было от него девку.
– Не боись, хозяйка, – изобразил он смиренность и расплылся в улыбке. – Небось семейство-то большое дожидается тебя, а помощников нет? А я вот тебе как раз и подмогну.
– Ой! – ослабла Верка на обе ноги и, не будь забора, к которому прислонилась, лежать бы ей на земле, потому как одной рукой удержать её Сивко не смог. – Платон Тарасович, напугали-то вы меня до смерти! Как вы здесь? Прямо снег на голову!
– А вот давай-ка, девонька, – увлёк он её к ближайшей скамейке у забора, – присядем рядышком да покалякаем. Виделись-то когда в последний раз?
– Да я и не помню, – приходя в себя, выдохнула уже спокойнее и послушно опустилась она на скамейку, впрочем, не забыв перехватить из его рук сумку и при-строить её ближе к своим коленям.
– Боишься, умыкну? – лыбился Платон. – Как Гертруда Карловна шуганула меня от вас, сразу и отвыкла?
– Да вы ж к нам и не заглядывали с тех пор, Платон Тарасыч. – Осваиваясь, она даже принялась прихорашиваться, убрала со лба под косынку волосы, повела бровями.
– А вот сегодня и загляну, – сделал попытку прижать её к себе Сивко, но тщетно, та мигом отодвинулась на самый край, едва не слетев совсем. – Что это ты так меня боишься, Верунь? – пустился любезничать Платон. – Раньше такого не бывало.
– Напугалась, когда сумку у меня выхватили, – парировала та, – а теперь-то чего мне вас боятся. Идти надо. Гертруда Карловна небось уж заждалась.
– А с ней и остальные, – поддакнул Платон, играючи ущипнув её за бок. – Проголодались, наверное, гости нежданные?
– Это кто?! – вскинулась и зарделась девица. – Вы про кого, Платон Тарасыч? Евгения Глебовна с сыночком, если, так они, словно воробушки, им бы лишь поклевать.
– Не про них я, Верунь.
– А про кого ж?
– Будто не понимаешь?
– Пойду я, Платон Тарасович, правда, мне поспешать надо.
– Завтрак или уже обед готовить троим постояльцам? – смахнув ухмылку с лица, сурово впился глазами в растерявшуюся хромоножку Сивко. – Не шути со мной, девонька, не советую. Гертруда Карловна, думаю, успела тебе объяснить, где я работаю?
– Да что вы такого говорите, Платон Тарасыч?
– Хватит! – резко повысив голос, оборвал её Сивко. – Повторять и пугать не стану. Следил я за тобой только что и видел, как шныряла ты по базару, набирая жранья для мужиков, которых прячете в особняке. Кровь на них видела? Не сама ли раны им бинтовала? Или Гертруде помогала? А ну-ка, рассказывай всё!
Лицо девушки побледнело, она ткнулась носом в ладони, не сдерживая внезапных слёз.
– А вот реветь поздно! – грозно рявкнул Сивко. – Вдруг кто увидит, хуже будет. Раны не в драке с хулиганьём получены. Огнестрельные, правильно я говорю? Ну!
Верка, не переставая рыдать, закивала головой.
– Понимаешь, чем это грозит? За решётку угодишь мигом за то, что бандитов от чекистов прячете!
– Не бандиты они, – всхлипывая, выдохнула Верка.
– А ты почём знаешь?
– Глеб Романович, батюшка Евгении Глебовны, сам от бандитов пострадал. Мы его еле-еле выходили. Недавно в себя пришёл и кушать начал.
– А второй, который его на себе к вам притащил? – не давая опомниться, дёрнул за локоть Сивко.
– Ой! – вскрикнула та. – Больно!
– Второй кто?
– Друг его. Артур Аркадьевич. Но у него ранений почти не было. Так, царапины на лице. А вам откуда известно?
– Не перед тобой мне отчитываться! – оборвал её Платон. – Третий жив? Что про него знаешь?
– Я его почти не видела, – снова заревела Верка. – Артур Аркадьевич, пока Евгения Глебовна над батюшкой своим хлопотала, приводя в чувство, в подвал запер того мужика.
– Это как так?
– Гертруда Карловна тоже возмутиться пыталась, но Артур Аркадьевич так на неё зыркнул, что она отскочила от него, словно змеёй ужаленная. Там ему самое место, сказал он, и на замок дверь подвала запер. Сам ходит к нему, сам кормит, а тот днём и ночью под замком. Орал поначалу, словно зверь дикий. Связанный был, а головой в стенку бился и кричал. Рот ему и закрыли чем-то, Глебу Романовичу очень досаждал, тот сам в бреду метался.
– Вон какой госпиталь-то у вас прячется, – покачал головой Сивко, – а вы, значит, помалкиваете?
– Гертруда Карловна посылала меня Льва Соломоновича поискать. Хотела с ним посоветоваться.
– А ты?
– Бегала к нему на квартиру. Нет там никого. А к вам в контору боюсь.
– Что так?
– Мне и Гертруда Карловна не велела ходить.
– Понятно…
– Мне что ж теперь, сказать Гертруде Карловне? Льву Соломоновичу вы сами всё расскажете?
– Льву Соломоновичу?
– Ну да. К кому же ещё обращаться? Глеб Романович, батюшка Евгении, кажется, добрый человек. От кого пострадали, они молчат, а спросить я не решаюсь. Может, Женечке известно что, но она тоже мне ни слова. Шушукаются они с Артуром Аркадьевичем. Однажды видела я, даже целовались вроде и засмущались оба, меня заметив.
– Шпионила?
– Подглядела нечаянно.
– Любовь, значит, разводят? – хмыкнул Сивко. – Отец при смерти, третьего на замок и рот заткнули. Хороша компания.
– Глеб Романович добрый. И не при смерти он, а на поправку уже пошёл. Меня всё спрашивал, что да как.
– Третий-то не загнулся в подвале-то? – буркнул Сивко. – Так на цепи его и держат?
– Про цепи я вам не говорила.
– Неважно. Как его кликают? Как звать зверя?
– А мне откуда знать. К нему никто не ходит, кроме Артура Аркадьевича. Я же говорила.
– Говорила, говорила… – задумался Платон. – Слышал я, не глухой.
– Так что делать-то, Платон Тарасович? – принялась утирать невысохшие слёзы Верка. – Что Гертруде Карловне передать? Ждать нам Льва Соломоновича?
– Ну что ж?.. Ждите, пожалуй. Только о нашей встрече – никому ни гугу. Ясно?
– А ей как же?
– Никому, я сказал! – рявкнул Сивко как можно суровей. – Следующий раз когда на базар пошлют?
– Не знаю, – с тоской глянула на сумку Верка. – Дня на два-три точно хватит. Мы не жируем, да и менять не на что, чтобы крохи добыть, Сашеньке молочка удаётся доставать у знакомой, хватает надолго, он мальчик не капризный. Женечка ничего почти не ест, не знаю, на чём и держится, светится вся, а мужикам… Да, дня на два-три…
– Вот и встречу я тебя на прежнем месте, – оборвал её Сивко. – Тогда, может быть, и Верховцев заявится, в командировке он, днями должен быть. А нет, сам буду. Ты только помни – никому ни слова до этого!
Платон нахмурился так, что, подхватив сумку, Верка, не прощаясь, пустилась во всю прыть к особняку, забыв и про больную ногу.
V
– Уважаемая хозяйка, так и будете в темноте нас держать? Словно мыши по углам да чердакам мыкаемся, – отложив в сторону ножик вместе с очищенной картофелиной, подал голос Сакуров, подкинул пару поленьев в печку под плитой с закипающей кастрюлей и потянулся к занавеси, наглухо закрывавшей высокое окно.
– Не следует ничего тревожить, Артур Аркадьевич, – решительно остерегла его Гертруда Карловна Филькештейн, оторвавшись от разделочного стола. – Вы же сами взялись подменить Веронику, пока она наверху с Евгенией Глебу Романовичу повязки меняет. Наберитесь терпения, мой друг.
– А там, у нас на чердаке? Вы нас будто прячете от кого-то.
– Ох! Ох! Ох! Несколько дней назад вас это не беспокоило! И к кому?.. Ко мне же претензии! Что изменилось? Помню, когда заявились в ту ночь в кровище и в грязи, по-другому верещали. Если бы не Евгения Глебовна и её сынишка, узнавшие вас, ворота бы не открыла. – Гертруда Карловна сердитым взглядом впилась в Сакурова, упёрла руки в широкие бёдра и укоризненно покачала головой. – А мне какая благодарность с того? Ни слова не соизволили, чтобы объясниться. Как же прикажете с вами? В подвале своего же товарища заперли. Там вовсе никакого света, сыро, холодрыга. Концы не отдаст? Уже не беснуется, затих что-то, но вам хоть бы хны.
– Я его навещаю регулярно.