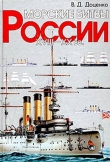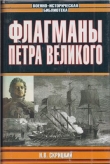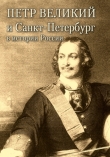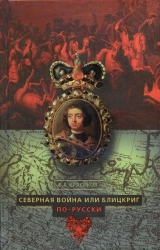
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Ко всему вышеизложенному необходимо добавить, что 1,5 миллиона рублей долга за присоединение новой территории Россия вовремя отдать не смогла. Победители, хотя, конечно, и не до такой степени, как бедные ресурсами шведы, оказались почти разорены войной [53]53
Годовой бюджет России в 1721 г. составлял немногим более 8 миллионов рублей, из которых на армию, флот и дипломатию ушло около 90 процентов.
[Закрыть]. Поэтому «Ливонская контрибуция» камнем на шее повисла у страны.
Из-за нее в 1723 г. Петр был вынужден до минимума урезать жалованье всем, кроме иностранных специалистов (и до этого получавших, кстати, в два раза больше любого русского на той же работе), а жалование чиновникам так и вообще пришлось выдать неходовыми товарами. Лишь 9 марта 1727 г. шведский король передал русскому послу расписку о принятии всех причитающихся денег. Впрочем, в России звонкие фанфары воинской славы всегда ценились выше скучных финансовых подсчетов. И потому эта информация почти всегда остается за рамками работ отечественных историков.
И еще об одной цене, тоже обделяемой вниманием российской историографии – о стоимости войны в человеческих жизнях. Шведы, как принято у все подсчитывающих и учитывающих европейцев, называют сравнительно точную цифру потерь своей армии – 150 000 убитых, умерших, раненых и попавших в плен солдат (на всех театрах боевых действий, в сражениях со всеми членами Северного союза). Принимая во внимание, что из плена домой вернулись далеко не все (из России, например, не более 5000 человек), цифра безвозвратной убыли шведских полков составит порядка 80 000 человек, из которых примерно три четверти можно отнести на счет российских войск.
Русская армия вместе с иррегулярными частями по оценкам дореволюционных отечественных историков потеряла убитыми и умершими примерно 300 000 человек [54]54
В поздние сталинские времена, когда в стране стала насаждаться идеология национальной исключительности, петровские потери в работах советских ученых начали резко снижаться, приобретя величины от 200 000 до 120 000, вплоть до 30 000 у самых «патриотичных».
[Закрыть]. Какое количество из них приходится на регулярную армию, а сколько на долю иррегулярных войск, точно неизвестно.
Впрочем, приблизительно величину этой цифры может сам легко определить каждый читатель. По официальной статистике в России с 1699 по 1721 гг. по всем системам набора на военную службу попало примерно 500 000 человек. К концу войны (служили тогда пожизненно) регулярная армия и флот насчитывали около 220 000. Зная это, вычислить потери не составляет труда.
Правда, от полученных 280 000 необходимо отнять демобилизованных инвалидов. Их число неизвестно, но, учитывая примитивность медицины того времени, можно с уверенность сказать, что таковых оставалось немного – большинство тяжелораненых и серьезно больных уходило в мир иной.
Объективность требует учесть еще и дезертиров. Их общее количество тоже неизвестно, однако, по всей видимости, бежали из армии многие. Например, элитный Бутырский полк за 10 лет – с 1712 по 1721 гг. – по этой причине лишился 361 человека.
Принимая во внимание упомянутые оговорки, можно с большой долей вероятности утверждать, что за годы Северной войны священники регулярной русской армии и флота отпели не меньше 250 000 душ. Сколько похоронили иррегулярные формирования (в них на конец 1721 г. насчитывалось 125 000 казаков, татар, башкир и калмыков), трудно сказать даже приблизительно, но цифра в 50 000 не выглядит невероятной.
Подводя итог боевым действиям русской армии в Северной войне, нельзя не подчеркнуть, что лишь гений Петра Великого обеспечил победу над шведами. Только благодаря его энергии и воле были созданы регулярные вооруженные силы. Старое московское войско в такой ситуации не спасли бы ни подавляющее численное преимущество, ни длительная передышка после нарвской «конфузии». Величие царя-реформатора состоит не только в том, что он осознал необходимость перемен и выбрал в качестве образца для подражания европейскую модель развития. Первый русский император сумел еще и совершить многое из задуманного. Вопреки традициям и ментальности подданных, хоть частично, но приобщил-таки страну к цивилизованному миру, создав мощную инерцию дальнейшего движения в правильном направлении. Петр по сей день остается единственным государственным деятелем России, которому удалось провести успешную военную реформу, заложив фундамент боеспособности национальных вооруженных сил на целых полтора столетия вперед.
Объективность требует отдать дань и незаменимой роли иностранных специалистов в создании регулярного русского войска. Конечно, «звезды» первой величины [55]55
Такие, как принц Евгений Савойский, герцог Мальборо или маршал Вобан.
[Закрыть]не имели стимулов связывать свою судьбу с забытой богом Московией. Поэтому царские вербовщики соблазняли высокими заработками в лучшем случае неприметных середнячков. Тем не менее, только благодаря заимствованным у них знаниям и, самое главное, образу жизни, Петру удалось превратить свою патриархально-неподъемную вотчину в полуфабрикат Российской империи.
В конце XVII в. был лишь начат долгий процесс модернизации «Святой Руси». Даже в 1729 г. из 71 генерала царской армии 41 являлся зарубежным «военспецом». В свете чего говорить о достижении качественного паритета с вооруженными силами европейских лидеров тех лет, естественно, не приходится. Как бы это ни было неприятно для патриотически настроенных россиян, нужно признать, что победа в Северной войне добывалась не посредством профессионализма, а традиционными российскими методами. За успех заплачена непомерно высокая цена, измеряемая сотнями тысяч человеческих жизней. Но в нашей стране на такие «мелочи» не принято обращать должного внимания.
Глава 2.
ВОЙНА НА МОРЕ
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ.Инструмент борьбы
Поскольку Россия до сих пор остается страной сухопутной (во всяком случае, подавляющее большинство россиян правильно ответят на вопрос, чем отличается полк от роты, но затруднятся объяснить разницу между фрегатом и шнявой), а книга эта предназначается в первую очередь отечественному читателю, то, очевидно, хронику боевых действий на море необходимо предварить рассказом, который вкратце пояснит, что представляли из себя корабли первой четверти XVIII в. И каким образом действовали военно-морские силы петровской эпохи.
Основным критерием ценности боевых судов той поры являлось количество и величина носимых ими пушек. Также учитывалось, насколько хорошей артиллерийской платформой они служили, с какой скоростью и маневренностью могли передвигаться. Главную мощь флотов составляли линейные корабли, способные совершить дальнее плавание в самые отдаленные уголки планеты и в любой момент нейтрализовать там морскую силу неприятеля.
В зависимости от размеров линейные корабли подразделялись на ранги. Наибольшие в среднем имели длину 60—70 метров, ширину 14—15 метров, высоту от киля до верха надстроек 20—22 метров, осадку 6,5—7,5 метров и несли от 100 до 125 пушек калибром в 6, 12, 24, 50 фунтов (то есть стрелявших снарядами такого веса). Причем основную часть артиллерии – свыше 80% – составляли средние и крупные орудия от 12 до 50 фунтов.
Следующий ранг линейных кораблей (с ориентировочными размерами 50-60; 13—14; 18-20; 5,5-6,5 метров) включал суда с вооружением от 80 до 100 пушек калибром 6, 9, 12, 18, 32 фунта, среди которых также преобладали средние и крупные стволы. Линейные корабли 3-го ранга (45-50; 12-13; 12-15; 5-5,5 метров) получали от 60 до 80 пушек, стрелявших снарядами весом 6, 9, 12, 24 фунта. Из них средние и крупные системы составляли около двух третей общего количества. Последний – четвертый – ранг линейных кораблей (40-45; 11-12; 12; 5 метров) объединял те, что имели от 46 до 60 пушек калибром 6, 9, 18 фунтов. Крупных орудий на них не устанавливали, а число средних достигало 50% от всей артиллерии судна.
Военными кораблями 5-го ранга обычно считались фрегаты и корветы. По конструкции и архитектуре они напоминали друг друга, но фрегаты, как правило, были несколько крупнее. Их основные размеры в среднем можно обозначить, как 25—35 метров длины и 7—10 ширины, высота от киля до верха надстроек 10-11 метров, осадка 3—4. Огневая мощь заключалась в небольших по военно-морским меркам 3, 6, 9-фунтовых пушках. Хотя иногда на них устанавливали и по несколько орудий среднего калибра. Общее количество артиллерии – от 26 до 40 стволов. Корветы (соответствующие размеры 20-25; 5-7; 6-8; 2,5—3 метра), в отличие от фрегатов, несли еще более слабые орудия калибром 3—6 фунтов, число которых колебалось от 18 до 26 штук.
В заключительный, 6-й ранг кораблей военно-морского флота входило множество типов судов – шнявы, яхты, бригантины, шхуны, галиоты, флейты, пинки, гукоры, люгеры, шмаки, барки и т. д. Размерами они напоминали корветы, но артиллерию получали только малокалиберную – до 3 фунтов. Всего эти суда могли носить от 4 до 20 пушек.
Линейные корабли всех четырех рангов при встрече с эскадрой противника, если она, конечно, не особенно превосходила их по числу судов или по количеству и калибру пушек, старались навязать ей бой. Повернувшись к неприятелю бортами и вытянувшись в линию (отсюда и название) они стремились артиллерийскими залпами нанести «оппонентам» повреждения. Подбитых брали на абордаж – подходили вплотную и высаживали десантную партию, которая в рукопашном бою захватывала судно.
Задача военных моряков считалась выполненной, даже если противник не уничтожался, а просто принуждался к уходу в собственные базы, так как и в этом случае, море переходило в полную власть того, кто на нем оставался. Иными словами, продолжал пользоваться коммуникациями, угрожал высадкой десантов в любой точке побережья, и вообще делал все, что хочет (например, ловил рыбу), не позволяя ничего подобного врагу.
Поэтому любой флот стремился иметь как можно больше линейных кораблей. Впрочем, при острой нужде в боевую линию иногда ставились и крупные фрегаты. Но основной задачей этого типа судов являлась все-таки разведка и крейсерские операции. То есть действия на коммуникациях неприятеля или, говоря проще, уничтожение торговых кораблей противника, посредством чего весьма эффективно подрывалась вражеская экономика.
Корветы употреблялись для тех же целей, что и фрегаты, однако к сражениям линейных сил их не привлекали. Огромные орудия 100-пушечных линкоров были способны разнести небольшие суденышки в щепки, а мелкая артиллерия корветов не могла причинить вреда гигантам. Шнявы, яхты, пинки, флейты, галиоты и прочие военные суда 6-го ранга использовались для дозорной и посыльной службы, для транспортных нужд и других вспомогательных целей.
Кроме вышеперечисленных морских сил, существовали и прибрежные, которые иногда еще весьма красноречиво именовались «армейским флотом». Корабли из его состава к морю практически никакого отношения не имели, так как использовать их в борьбе за «большую воду» – открытые моря и океаны – было невозможно. Они предназначались только для совместных действий с приморскими флангами сухопутных армий.
Главной ударной силой «армейского флота» являлись бомбардирские корабли и прамы, которые, по сути, были не судами, рассчитанными на морские плавания, а прибрежными плавучими батареями. В зависимости от размеров они вооружались 2—18 орудиями среднего и крупного калибров, а также 8—12 малыми пушками. Вспомогательную роль при них выполняли боты, пакетботы, куттеры и ранее упоминавшиеся военные суда 6-го ранга.
То есть «плавсредства» небольших размеров и с малой осадкой, позволявшей им передвигаться по мелководью. В военных флотах средиземноморских государств все еще применялись средневековые галеры и скампавеи. Галеры представляли собой плоскодонные гребные корабли с одним рядом весел (от 15 до 50 по каждому борту, по 4—7 человек на весло). В длину они достигали от 30 до 60 метров, в ширину от 5 до 10, высота от дна до верха надстройки составляла до 5 метров, осадка 1-2. Большие галеры вооружались одним орудием крупного калибра, двумя среднего и полутора десятком мелких пушек. Галеры поменьше несли орудие среднего калибра и около десятка мелких. Скампавеи были судами, похожими на галеры, но несколько меньших размеров с соответствующим вооружением. К концу XVII в. и галеры и скампавеи в сущности уже тоже являлись частью «армейского флота», поскольку вдали от берегов угрозы кораблям первых пяти рангов не составляли.
По «гамбургскому» счету
Несколько слов необходимосказать еще об одном важном аспекте. По своей внутренней сути флот совершенно не соответствовал тому жизненному укладу, который сформировал главные черты народного характера северо-восточных славян. Поэтому уже домонгольская Русь в значительной мере утратила доставшиеся ей в наследство от варягов великолепные традиции мореходства. А к периоду развала Золотой орды на отдельные ханства ставшая обыкновенным татарским улусом Московия вообще имела самые смутные представления обо всем, что связано с мореплаванием. Лишь этим можно объяснить тот удивительный факт, что Иван III, завоевав Новгород, ликвидировал все торговые отношения с Западом, которые вечевая республика поддерживала с балтийскими соседями по прибрежным коммуникациям. Таким образом, было уничтожено даже то примитивное судостроение, что еще существовало на территории бывших древнерусских княжеств.
В это же время в мире происходили революционные преобразования, обусловленные прежде всего мореходством. Как реакция на закрытие турками извечных торговых дорог в Азию, появился нокаутирующий ответ европейцев – изобретение каравеллы – большого парусного корабля, вооруженного пушками и способного ходить против ветра. Далее последовала череда выдающихся географических открытий, колонизация новых территорий, налаживание океанских сообщений, породивших мировой рынок, – благодатный чернозем для динамичной западной экономики.
Кто владеет морями, тот контролирует ситуацию в любом уголке земного шара. Данную аксиому лучше других усвоили англичане, последовательно устранившие к концу XVII в. двух других морских грандов-конкурентов – Испанию и Голландию. А все XVIII столетие Британия вела смертельную борьбу за океаны с Францией. На фоне этих титанических противостояний великих флотов боевые действия на морском театре Северной войны 1700– 1721 гг. (в «Балтийской луже»), выглядели (и, разумеется, являлись) второстепенным конфликтом регионального значения.
Выход к берегам Балтики в конце XVII в. имели всего четыре государства: Швеция, Дания, Речь Посполитая и Бранденбург-Пруссия. Но только первые два располагали сколько-нибудь заметными военно-морскими силами. Именно между ними в предыдущие 200 лет (после упадка Ганзейского союза) и шла борьба за превосходство на Балтийском море. Тот, кто брал верх, получал право контроля за торговыми дорогами региона, а, следовательно, и возможность пополнять свою казну немалыми деньгами.
В морских сражениях, как правило, побеждали датчане, но на суше в XVII столетии успеха чаще добивались шведы. Поскольку Балтика является сравнительно небольшой водной акваторией, то Стокгольм усилиями своей армии в конце концов овладел почти всем периметром побережья. Однако на воде Дания, как и прежде, преобладала, угрожая в любой момент прервать коммуникации между разделенными морем провинциями Швеции. Последняя при всем старании изменить ситуацию так и не смогла [56]56
Яркой иллюстрацией превосходства датского флота над шведским являются боевые действия на море во время Сконской войны 1675-1679 гг., в которой во всех без исключения крупных сражениях (у Борнхольма и Эткольма в 1676 г., а также у Кьеге и Ростока в 1677 г.) наголову разгромленными оказывались именно эскадры Швеции.
[Закрыть].
Датские моряки все время оказывались более умелыми. Они с пренебрежением называли шведов «крестьянами, случайно попавшими в соленую воду». В этот давний спор и решил вмешаться русский царь Петр I, для которого желание пробиться к Балтийскому морю и обзавестись там собственными кораблями превратилось в главную государственную мечту. Поскольку теми территориями, на которые претендовала Россия, владела Швеция, то Копенгаген стал для Москвы естественным союзником.
Несмотря на завидную морскую родословную, восходящую к зубастоголовым дракарам викингов, и датчане, и шведы не входили в вышеупомянутый элитный «клуб» народов-мореходов, боровшихся за контроль над главными океанскими дорогами. Поэтому ни в славных экспедициях времен великих географических открытий, ни в дерзких походах эпохи колониальной экспансии они не участвовали. Правда, шведы, через полтора века после путешествия Колумба, отправили было к Северной Америке эскадру. И даже попытались занять кусок территории в районе озера Делавер. Но голландцы мгновенно пресекли это поползновение, бесцеремонно изгнав лишнего претендента на дележку лакомого пирога и недвусмысленно указав тем самым Стокгольму его место в мировой морской иерархии.
Однако для русских, которые в подавляющем большинстве вообще не знали, что такое море и какую пользу из него можно извлечь, любой второстепенный флот казался необычайно грозным противником. Поэтому в отечественной историографии, посвященной морским баталиям Северной войны, шведы (растерявшие за тысячу лет большинство из тех качеств, которые позволяли их предкам-норманнам держать за горло весь мир) все равно предстают едва ли не лучшими на планете моряками. Эту поправку всегда необходимо иметь в виду.
ШВЕДСКИЙ БЛИЦКРИГ
КАМПАНИЯ 1700 г.Северная война на море началась с противостояния старых противников – шведов и датчан. Они располагали примерно равными по численности военно-морскими силами. К лету под рукой Карла XII находилось 38 линкоров (от 48 до 110 пушек) и 12 фрегатов (от 26 до 42 пушек). Суммарное количество установленных на них артиллерийских орудий составляло 2700 стволов среднего и крупного калибра.
Кроме того, имелось несколько десятков более мелких судов (от 4 до 20 малокалиберных пушек), использовавшихся для вспомогательных задач на Балтике и на сообщавшихся с морем больших озерах. Личный состав экипажей кораблей насчитывал 16 000 матросов. В дополнение к боевым эскадрам шведы могли еще задействовать для военно-транспортных нужд и торговый флот численностью около 800 судов [57]57
Для сравнения заметим, что, например, Голландия, сопоставимая по количеству населения со Швецией, в XVII в. обладала флотом в 15 000 военных и купеческих кораблей. Этот факт дает весьма наглядное представление о том, какое расстояние отделяло Швецию от истинно великой морской державы.
[Закрыть]. Боевые действия на море в первый год Северной войны были необычайно крупномасштабными для Балтийского региона, но скоротечными и почти бескровными. В конфликт между Данией и Швецией могли легко втянуться германские государства. Это подорвало бы антифранцузскую коалицию, с большим трудом созданную Англией и Голландией для того, чтобы не дать Людовику XIV присоединить к своим владениям всю огромную территорию испанской империи, которая со дня на день могла стать «бесхозной» после неминуемой смерти Карла II, не имевшего законных наследников. По сей причине англичане и голландцы были крайне заинтересованы в сохранении спокойствия в северной части Европы [58]58
Людовик XIV Бурбон – один из самых выдающихся монархов Франции – «Король-Солнце», правивший в 1643—1715 гг. Карл II Габсбург – король Испании (из Австрийского дома), правивший в 1665—1700 гг.
[Закрыть].
Поскольку агрессором в данном случае являлась Дания, то Британия и Нидерланды решили оказать прямую военную поддержку Швеции, рассчитывая, что при их помощи Карл XII быстро восстановит мир на Балтике. Поэтому в середине лета к берегам Скандинавии отправилась объединенная англо-голландская эскадра в составе 25 не самых крупных линейных кораблей. Ей навстречу вышли 35 шведских линкоров. Авторитет великих морских держав был столь непререкаем, что датский флот в составе 40 линейных кораблей, несмотря на относительную малочисленность эскадры грандов, так и не осмелился воспрепятствовать их соединению с противником.
Обретя мощное морское прикрытие, совершенно нейтрализовавшее датские корабли, Карл XII посадил на транспортные суда десантную армию и быстро перекинул ее к Копенгагену. Там, около неприятельской столицы, он и провел свою первую операцию из числа тех, что приводили в удивление всю Европу, изящным «блицкригом» принудив датчан к миру.
После этого англичане и голландцы уплыли домой, а шведский флот в октябре выполнил еще одну транспортную операцию, перебросив из Скандинавии в Ливонию королевскую армию с лошадьми и артиллерией, которая затем заставила отступить саксонцев от Риги и разгромила русских под Нарвой. На этом первый крупномасштабный этап боевых действий на море в Северную войну закончился. Противников на Балтике у шведов больше не осталось, поэтому основная часть их флота получила долгую 9-летнюю передышку.
Но она не пошла на пользу скандинавским морякам. Львиную часть бюджета их страны поглощала бесконечная война на суше, в которую втянулся Карл XII, а корабли тем временем выходили из строя. Век деревянного парусника недолог. В среднем 25-30 лет. И на замену сгнившему требуется строить новый. Именно из-за этого флот всегда представлял собою дорогостоящий инструмент. А так как денег у Стокгольма становилось все меньше и меньше, то и его морская мощь неуклонно снижалась. Но в начале Северной войны мало кто сомневался в конечной победе шведов.
РЕЙД НА АРХАНГЕЛЬСК
КАМПАНИЯ 1701 г.Первую операцию, направленную непосредственно против России, шведский флот провел лишь во второе военное лето. 30 марта Карл XII подписал указ, где ставил морякам задачу организовать экспедицию вокруг Скандинавского полуострова в Белое море. Он приказал разорить прибрежные селения и самое главное – войти в Северную Двину, чтобы уничтожить расположенный выше ее устья город Архангельск.
С той поры, как в середине XVI столетия англичане открыли морской путь на русский север, эта коммуникация полтора века оставалась единственной ниточкой, напрямую связывающей Россию с Западом. По ней в «Третий Рим» приплывало большинство из тех товаров, которые в отсталой Московии производить не умели. Энергичные европейцы сразу же поняли все выгоды северной торговли, так как не зная мореплавания, русские купцы покорно ждали прихода иностранных партнеров, диктовавших им свои цены. К концу XVII в. туда каждое лето приходили десятки кораблей (главным образом английских, голландских и немецких), набитых различными товарами.
Петр I, начав создавать в России регулярные вооруженные силы и современную промышленность, естественно, вынужден был увеличить европейские закупки (только в Голландии, например, было приобретено 15 000 мушкетов последней конструкции). С запада к беломорским берегам сплошным потоком хлынули оружие, боеприпасы, оборудование для заводов и фабрик, части корабельных конструкций и прочая военная продукция (если до 1700 г. в устье Северной Двины ежегодно входили до 50 кораблей, то в 1701 г. уже 107, а в 1702-м – 154 судна). Поэтому Архангельск для петровской России из стратегически важной ярмарки превратился в жизненно необходимый порт, потеря которого оборачивалась невозможностью продолжать Северную войну [59]59
Зависимость русской армии от импорта продолжала существовать долго – даже в год Полтавской битвы в Архангельске выгрузили 35 000 ружей, изготовленных в Европе. При относительно скромной численности армий того века, это очень внушительная цифра.
[Закрыть].
Как уже упоминалось, шведский флот после победы над Данией противников не имел. Его сил с избытком хватало для организации хорошо подготовленной экспедиции на русский север. Однако скандинавы совершили типичную ошибку воюющей стороны, которая прекрасно осознает свое явное качественное превосходство над противником. Они переоценили это преимущество и отнеслись к планированию рейда недостаточно серьезно.
Шведы отправили в Белое море всего 3 фрегата и 4 вспомогательных парусника – «Варберг» (42 пушки), «Эльфсборг» (40), «Марстранд» (26), «Мьехунден» (6), «Фалькен» (5), «Сулен» (4), «Тевалитет» (4). То есть суда с общим вооружением, уступавшим мощи даже одного большого линейного корабля. Численность экипажей флотилии составляла лишь 850 человек, что сильно ограничило возможности формирования десантных партий. Возглавил экспедицию командор Леве.
В распоряжении архангельского воеводы князя Прозоровского имелось 2400 солдат и стрельцов, а также около 100 пушек, установленных на батареях вдоль русла реки от устья до города. Голландские купцы заметили отряд шведских кораблей и предупредили русских, которые успели подготовиться к отражению нападения.
В июне шведы добрались до Северной Двины. Но ее фарватера они не знали. Если бы Леве имел более крупную эскадру, то мог бы высадить десант, который по берегу реки достиг бы Архангельска. Однако в реальности сил для такой акции у него не хватало. Подвергать фрегаты риску командор не решился. 6 июля он отправил на разведку 3 малых вспомогательных судна (120 человек), 2 из которых в районе русских батарей сели на мель. После перестрелки шведы отчаялись спасти оба аварийных корабля, перебрались на третий и вернулись к фрегатам.
Потери в этой стычке составили у русских 13 убитых, 17 раненых, 7 пленных. У шведов – один убитый и два раненых. Кроме того, скандинавы бросили шняву «Мьехунден» и галиот «Фалькен». Больше входить в Двину они не пытались. Разорив несколько близлежащих селений, Леве взял обратный курс на Швецию. Таким образом, операция, потенциально способная повлиять на ход войны, оставила в истории след лишь в виде заурядной перестрелки [60]60
«Подправил» прошлое в поздние сталинские годы известный писатель Юрий Герман, изобразивший в своем романе «Россия молодая» двинскую перестрелку как крупное сражение. Снятый по мотивам этого произведения в 80-е гг. одноименный многосерийный телебоевик окончательно закрепил в памяти большинства россиян мифические масштабы события.
[Закрыть].
Впрочем, даже не уничтожение Архангельска, а всего лишь блокада устья Двины в недолгие летние месяцы, тоже могла принести шведам желаемые результаты, но для подобной акции опять требовались большие силы и более основательная подготовка. Хотя ничего катастрофического дли скандинавов не случилось. Боеспособного флота Россия не имела еще много лет, поэтому Стокгольм в любой последующий год мог повторить операцию с учетом допущенных ранее ошибок. Однако почему-то этого не сделал. Данный факт является одной из любопытнейших загадок Северной войны.
Кстати, Петр I был уверен, что нападение последует уже на будущий год. За осень и зиму он постарался резко увеличить обороноспособность своих вооруженных сил в районе двинского устья, а летом даже прибыл туда сам с гвардией [61]61
В течение почти всей первой половины Северной войны местопребывание Петра может служить своего рода компасом. Как правило, там, где он находился, намечались главные события.
[Закрыть]. Но ожидание оказалось напрасным – шведы не появились. А Архангельск до последнего периода Северной войны оставался главным «приемным пунктом» для «ленд-лиза» того времени.