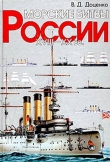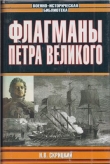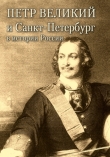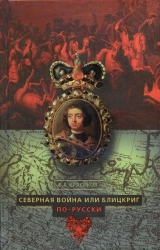
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Столкновение произошло 9 января у мызы Эрестфере. Началось оно с очередной грубой оплошности Бориса Петровича, слишком понадеявшегося на свое подавляющее численное превосходство. Он не стал ждать отставшую пехоту и атаковал противника с одной кавалерией. В результате оказался на грани разгрома.
Положение спас его заместитель – энергичный генерал Чамберс, сумевший-таки подоспеть на помощь в последний момент.
Таким образом, была одержана первая за более чем сто лет полевая победа над шведами. А победителей, как известно, не судят. Поэтому Петр сразу же простил фельдмаршалу все мнимые и настоящие грехи, лучшим доказательством чему стало пожалование высшей награды – ордена святого Андрея Первозванного – всего четвертого по счету со дня его учреждения. Все солдаты, участники сражения, получили по серебряному рублю (10-ю часть годового оклада), а в Москве устроили грандиозный праздник с колокольным звоном, пушечным салютом, даровой едой и выпивкой «от пуза» для простого народа.
«Звездный час» Шереметева растянулся на два с лишним года. В конце лета 1702 г. он добил остатки корпуса Шлиппенбаха и разорил Лифляндию почти до самой Риги, основательно уменьшив тем самым экономическую базу неприятеля. А осенью совершил бросок к Ладожскому озеру, где соединился с полками, приведенными царем, и участвовал в овладении Нотеборгом – стратегически важной цитаделью скандинавов.
В кампанию следующего года фельдмаршал, опять вместе с Петром, успешно осаждал другой оплот шведов в том регионе – город-крепость Ниеншанц. После чего предпринял новое вторжение в Ливонию, разорив на сей раз почти всю территорию Эстляндии. Но «лебединая песня», в конце концов, тоже закончилась. Произошла эта неприятность в 1704 г., когда он получил приказ самостоятельно овладеть еще одним крупным опорным пунктом шведов – Дерптом.
В течение целого месяца Борис Петрович пытался организовать осаду и даже предпринял бомбардировку неприятельских фортов, однако все усилия оказались бесплодными. Фельдмаршал все-таки недостаточно разбирался в тонкостях современной военной техники. И если в поле при огромном численном превосходстве ему до той поры удавалось опрокинуть врага, то против высоких стен и огня тяжелых орудий противника Шереметев ничего поделать не мог. Только спешный приезд царя спас операцию.
Давно известно, что невзгоды чаще, чем удачи, приходят не в одиночку. И дерптская осечка явилась сигналом к их очередному сбору на жизненной тропинке старого солдата. Петр I вновь начал постепенно терять доверие к способностям своего главнокомандующего. Поэтому, когда в Россию приехал шотландец Огильви, Борису Петровичу пришлось отдать большую половину армии в его руки.
Конфронтация, возникшая между двумя этими полководцами, в итоге завершилась победой иностранца. Чему, по всей видимости, поспособствовал и еще один удар судьбы, обрушившийся на русского фельдмаршала 26 июля 1705 г. в виде поражения в сражении у Мур-мызы. В тот день случилось то, что согласно теории вероятности непременно когда-то должно было случиться. Шереметев встретился с более талантливым военачальником, чем его прежние противники, которого не удалось одолеть простым численным большинством. И хотя откровенных репрессий со стороны царя за это не последовало, спустя короткое время Борису Петровичу пришлось покинуть действующую армию и отправиться в глубокий тыл, усмирять астраханский бунт. Иными словами, заниматься тем, что обычно поручалось вспомогательным войскам и второразрядным командирам.
В последующие годы фельдмаршал опять не раз номинально занимал самые высокие посты, однако прежней заглавной роли в Северной войне уже больше никогда не играл. В данном плане весьма показательно то, что даже после полтавского триумфа, когда награды хлынули щедрым потоком на большинство генералов, ему пришлось довольствоваться очень скромным пожалованием, более похожим на формальную отмашку – захудалой деревенькой с прямо-таки символическим названием Черная Грязь [131]131
В то же время нельзя сказать, что Петр уж совсем плохо относился к фельдмаршалу Достаточно вспомнить один пример. В 1712 г. – по достижении 60-летия – Борис Петрович впал в очередную депрессию, потерял вкус к жизни и решил удалиться от мирской суеты в монастырь, что бы там – в полном покое провести остаток своих дней. Даже обитель выбрал – Киево-Печерскую лавру Петр, узнав про мечту, рассердился, посоветовав соратнику «выкинуть дурь из головы». А, что бы ему легче было это сделать, приказал немедленно жениться. И не откладывая дело в долгий ящик, тут же лично подыскал невесту. – молодую 26-летнюю вдову собственного родного дяди Льва Кирилловича Нарышкина – Анну Петровну. Надо признать, что царь оказался прав. «Порох в пороховницах» у полководца еще имелся. За последующие годы совместной жизни молодожены «настрогали» пятерых (!!!) детей.
[Закрыть].
Впрочем, и современные исследователи, оценивая реальные достижения Шереметева с точки зрения европейского военного искусства, соглашаются с царем, ставя фельдмаршалу не слишком лестную отметку. Например, Александр Заозерский – автор самой подробной монографии о жизни и деятельности Бориса Петровича – высказал следующее мнение: «…Был ли он, однако, блестящим полководцем? Его успехи на полях сражений едва ли позволяют отвечать на этот вопрос положительно. Конечно, под его предводительством русские войска не раз одерживали победы над татарами и над шведами. Но можно назвать не один случай, когда фельдмаршал терпел поражения. К тому же удачные сражения происходили при перевесе его сил над неприятельскими; следовательно, они не могут быть надежным показателем степени его искусства или таланта…»
Но в народной памяти Шереметев навсегда остался одним из основных героев той эпохи. Свидетельством могут служить солдатские песни, где он фигурирует только как положительный персонаж. На этот факт, наверное, повлияло и то, что полководец всегда заботился о нуждах рядовых подчиненных, выгодно отличаясь тем самым от большинства других генералов.
В то же время Борис Петрович прекрасно ладил с иностранцами. Достаточно вспомнить, что одним из лучших его приятелей являлся шотландец Яков Брюс. Поэтому европейцы, оставившие письменные свидетельства о России петровского времени, как правило, хорошо отзываются о боярине и относят его к числу наиболее выдающихся царских вельмож. Например, англичанин Уитворт считал, что «Шереметев самый вежливый человек в стране и наиболее культурный» [132]132
Хотя тот же Уитворт не слишком высоко оценивал полководческие способности боярина: «…Величайшее горе царя– недостаток в хороших генералах. Фельдмаршал Шереметев – человек, несомненно обладающий личной храбростью, счастливо окончивший порученную ему экспедицию против татар, чрезвычайно любимый в своих поместьях и простыми солдатами, но до сих пор не имевший дела с регулярной неприятельской армией…»
[Закрыть], а австриец Корб отмечал: «Он много путешествовал, был поэтому образованнее других, одевался по-немецки и носил на груди мальтийский крест». С большой симпатией отзывался о Борисе Петровиче даже противник – швед Эренмальм: «…В инфантерии первым из русских по праву может быть назван фельдмаршал Шереметев, из древнего дворянского рода, высокий ростом, с мягкими чертами лица и во всех отношениях похожий на большого генерала. Он несколько толст, с бледным лицом и голубыми глазами, носит белокурые парики и как в одежде, так и в экипажах он таков же, как любой офицер-иностранец…»
Во второй половине войны, когда Петр все же сколотил крепкий конгломерат из европейских и собственных молодых генералов, он стал все реже доверять фельдмаршалу командование даже небольшими корпусами на главных театрах боевых действий. Поэтому все основные события 1712-1714 гг. – борьба за северную Германию и завоевание Финляндии – обошлись без Шереметева. А в 1717 г. он заболел и вынужден был просить долгосрочный отпуск.
В армию Борис Петрович больше не вернулся. Болел он два года, и умер, так и не дожив до победы. Уход из жизни полководца наконец-то окончательно примирил с ним царя. Николай Павленко, один из самых тщательных исследователей петровской эпохи, по данному поводу написал следующее: «Новой столице недоставало своего пантеона. Петр решил создать его. Могила фельдмаршала должна была открыть захоронение знатных персон в Александро-Невской лавре. По велению Петра тело Шереметева было доставлено в Петербург и торжественно захоронено. Смерть Бориса Петровича и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи».
Восставший из пепла
Воинская наука большинства российских по происхождению генералов Петра I началась с шалостей собранной специально для развлечений юного царевича компании сверстников. Первый, совсем маленький отряд составили дети бояр, определенные на службу к будущему монарху конюшими, спальниками и стольниками после того, как ему исполнилось 5 лет. Согласно обычаю, именно с этого возраста мальчикам правящей династии уже полагалась своя «потешная» свита. Но вскоре выяснилось, что венценосного отрока мало интересовали традиционные забавы. Всему остальному он предпочитал игры в войну.
Поэтому постепенно его команда начала разрастаться в размерах. Сначала за счет штата разнообразной дворцовой прислуги. Потом с помощью наиболее смекалистых мелкопоместных дворян, догадавшихся таким образом устраивать будущее своих отпрысков. А затем и путем приглашения знакомых с военным делом иностранцев.
Из всех этих, так не похожих друг на друга людей, в конце концов и сформировался тот удивительный «винегрет», который в последующие годы царствования Петра в основном и поставлял ему помощников. В том числе, естественно, и военачальников.
Понятно, что в столь разнообразной среде юноши из наиболее знатных российских родов не составляли подавляющего большинства. К тому же лишь единицы из числа этих привилегированных «патрициев» оказались способными выдержать конкуренцию за «место под солнцем», навязанную им шустрыми выскочками и иностранцами. Из тех, кто принадлежал к одному поколению с Петром I, такого успеха в первые годы Северной войны удалось добиться лишь единственному «гранду», имевшему титул князя.
Репнин Аникита Иванович (1668—1726), князь, генерал-фельдмаршал с 1725 г. В Северной войне командовал тактическими и стратегическими группировками. За поражение под Головчино разжалован в рядовые, но затем восстановлен в генеральском звании. В 1724—1725 гг. президент Военной Коллегии Российской империи.
Род Репниных в числе 28 наиболее знатных княжеских фамилий московской Руси принадлежал к той ветви Рюриковичей, которая известна как потомство князя Михаила Черниговского, канонизированного церковью в ранге святых. А непосредственным своим родоначальником Репнины считали князя Репню-Оболенского. Он жил во второй половине XV и начале XVI вв. и был боярином-воеводой у великих князей Ивана III и Василия III.
Его дети, внуки и правнуки также служили преимущественно на военном поприще, но особо выдающимися свершениями никто из них себя не прославил. Военачальником средней руки являлся и родитель будущего фельдмаршала – Иван Борисович. Солдатский жребий бросал этого человека от одного рубежа государства к другому и Аникита Иванович появился на свет, когда отец исполнял обязанности смоленского воеводы.
В 1679 г. Ивана Борисовича пожаловали престижной должностью начальника Сибирского приказа, на которой он и оставался в течение последующих 18 лет вплоть до ухода из жизни. Сына же, по достижении 15-летнего возраста, ему удалось определить ко двору малолетнего царя Петра в качестве стольника. Дальнейшую карьеру Аникита строил уже в основном благодаря собственным способностям.
Несмотря на 4-летнюю разницу в возрасте, которая в детстве ощущается достаточно явственно, юному князю удалось быстро подружиться с царственным отроком и стать его неразлучным приятелем. Поэтому, когда Петр начал организовывать свое знаменитое «потешное» войско, Репнин оказался в числе тех немногих русских, кто наряду с иностранцами сразу же стал обладателем офицерского шарфа и должности командира роты. А спустя всего два года имел уже полковничий чин.
В последующем князь продолжал оставаться ближайшим сподвижником царя, участвуя во всех его начинаниях. И хотя современники не отмечали за ним каких-либо особенных заслуг, кроме преданности монаршей особе, именно Репнин в первом Азовском походе оказался единственным командиром, которому в столкновениях с врагом улыбнулась удача. Руководимая им часть петровского войска захватила выдвинутые перед турецкой крепостью береговые башни – так называемые «сторожевые каланчи». Впрочем, победа эта была лишь частным успехом и не смогла скрасить горечи от общего плачевного впечатления, оставленного кампаниями 1695—1696 гг.
Когда Петр по возвращении из своего первого вояжа по странам Запада начал готовиться к войне со Швецией и организовывать регулярную армию на манер европейских, князю вновь доверили хотя и не первую, но и не последнюю роль. В декабре 1699 г. он возглавил комиссию, направленную в Казань набирать в поволжских городах солдат для нового войска. К осени Аникита Иванович скомплектовал 12 полков. Из них 9 (общей численностью 10 834 человека) составили отдельный корпус, который возглавил сам Репнин.
На театр боевых действий соединение выступило уже после объявления войны Карлу XII. Но подготовку к боям по извечной российской традиции провели из рук вон плохо. Двигались части медленно, а потому к Нарве не успели добраться даже к началу зимы. Это обстоятельство и спасло корпус от разгрома, а князя избавило от участи многолетнего пленника. А так как в тот момент у царя, кроме Шереметева, вообще не имелось сколько-нибудь приемлемых кандидатур на неожиданно освободившиеся генеральские посты, то опоздавший Репнин автоматически занял одну из главных вакансий.
Петр поручил ему собирать осколки только что разбитой шведами армии и вновь формировать из них боеспособные подразделения. К началу 1701 г. Аникита Иванович доложил, что уцелело немногим более 10 000 беглецов, которые вместе с приведенными им с юга полками составили новое войско, численностью 22 937 солдат. За время зимней передышки его основательно пополнили и подтянули из центральных областей страны дополнительные резервы, возродив таким образом еще большую, чем прежде, действующую армию.
Половину ее (30 000 человек) возглавил Шереметев, сконцентрировавший свои части в районе Пскова. К Ладоге выдвинулся отряд Петра Апраксина (10 000). А Репнин принял команду над особым «помощным» корпусом в составе 19 солдатских и 1 стрелецкого полка (20 000), который согласно недавней договоренности Петра и Августа направился к Риге, где поступил в распоряжение саксонцев и в дальнейшем действовал совместно с союзниками.
Но плодотворного сотрудничества не получилось. Европейцы опасались сражаться в одном строю с плохо обученными царскими солдатами и старались использовать их лишь в качестве вспомогательной силы, чему Репнин не только не противился, а был даже рад, предпочитая снять с себя таким образом ответственность. В итоге реализовать свое подавляющее численное преимущество войскам Северной коалиции опять не удалось. Шведский король, перейдя в наступление, к середине лета разбил саксонцев и принудил их к отходу в пределы Речи Посполитой. После чего Аниките Ивановичу пришлось спешно уводить «помощников» обратно к Пскову.
Этот бесславный поход стал первой и последней крупной самостоятельной операцией в профессиональной биографии Репнина-генерала. Подняться до уровня требований, предъявлявшихся европейским военным искусством к командирам высокого ранга, он так и не смог. Это сразу же стало ясно всем, кто хоть немного был знаком с постановкой армейского дела на Западе. Поэтому Шереметев уже в феврале 1702 г. в одном из докладов царю просил заменить князя каким-нибудь иностранцем («Хотя и достоин той чести и сердца доброго, только не его дело»), с чем Петр полностью соглашался (резолюция на рапорте гласила: «…князь Никита такой же, как и другие: ничего не знают…»), но необходимость учитывать после крайне неудачного начала войны недовольство «засильем иноземцев» в дворянской среде пришла на помощь потомку Рюрика.
Царь вынужден был пойти навстречу общественному мнению, оставив у руководства армией часть представителей национальной аристократии. А поскольку личная преданность Репнина у монарха сомнений не вызывала, то он и оказался одной из компромиссных фигур. Правда, задач, требовавших инициативы, ему больше не доверялось. Тем не менее князь получил чин полного генерала от инфантерии (заняв следующую после Шереметева ступеньку в армейской структуре) и участвовал во всех главных походах петровских войск первого периода войны.
Он штурмовал Нотеборг, Ниеншанц, Нарву, затем сидел в гродненской ловушке и счастливо бежал оттуда. А в 1708 г. так же, как и десяток других генералов Петра I, во главе отдельного корпуса (в составе 11 пехотных полков) старался преградить Карлу XII дорогу на Москву. Эти усилия долгое время оставались безрезультатными, поэтому в середине лета несколько корпусов объединились неподалеку от Могилева и дали сражение шведскому королю.
Оно вошло в историю Северной войны под названием боя у местечка Головчино. А на генеральской карьере, да и на самой жизни Репнина чуть было не поставило жирный крест. Главный удар скандинавов пришелся как раз по полкам князя, которые вскоре побежали, побросав пушки, обозы и прочее снаряжение. Никто из соседей существенной помощи им оказать не смог. И в результате все русское объединенное войско опять покатилось к востоку. Из корпуса Аникиты Ивановича лишь 800 человек присоединились к Шереметеву как боеспособная часть, а остальных удалось собрать только за Днепром, куда они выходили разрозненными группами по 20—100 человек в течение трех дней.
В принципе, конечно, это поражение не являлось катастрофой – большая часть армии сохранила относительный порядок, но моральный удар получился огромной силы. Шведы в очередной раз подтвердили свое умение воевать при любом количественном превосходстве врага и укрепили овевавший их ореол непобедимости. Еще одна подобная неудача могла окончательно сломить дух русских войск. Поэтому Петр пришел в ярость и принялся «выбивать клин клином» – восстанавливать пошатнувшийся порядок и волю к победе жестокими репрессиями.
При желании свалить вину за Головчино можно было на голову любого генерала, участвовавшего в том бою. Шереметев, например, совершил ошибок, по крайней мере, не меньше Репнина, однако удел главного «козла отпущения» достался князю. Он попал под суд специально учрежденного трибунала, члены которого прекрасно понимали, что царь ждет от них не разбирательства, а расправы над обвиняемым. Потому и приговор выглядел неадекватно суровым – смертная казнь с лишением званий.
В последний момент Петр пожалел старого приятеля. Он даровал ему жизнь, но разжаловал в рядовые и заставил возместить из своего кармана все расходы за брошенное вооружение. Здесь также необходимо отметить, что на суде Аникита Иванович держался с большим достоинством, взяв, по сути, на себя всю вину и избавив от ответственности тем самым почти всех подчиненных. За это благородство судьба воздала ему той же монетой – царь вскоре окончательно сменил гнев на милость.
В сражении у Лесной Аникита Иванович уже командовал полком и за проявленную на поле боя храбрость был восстановлен в чине полного генерала, после чего вместе с Шереметевым и Меншиковым опять встал во главе основных русских сил, противостоявших армии Карла XII на решающем театре боевых действий. Впрочем, самостоятельных операций, он, как и прежде, не проводил. И даже в Полтавской битве руководил лишь сравнительно небольшим соединением.
Тем не менее, в честь этой победы князь получил высшую награду империи – орден святого Андрея Первозванного, что в контексте вышеизложенных событий выглядит как акт полной реабилитации. Однако и в дальнейшем он фактически продолжал оставаться на вторых ролях, хотя в боевых действиях неизменно участвовал на главных направлениях. Его имя осталось в истории долгой осады Риги, трагического Прутского похода, Померанских кампаний 1712—1713 гг. Только в финале Северной войны Аникита Иванович был выведен из действующей армии.
В 1719 г. он занял должность генерал-губернатора Лифляндии, на которой и встретил Ништадтский мир. Давая оценку вкладу Репнина в общую победу над скандинавами, можно сказать, что его жизнь и деятельность – это путь достойного солдата, но посредственного военачальника. Современники с несомненной симпатией вспоминали о нем, хотя и отмечали не слишком большой профессионализм. Даже бывший противник швед Эренмальм, дававший русским справедливые, но безжалостно-жесткие характеристики, об Аниките Ивановиче высказался довольно нейтрально: «…Второй русский генерал инфантерии – князь Репнин. С тех пор как царь наказал его за провинность под Могилевом, он постоянно стремился отличиться. На него жаловались, что он алчен и очень подвержен сладострастию, однако поскольку он умеет обходиться с князем Меншиковым, то сохраняет приобретенную славу и считается хорошим генералом. Благодаря своему красивому лицу и хорошему сложению он считается одним из самых красивых князей в России…»
В последующем судьба продолжала покровительствовать стареющему полководцу. Ему даже удалось занять высшую ступеньку в российской военной иерархии, сменив Меншикова на посту президента Военной Коллегии. Произошло это в 1724 г., когда Петру все-таки надоело бесконечное воровство «Алексашки» и «полудержавный властелин» стал терять свое могущество. В числе прочих наказаний стояло и лишение его должности министра обороны. Однако царь на следующий год умер, и Александр Данилович, благодаря старой дружбе с царицей, вернул утраченное было положение, отослав заодно Репнина на всякий случай из Петербурга в Ригу.
Правда, перед тем также поддержавший Екатерину Аникита Иванович успел получить от нее чин генерал-фельдмаршала. Но это была его последняя крупная удача. Пережить незаслуженную опалу князь не смог. Он так и умер в Риге после продолжительной болезни, не дотянув даже до своего 60-летия.