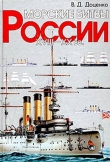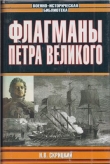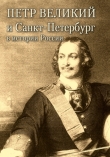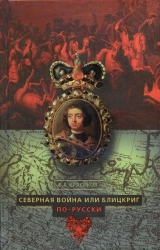
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Царским «пожалованием» за Полтаву стал для Брюса высший русский орден святого Андрея Первозванного, полученный прямо на поле боя из рук самого Петра. Кавалеров этой награды в России было еще немного, и она становилась как бы официальной констатацией того факта, что чужак признан полноправным членом московской элиты. Это очень важный момент, поскольку католик, невзирая даже на древность королевского рода, в православной «святой Руси» все равно оставался «белой вороной». А шотландец вере предков не изменил до самой смерти. И даже женился не на русской женщине, как это часто делали другие европейцы, а на немке Маргарите Мантейфель.
Цитата из записок шведа Эренмальма, попавшего в середине войны в русский плен, помогает увидеть глазами современников главного петровского артиллериста в тот момент, когда он достиг пика своей воинской славы: «Брюс довольно высок и не очень тучен; из-за постоянных размышлений и математических расчетов и страстного желания найти что-либо новое он всегда кажется погруженным в думы. Царь очень его любит за большое искусство, усердие и энергию в делах. Он лучший среди своих и иностранных специалистов в России по артиллерийской и инженерным наукам, будь то в теории или практике. Брюс мог бы добиться еще гораздо большей удачи, поскольку он здесь родился, в совершенстве владеет русским языком, знает повадки, образ жизни и обладает многим из того, отсутствие чего помешало многим храбрым офицерам преуспеть в России. Он также слишком хорошо изучил, как следует себя вести, и находится в большой милости у Меншикова» [124]124
У этого же автора можно почерпнуть и некоторые сведения о других, достаточно известных в Европе артиллеристах, которые могли бы, при удачном для них раскладе, составить конкуренцию шотландцу, но на практике не сумели адаптироваться к местным условиям. Так в 1710 г. контракт с царем подписал австрийский генерал от артиллерии Эрсберг, «…однако из-за своей честности он не ужился среди русских, не смог здесь долго выдержать и следующей зимой уехал обратно…» Весной того же года «…знаменитый прусский артиллерист Слундт ехал определяться на русскую службу, однако в Нарве, впервые обедая у одного русского, распрощался с жизнью, после того как из шести проведенных в городе часов четыре пропьянствовал…»
[Закрыть].
Между тем Северная война после Полтавы продолжалась более 12 лет, и Брюсу еще не раз пришлось выезжать на театры боевых действий. Летом 1710 г. он возглавил артиллерию в армии одного из своих лучших приятелей – фельдмаршала Шереметева, осадившего Ригу. Ее укрепления считались весьма серьезными, однако спланированные шотландцем батареи после 12-дневной бомбардировки принудили-таки скандинавов к сдаче. А с августа 1711 г. Брюс официально стал главным артиллеристом России, получив наконец звание генерал-фельдцейхмейстера, обязанности которого он фактически исполнял уже почти 10 лет [125]125
Звание генерал-фельдцейхмейстера являлось очень почетным, так как в отличие от самых высоких чинов (вплоть до генералиссимуса) его мог носить только один человек. В России с конца XVIII в. оно присваивалось лишь членам императорской фамилии.
[Закрыть].
В последний раз «колдун» руководил пушкарями непосредственно на полях сражений в 1712 г., в Померании. Там Брюс командовал объединенной артиллерией России, Дании и Саксонии. Однако кампания эта никому из союзников особых лавров не принесла. Поэтому эффектной точки для боевой карьеры потомка британских королей не получилось. С тех пор в Северной войне он участвовал лишь опосредовано – работал над улучшением отливки орудий, совершенствовал находившиеся на вооружении артсистемы и организацию тыла «бомбардирского дела». В 1717 г. Петр назначил его сенатором и президентом «Берг и мануфактур коллегии». То есть поручил заведовать всеми, заводами и фабриками России. А спустя еще два года отдал под присмотр генерал-фельдцейхмейстера «все крепости и обретающихся в них служителей и имущество».
Когда же пришло время мирных переговоров со Стокгольмом, то возглавил российскую делегацию на обоих конгрессах (Аландском и Ништадтском) опять все тот же незаменимый Брюс. Диалог дипломатов получился под стать противоборству на полях сражений – долгим и упорным. Но шотландец в конечном итоге вновь оказался победителем. И награда монарха за эту услугу выглядела в прямом смысле слова по-царски, превзойдя все предыдущие вместе взятые – графский титул и 800 крестьянских дворов с несколькими тысячами крепостных в селах Козельского уезда в потомственное владение.
После окончания Северной войны Брюс продолжал оставаться одним из высших сановников Российской империи. И даже после смерти Петра в числе первых получил от Екатерины только что учрежденный второй русский орден – святого Александра Невского. Однако в 1726 г. он все-таки попал в опалу и ушел в отставку в чине генерал-фельдмаршала.
Самолюбивый шотландец сразу покинул столицу, поселился в своем любимом имении, где прожил затем около 9 лет. Один из самых солидных отечественных исторических справочников – «Военная энциклопедия» Сытина рассказывает о последнем отрезке жизни Брюса следующим образом: «Живя здесь в полном уединении, он всецело предался любимому своему занятию – астрономии. Только изредка наезжал он, для проверки своих вычислений, в Москву, где народ, величавший его колдуном, всегда узнавал о его присутствии по свету, мерцавшему в длинные зимние ночи из окон самого верхнего покоя Сухаревской башни, занятой тогда помещением обсерватории…»
Дитя Кокуя и трудолюбия
А вот другой нерусский питомец «гнезда петрова» не дожил не только до глубокой старости, но даже до победы над шведами. Так же, как и многие другие военачальники первого российского императора, он с молодости вошел в число доверенных царских помощников. И затем продолжал играть видную роль в его военной машине. Настолько видную, что если бы был не иностранцем, то наверняка занял бы одно из почетных мест в галерее отечественных военных деятелей. Достаточно сказать, что именно под его пером родился первый устав для европеизированной армии «Третьего Рима».
Вейде Адам (1667—1720), генерал-аншеф с 1714 г. Участвовал в Северной войне, кроме 1701—1710 гг., когда находился в плену. Командовал крупными соединениями и работал над совершенствованием организации русской армии, став в итоге президентом Военной коллегии, курировавшей все вопросы, связанные с обороноспособностью новой империи.
Судьба Адама Вейде служит еще одной иллюстрацией тех почти неограниченных перспектив, что открывались в петровской России перед европейцами, которые не имели родовых титулов и званий, но обладали природным умом и энергией. Ведь один из будущих крестных отцов русского регулярного воинства являлся всего лишь сыном простого немецкого врача, заброшенного жизненными неурядицами в Московию. Службу в «потешных» сын эскулапа начал по меркам конца XVII в. поздновато. Его ровесники на далекой родине к этим годам обычно переходили в разряд опытных солдат. Многие даже опоясывались офицерскими шарфами. Однако шустрый австриец быстро наверстал упущенное, обогнав в конечном итоге не только всех местных боярских недорослей, но и большинство «кокуйских немцев», являвшихся основными конкурентами в борьбе за самые лучшие места в окружении молодого русского монарха.
Воинская биография Вейде, в общем-то, типична для тех людей, кто принадлежал к одному поколению с Петром I. Начав со стрельбы пареной репой из деревянных пушек, он самоучкой познакомился с инженерным делом и связанными с ним премудростями. Однако с воплощением знаний на практике во время Азовских походов не заладилось. Но царь снисходительно отнесся к ошибкам близкого приятеля и в 1696 г. «цесарец» уже стал майором элитного Преображенского полка, в котором сам государь официально числился только капитаном.
К 30 годам он превратился в крупного вельможу. В записках Иоганна Корба – секретаря венского посланника Гвариента, которые по сей день считаются одним из самых авторитетных источников для исследования раннепетровской эпохи, имя Вейде встречается едва ли не чаще всех других царских сановников. Ему даже посвящена отдельная небольшая глава. И отрывок из нее поможет более полно представить то впечатление, которое этот человек производил на современников: «…из немцев, получив отвращение к обычным занятиям лекарей, определился в военную службу. Побуждаемый желанием достигнуть счастья, сделаться известным государю и заслужить его милость, Вейд без чужой помощи изучил по книгам искусство подводить мины. Он подвел мины, с согласия государя, при осаде Азова, но судьба злобно надсмеялась над старательным трудом Вейда и его минами: взрыв этих мин повредил одним лишь царским солдатам, и несколько сот человек, карауливших вал, взлетели на воздух… Он гордится тем, что светлейший Евгений, готовясь к битве с неприятелем, спрашивал по врожденной ему доброте и вниманию также совета и у него, Вейда. В бытность нашу в Москве Вейд произведен в генерал-бригадиры, каковой чин, быть может, соответствует чину главного начальника стражи…»
Последнее предположение Корба неверно, поскольку в этот момент Вейде занимался разработкой вопросов куда более серьезных, чем проблема охраны и связанная с ней деятельность. Для Петра I после Азовских походов стало окончательно ясно, что организация современных вооруженных сил невозможна без тщательного постижения всех аспектов западного военного искусства. Эта задача начала решаться царем с присущими ему настойчивостью и непреклонностью. Уже в начале 1697 г. для подготовки собственных офицерских кадров за границу «в науку» отправили около 150 стольников, сержантов и солдат. Вместе с ними со специальным заданием ознакомиться с устройством лучших европейских армий поехал и Вейде.
Во время путешествия он внимательно изучил принципы формирования французских, голландских, саксонских и австрийских войск. И даже принял личное участие в боях против турок в армии Евгения Савойского. По возвращении в Россию в 1698 г. Вейде предоставил Петру подробный отчет о своих наблюдениях, изложив их в виде аналитического доклада, после чего царь приказал ему взяться за написание устава для будущей регулярной армии. То есть изложить основы военно-административного существования предполагавшихся полков, обязанности всех чинов от рядового до главнокомандующего и правила строевого обучения солдат.
В этой работе австрийцу назначили помогать еще одного наиболее грамотного в подобных делах петровского сподвижника – Якова Брюса. Но шотландца вскоре отозвали для занятия иными неотложными проблемами, поэтому первые «артикулы» русской армии вошли в ее историю под названием «Устава Вейде». Он был готов к концу столетия, после чего сразу же началось формирование подразделений «новоманирных» войск.
К моменту нападения на Швецию цесарец возглавил одно из трех так называемых «генеральств» новорожденной регулярной армии, в которое вошли 9 только что образованных пехотных и 1 драгунский полк. Соединение создавалось и обучалось в Москве, то есть достаточно далеко от будущего театра боевых действий. И к цели первого похода – под стены Нарвы – сумело добраться только через полтора месяца после объявления войны – в октябре. До конца осени оно осаждало неприятельскую крепость, пока на ее выручку не подошла армия Карла XII.
Азиатский беспорядок русских позволил скандинавам беспрепятственно подготовить атаку и даже измерить высоту и глубину укреплений, которыми осадные полки окружили свой лагерь. «Генеральство» Вейде занимало его левый фланг, примыкая южным краем к правому берегу реки Наровы. Но главный удар Карла пришелся по центру, а затем развернулся на север, оставив против подразделений австрийца лишь небольшой заслон, поэтому его соединение пострадало меньше других в ходе боя.
Можно сказать, что бог войны предоставил Вейде под Нарвой редкостный шанс одним движением решить исход если не всей войны, то первой ее кампании, поскольку основные силы скандинавов, обратив в бегство центр русских, оказались на некоторое время скованными упрямым сопротивлением петровской гвардии на северном фланге. Она в тот момент отчаянно нуждалась в помощи, которую ей и мог оказать корпус цесарца, ударив в тыл не столь уж многочисленному врагу.
Об этой перспективе, анализируя сражение, постоянно пишут даже шведы, вовсе не склонные к сомнениям в закономерности своей победы. Вот что, например, вспоминал камергер короля – граф Карл Вреде: «Если бы у Вейде хватило мужества пойти в атаку, он, несомненно, разбил бы нас, поскольку мы смертельно устали, почти ничего не ели и не спали несколько ночей. К тому же все наши люди так перепились найденной в русских палатках водкой, что немногочисленные офицеры не в состоянии были поддерживать порядок».
Судьба битвы находилась в руках австрийца довольно долго, пока московские полки в центре и на правом краю окончательно не капитулировали. Тогда только скандинавы сумели перебросить против Вейде дополнительные силы. Увидев себя окруженным, цесарец тоже не стал продолжать сопротивление и сдался. Хотя некоторым оправданием его нерешительности в той ситуации может служить ранение, полученное в самом начале боя.
После сражения Вейде, естественно, оказался среди пленников. Зиму он провел в Ревеле, а затем был перевезен в Стокгольм. На Скандинавском полуострове ему пришлось прожить долгих 10 лет. Даже после Полтавы, когда в распоряжении русского монарха появилось достаточно «разменного материала» в виде высокопоставленных военнопленных, вернуть австрийцу свободу Петр смог не сразу. Только в 1710 г. ему удалось выменять своего испытанного соратника на рижского генерал-губернатора графа Нильса Штремберга.
Войны той эпохи велись по давно забытым сейчас рыцарским законам. Например, в периоды зимнего затишья в боевых действиях офицеры могли пользоваться паспортами-пропусками для проезда по неприятельской территории с целью посещения родовых поместий. Столь же мягким было для них и содержание в плену, позволявшее достаточно свободно передвигаться по населенному пункту, определенному в качестве места пребывания, общаться со знакомыми, вести различную переписку и даже жениться.
Правда, рядовых солдат эти правила не касались, но Вейде принадлежал к числу элитных пленников, а потому сумел использовать свою многолетнюю неволю для дальнейшего военного самообразования, досконально изучив организацию шведских войск. Эти знания австрийцу весьма пригодились впоследствии, когда царь вновь поручил ему заняться совершенствованием армейских порядков.
Но после возвращения в Россию, где по-прежнему ощущался острый недостаток в знающих и опытных генералах, Петр I сразу же ввел Вейде в состав действующей армии, которая перебрасывалась на юг для войны с турками. Австриец принял под командование пехотный корпус из 8 полков. Однако первый же поход закончился обескураживающим поражением на берегах Прута. Поэтому на поле боя автору первого российского устава опять отличиться не удалось.
И в дальнейшем как военачальнику Вейде не слишком везло. В кампаниях, отмеченных эффектными победами, он участвовал редко. Да и вообще, несмотря на основательную теоретическую подготовку, проявить себя как практик, отмеченный «искрой божьей», не сумел. Впервые мало-мальски заметного полководческого успеха австриец добился только три года спустя, участвуя в кампании по захвату Финляндии, где цесарцу снова пришлось командовать корпусом. Правда, на этот раз смешанным, состоявшим из 7 пехотных и 3 драгунских полков. Однако противник в 1714 г. настолько уступал русским в силах, что иначе операция закончиться просто; не могла.
Тем не менее царь после Гангутского боя наградил своего старого любимца орденом святого Андрея Первозванного и произвел в чин генерал-аншефа. То есть дал ему отличия, для достижения которых многим другим генералам не хватило целой жизни с куда большими профессиональными достижениями. И потом Петр продолжал благоволить к Вейде. Хотя на театрах боевых действий предпочитал использовать иных военачальников, а цесарца вновь определил на организационную работу, поручив заниматься составлением нового «Воинского устава», вышедшего в свет в 1716 г.
Спустя еще год генерал-аншеф взлетел, по сути, выше всех других российских полководцев, возглавив совместно с Меншиковым петербургскую Военную коллегию. Говоря проще, занял должность, аналогичную современному посту министра обороны. Участвовал он и в суде над царевичем Алексеем, подписав вместе с остальными членами трибунала смертный приговор несчастному наследнику. Но через два года покинул этот мир и сам, сведенный в могилу неожиданной, тяжелой болезнью в июне 1720 г.
Несмотря на то что Вейде, как и подавляющее большинство других «русских» европейцев, не изменил вере предков, оставшись лютеранином, Петр I, отдавая должное заслугам цесарца, приказал похоронить его в главной православной святыне своей новой столицы – Александро-Невской лавре и лично участвовал в погребальной процессии.
Однако о заслугах австрийца в России помнили недолго. С середины XVIII в. ведущая и незаменимая роль иностранцев в создании регулярной русской армии большинством отечественных историков стала ревниво занижаться. Тем не менее, до самой большевистской революции имя Вейде продолжало упоминаться в специальной литературе, в чем можно убедиться, открыв, например, «Военную энциклопедию» Сытина, где цесарец удостоился небольшой персональной статьи.
После коммунистического переворота всех царских генералов сначала без разбору «выкинули на свалку», поголовно признав дураками или патологическими садистами. Однако вскоре Сталин реанимировал некоторые «патриотические ценности» в виде великорусского национализма самой низкопробной закваски. В этом варианте истории места для Вейде, само собой, опять не нашлось. А авторами первого устава русской регулярной армии были «назначены» Петр I и Автоном Головин, о чем и сообщалось во всех официальных изданиях до самой перестройки. Даже в 8-томной Советской военной энциклопедии, изданной сравнительно недавно – в 1976– 1980 гг., упоминание об австрийце отсутствует…
Глава 4.
ПЕРВЫЕ ПАРНИ НА ДЕРЕВНЕ
Либерал, герой и женихПри помощи сравнительно небольшого числа западных наемников Петру Великому в конце концов удалось совершить то, что дотоле всем казалось просто невозможным. Он все-таки покрыл, хотя и тонким, но несомненно европейским культурным слоем почти не затронутые ранее цивилизацией азиатские просторы Московии.
Конечно, результаты «вестернизации» всей страны и армии в частности, стали ощутимо проявляться только к концу Северной войны, когда начала вступать в пору зрелости плеяда «птенцов», выпестованная заботами российского императора. Однако «первые ласточки» перемен заявили о себе еще в конце XVII столетия. Причем были они, как это ни парадоксально, уже зрелыми, сложившимися личностями и принадлежали к гнездам старой боярской верхушки, которая в подавляющей массе ненавидела «царя-антихриста» и ожесточенно сопротивлялась его реформам.
Но в любой семье, как известно, «не без урода». И именно такими «уродами» среди московской родовой знати оказывались наиболее умные люди, понимавшие, что продолжение беспросветной многовековой спячки вскоре неминуемо обернется для «Третьего Рима» повторением стандартного финала всех его ордынских близнецов-предшественников.
Наверное, самым последовательным западником среди русского аристократического «бомонда» конца XVII в. являлся князь Василий Голицын. Но он волею случая (и при посредстве легкомысленного Амура) вопреки логике оказался в лагере политических противников пропетровской «партии Нарышкиных». И поэтому первыми сознательными помощниками «герра Питера» в деле европеизации своей страны стали более умеренные «либералы» – князь Яков Долгорукий, Федор Головин и Борис Шереметев. Однако двоих из этой троицы природа не наделила сколько-нибудь заметными способностями к военному делу, и с новой русской армией неразрывно связанным оказался только один.
Шереметев Борис Петрович (1652—1719), боярин с 1682 г., граф с 1706 г., генерал-фельдмаршал с 1701 г. Участвовал в Северной войне в качестве командующего стратегическими группировками. Командовал русскими войсками в сражениях у Эрестфере (1702 г.), Гуммельсгофе (1702 г.), Мурмызы (1705 г.), Головчино (1708 г.), руководил осадами Мариенбурга (1702 г.), Копорья (1703 г.), Дерпта (1704 г.), Риги (1709-1710 гг.).
Семья Бориса Петровича относилась к числу влиятельных боярских родов и даже имела общих предков с царствующей династией Романовых. Корни своей непосредственной родословной Шереметевы считали с XIV столетия, с княжеского дружинника Андрея Кобылы, впервые упоминающегося в официальной летописи в 1347 г. Его сын Федор Кошка – приближенный у Дмитрия Донского оставил после себя потомство в виде дворян Белозубцевых. От них в следующем веке на генеалогическом древе будущего фельдмаршала отросла ветвь одного из служилых людей великого князя Ивана III по прозвищу Шеремет. Оно и послужило затем базой для возникновения столь известной фамилии.
По меркам середины XVII в. его ближайшие родственники были людьми весьма продвинутыми в культурном плане. И вопреки российским обычаям не питали враждебных чувств к «поганому» Западу. Достаточно сказать, что отец Бориса Петровича, Петр Васильевич Большой [126]126
«Большой», поскольку имел брата – полного тезку – Петра Васильевича Меньшого.
[Закрыть], в бытность свою воеводой Киева в 1666—1668 гг. брил бороду и носил польское платье. А также помешал закрытию местной Академии [127]127
Единственного на территории бывшей Киевской Руси учебного заведения такого уровня, возникшего в период, когда Украина находилась под властью Речи Посполитой.
[Закрыть], которую в Москве не любили и обвиняли в «преступном соглашательстве» с Римом по вопросам веры [128]128
«Вызывающе» по отношению к российскому обществу тех лет вел себя и дядя будущего полководца – Матвей Васильевич Шереметев, выделявшийся среди родни своими способностями, но, к сожалению, рано умерший. Он одним из первых в Москве стал брить бороду, за что протопоп Аввакум в 1648 г. лишил его благословения и обличал, как принявшего на Западе «непотребный и блудолюбный» образ.
[Закрыть].
В это учебное заведение Петр Васильевич определил на учебу и сына. Там Борис Петрович научился говорить по-польски, получил представление о латыни и узнал много того, что было неведомо подавляющему большинству московитов. Столь либеральная атмосфера сформировала и соответствующее мировоззрение молодого человека, что помогло ему в дальнейшем оценить и принять все западнические реформы Петра Великого. Однако свою «государеву службу» он начал в традиционном московском стиле, будучи в 13-летнем возрасте пожалованным в комнатные стольники.
Этот придворный чин обеспечивал близость к монарху, открывая завидные перспективы на будущее, но недоросль Борис, видимо, не умел «толкаться локтями» у трона и поэтому до 26 лет лишь сопровождал царя Алексея Михайловича в «походах» па монастырям, да был рындой – стоял с декоративным топориком в почетном карауле на торжественных приемах. В конце концов, его отец, старый воин, добился, чтобы в очередном столкновении с татарами сына приставили к нему в качестве помощника. Так в 1678 г. Шереметев обрел первый опыт военачальника и вступил в другую, весьма удачную полосу своей жизни.
Следующим летом он уже исполнял обязанности «товарища» (заместителя) воеводы в «большом полку» князя Черкасского. А спустя всего два года возглавил только что образованный Тамбовский городовой разряд, что в сравнении с современной структурой вооруженных сил можно приравнять к командованию военным округом. По вступлении в должность практически сразу же последовало и боевое крещение – пришлось отражать набег небольшого отряда крымских татар.
Почин получился успешным – степняков быстро отогнали. Но все же затем пришлось ждать еще почти год, прежде чем Борису Петровичу присвоили официальный титул боярина. Да и то не за заслуги, а в связи с восшествием на престол новых царей Петра и Ивана. Но затем произошел крутой поворот в карьере. К середине 80-х гг. Шереметеву из полководцев пришлось переквалифицироваться в дипломаты.
На новом поприще «болярин Борис» сразу же выдвинулся на первые роли. В 1685—1686 гг. он оказался в числе четырех главных представителей российской стороны, которым после долгих переговоров удалось-таки заключить с Польшей «Вечный мир» и добиться юридического признания 20-летней давности факта завоевания Москвой Киева. Затем, по прошествии всего нескольких месяцев, Шереметев уже единовластно возглавил посольство, направленное в Варшаву для ратификации договора и уточнения деталей создаваемого антиосманского альянса. Оттуда потом пришлось заехать и в Вену, также готовившуюся продолжить борьбу против турок.
Дипломатическая стезя лучше, чем военная, соответствовала наклонностям и дарованиям умного, но осторожного Бориса Петровича. Однако своевольная судьба решила иначе и повела его по жизни дальше далеко не самой удобной дорогой. По возвращении из Европы в Москву боярину вновь пришлось надеть военный мундир, который он уже не снимал до самой смерти.
Шереметеву довелось участвовать во 2-м крымском походе князя Василия Голицына, а через несколько лет и в борьбе Петра I за берега Азовского моря. Но неудачное антиордынское предприятие фактического соправителя царевны Софьи в 1689 г., конечно же, не добавило авторитета и Борису Петровичу. Может быть, поэтому укрепившийся той же осенью на троне молодой монарх не стал приближать к себе будущего фельдмаршала, несмотря на то что он столь явственно выделялся в лучшую сторону из темной массы реакционного боярства.
Впрочем, главная причина царской немилости, наверное, все же заключалась в том факте, что открыто присоединиться к «партии Нарышкиных» до падения Софьи боярин не рискнул. В то же время ему в период с 1687 по 1696 гг., поручалось командование одним из наиболее беспокойных пограничных округов – Белгородским разрядом, который в первую очередь подвергался татарским нападениям. Но когда царь решил возобновить большую войну со Стамбулом, предприняв поход на Азов, то Шереметев вновь оказался в стороне от главных событий. В 1695—1696 гг. ему доверили лишь отвлекать внимание турок, командуя демонстрациями на вспомогательном Днепровском театре боевых действий.
Бориса Петровича такая ситуация, конечно, угнетала, и он старался изменить ее. В русле этих усилий и лежит его 2-я европейская поездка, в которую он отправился по собственной воле и за свой счет с целью угодить царю.
Боярин покинул Москву через три месяца после отъезда на Запад самого Петра и путешествовал более полутора лет, с июля 1697 г. по февраль 1699 г., истратив на это 20 500 рублей – сумму равную по тем временам целому состоянию [129]129
Истинная, так сказать, человеческая цена подобной жертвы становится понятной из характеристики, данной Шереметеву известным советским исследователем эпохи XVIII в. Николаем Павленко: «…Борис Петрович бескорыстием не отличался, но не отваживался красть в масштабах, дозволяемых себе Меншиковым. Представитель древнейшего аристократического рода если и воровал, то настолько умеренно, что размеры украденного не вызывали зависти у окружающих. Но Шереметев умел попрошайничать. Он не упускал случая напомнить царю о своей «нищете», и его стяжания являлись плодом царских пожалований: вотчин он, кажется, не покупал…»
[Закрыть]. Проехав через Польшу, он вновь побывал в Вене. Затем направился в Италию, осмотрел Рим, Венецию, Сицилию и наконец добрался до Мальты (получив аудиенции за время поездки у польского короля и саксонского курфюрста Августа, императора Священной Римской империи Леопольда, папы римского Иннокентия XII, великого герцога тосканского Козимо III). В Ла-Валетте его даже посвятили в рыцари Мальтийского ордена.
Таким европейским «шлейфом» еще не мог похвастаться ни один россиянин. Поэтому на следующий день после возвращения, на пиру у Лефорта, одетый в немецкое платье, с мальтийским крестом на груди, Шереметев смело представился царю й был с восторгом обласкан. Однако милость оказалась недолгой. Подозрительный «герр Питер», согласно вскоре изданному «боярскому списку», опять повелел Борису Петровичу отправляться подальше от Москвы и быть «у города Архангельского».
Вновь вспомнили о нем лишь через год, с началом Северной войны. Впрочем, было бы, конечно, очень странно, если бы единственный русский воевода с реальным боевым опытом остался бы вдруг в стороне от противоборства со шведами. Но в то время как нанятые за границей генералы и любимцы царя возглавили соединения только что сформированной полевой регулярной армии – главной ударной силы Петра I, Шереметев получил назначение командовать всего лишь «нестройной поместной конницей».
И действительность вроде бы не замедлила подтвердить монаршее недоверие. Отправленные в боевое охранение дворянские недоросли Бориса Петровича при первом же нажиме королевских батальонов бросили удобные позиции и побежали к Нарве (даже не разрушив за собой мосты), где располагалась основная часть царских войск. Таким образом, дорога для Карла XII оказалась открытой. Чем тот, естественно, не преминул воспользоваться, обрушившись на русских, словно неотвратимая божья кара за недавние грехи – умышленное клятвопреступление и вероломное нападение.
Для Шереметева же общий разгром мог обернуться и крахом личной карьеры, поскольку поражение петровской армии у Нарвы опять начало складываться с позорного для боярина эпизода. Именно его кавалеристы побежали первыми, вновь даже не вступив в бой, а только завидев неприятеля. Воеводу толпа паникеров также увлекла в реку, где утонуло свыше 1000 человек его корпуса.
Жизнь Борису Петровичу спас добрый конь, осиливший быстрое течение ледяных волн Наровы. А царскую опалу отвратила печальная судьба всех остальных генералов, в полном составе оказавшихся в плену у торжествующего противника. К тому же после катастрофической неудачи царь пошел на временный компромисс с настроениями своей аристократии и выбрал нового командующего в среде наиболее родовитой национальной верхушки, где Шереметев на тот момент являлся единственным сколько-нибудь знающим военное дело человеком. Таким образом, можно сказать, что, по сути, сама война в конце 1700 г. поставила его во главе основных сил русской армии.
Правда, официально данный факт получил подтверждение только через полгода, когда с наступлением второго военного лета Борис Петрович в адресованных к нему царских письмах стал именоваться генерал-фельдмаршалом [130]130
Это звание вместе с прочими элементами новой армии Петр заимствовал на Западе и ввел в 1699 г. вместо существовавшей до тех пор должности «Главный воевода Большого полка». Первым русским фельдмаршалом перед началом Северной войны номинально стал Федор Головин, но поскольку он был лишь витринной фигурой для дебютной кампании, то реально пальма первенства досталась Шереметеву. Здесь необходимо добавить, что впервые «Главного воеводу» попытались назвать перенятым в Европе словом еще в январе 1696 г., когда ближний боярин Алексей Шеин был «пожалован генералиссимусом». Но тогда этот чин еще не являлся частью цельной армейской структуры, и после смерти Шеина в феврале 1700 г. исчез из употребления в России более чем на 15 лет, пока его вновь не ввели Уставом воинским 1716 г.
[Закрыть]. Это событие закрыло затянувшуюся грустную главу в жизни Шереметева и открыло новую, ставшую, как потом выяснилось, его «лебединой песней». Последние неудачи пришлись на зиму 1700—1701 гг. Побуждаемый нетерпеливыми царскими окриками, Борис Петрович попробовал осторожно «пощупать саблей» Эстляндию (первый указ с требованием активности Петр отправил спустя всего 16 дней после катастрофы у Нарвы), в частности, захватить небольшую крепость Мариенбург, стоявшую посреди скованного льдом озера. Но везде получил отпор и отойдя к Пскову, занялся приведением в порядок имевшихся у него войск.
Боеспособность их была еще крайне невелика. Особенно в сравнении с пусть и немногочисленным, но европейским противником, силу которого Шереметев хорошо представлял, поскольку познакомился с постановкой военного дела на Западе во время недавнего путешествия. Поэтому подготовку он вел в соответствии со своим основательным и неторопливым характером. Существенно ускорить события не смогли даже визиты самого царя (в августе и октябре), рвавшегося возобновить боевые действия как можно быстрее.
Только через год, с наступлением новой зимы, фельдмаршал решился предпринять крупную операцию. Его армия насчитывала не менее 30 000 человек, которым шведы могли противопоставить лишь 5000 солдат и 3000 ополченцев. Тем не менее осторожный Борис Петрович не рискнул бросить в бой всех своих подчиненных, оставив на случай неудачи для обороны Пскова более трети от имевшихся у него сил. В связи с чем в Эстляндию вторглось только 18 000 русских (8000 пехотинцев, 4000 драгун, 6000 казаков и всадников дворянской «нестройной» конницы).
Дробление сил – промах для опытного полководца непростительный. За подобные азбучные ошибки безжалостные боги войны обычно заставляют дорого расплачиваться. Но, как уже упоминалось выше, для Шереметева настала полоса сплошного везения, когда любые «ляпы» остаются без последствий. В данном случае вечно юная красавица Фортуна пришла на помощь к уже немолодому русскому боярину в обличье двух иноземных генерал-майоров.
Командуй неприятельскими полками, защищавшими Ливонию, более искусный полководец, чем Шлиппен-бах, то конец 1701 г. без сомнения оказался бы для русских столь же плачевным, как и финиш предыдущего. Лифляндец же сподобился совершить просчет, аналогичный фельдмаршальскому – не собрал ударный кулак и вынужден был принять бой лишь с частью своего корпуса.