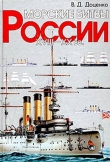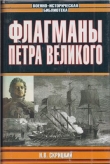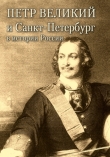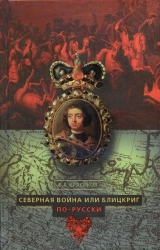
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Конфликты с примерно равными ему по положению русскими военачальниками начали возникать у Гольца уже вскоре после вступления в должность. А с осени 1709 г. противоборство с Меншиковым стало приобретать вид смертельной борьбы, которую барон постепенно, но неуклонно проигрывал. Главная причина изменения ситуации крылась в том, что за Полтаву Петр возвел фаворита в чин генерал-фельдмаршала, что значительно расширяло его официальные полномочия и позволяло легче расправляться с непокорными сослуживцами.
Большие неприятности Гольца начались с того, что невдалеке от района расположения его войск чуть было не попали в плен к партизанам путешествовавшие по Польше жена Меншикова и царевич. «Светлейший», умело раздув эту случайность, с соответствующими комментариями подал ее Петру и начал затем настоящую травлю барона. Тот пробовал искать справедливости. Аргументы, которые он выдвигал в свою защиту, сохранил дляистории секретарь английского посланника в Москве Вейсброд, записавший, что фельдмаршал «…два года вовсе не получал жалованья, что, по совести, не знает за собой никакой вины, что распоряжения свои всегда делал письменно, что все эти распоряжения он сохранил и что ему теперь интересно будет услыхать, в чем можно обвинять его…»
Однако в России логика и законы всегда бессильны перед властью. Выдвинув еще ряд надуманных обвинений, Меншиков все-таки добился в середине 1710 г. ареста Гольца и предания его суду, в ходе которого требовал для барона смертной казни. Правда, на сей раз царский любимец не сумел в полной мере потешить собственные амбиции. Члены суда, опасавшиеся всесильного вельможи, но прекрасно знавшие и о том, как Петр I относится к иностранцам, на всякий случай вынесли двойственный вердикт. Как написал еще один мемуарист-современник, Гольц «…был признан невиновным, однако и должен был быть все же виноват, поскольку фаворит желал именно этого…»
Таким образом, барон на собственной шкуре познакомился со смыслом поговорки «жалует царь, да не жалует псарь». Перспективы его дальнейшей карьеры в России, говоря языком дипломатов, выглядели слишком туманно. В любой момент мог последовать рецидив новых ложных обвинений. И фельдмаршал решил, что с него хватит азиатской экзотики. Во всяком случае, риск побега, очевидно, показался ему меньшим злом, чем дальнейшее покорное ожидание новых прелестей обычных московских будней.
Улучшив момент, в 1711 г. Гольц плюнул на заработанные, но не полученные деньги, и без необходимых документов тайком покинул страну, где его так оригинально отблагодарили за все недавно оказанные несомненные услуги. Удачно миновав границы и кордоны, барон только в Данциге скинул с себя маскировку путешественника. Он прожил на свете еще почти 15 лет, в течение которых судьба не раз посылала ему различные испытания. Но в самом конце своего земного пути этот человек с содроганием вспоминал только российские приключения.
Конечно, Гольц не был военным гением и не оказал глобального влияния на исход войны. По большому счету он так и остался генерал-майором, каких в передовых европейских армиях можно насчитать не один десяток. И которого только российская нищета на полководцев возвела в фельдмаршалы. Тем не менее, история со скандальным судилищем над бароном получила большую известность в Европе. Она нашла отражение в бумагах всех западных дипломатов, находившихся в то время в Москве, а также на страницах воспоминаний частных лиц, нанеся большой урон образу страны-рая для иностранцев, старательно создававшемуся Петром I в период всего его правления.
Правда, после Полтавы Россия уже не нуждалась в зарубежных специалистах так отчаянно, как в первое военное десятилетие, однако и продолжать гонку за цивилизованным миром без их помощи по-прежнему не могла. Поэтому царю пришлось старательно заглаживать негативное впечатление различными примирительными заявлениями в том смысле, что он лично ничего не имеет против ухода ландскнехта с российской службы, а претензии, мол, предъявлял суд в соответствии с законом. Однако можно с уверенностью сказать, что этот случай внес свою лепту в тот факт, что таланты европейского масштаба еще долго не рассматривали Россию, как потенциального работодателя [114]114
Звание фельдмаршала русской армии, кроме герцога Кроа, а также баронов Огильви и Гольца, в период между 1700 и 1721 гг. носил еще только один иностранный генерал. Им был немец фон Эберштедт. Но в Северной войне против Швеции непосредственного участия он практически не принимал, став активным действующим лицом в войсках Петра I лишь на короткое время Прутского похода. Поэтому информацию о нем можно ограничить рамками справки. Эберштедт Л. Г. Янус фон (в российских источниках в основном именуется генералом Янусом). В 1710 г. возглавлял направленный в Польшу корпус русской армии. Но прошведская оппозиция в Речи Посполитой была уже фактически подавлена, поэтому Эберштедту пришлось главным образом выполнять функции оккупационной власти. Весной 1711 г. его полки получили приказ передислоцироваться в Молдавию, где собиралась армия для войны против Турции. За несколько недель Прутского похода Эберштед проявил себя неплохо, но качеств выдающегося полководца не продемонстрировал. В последующие месяцы командовал кавалерийским корпусом в армии фельдмаршала Шереметева, оставленной на территории южной Украины на случай возникновения новой войны с султаном. Ушел с русской службы весной 1712 г., недовольный постоянными нарушениями условий контракта со стороны царской администрации.
[Закрыть].
Через тернии к звездам
До самого окончания Северной войны ситуация с кадрами иностранного генералитета для петровской армии не утрачивала актуальности. Поэтому даже после Полтавской битвы царь потратил много усилий для того, чтобы при помощи различных соблазнов заполучить к себе на службу хотя бы несколько весьма посредственных личностей из числа пленных командиров неприятеля. Таких, например, как генерал-майоры Шлиппенбах, Альфендель или Нирод, которые, в конце концов надели-таки русский мундир.
За эти же годы в Москву приехало и несколько заурядных генералов-иностранцев из других европейских армий [115]115
Относительное исключение составил разве что австрийский барон Денсберг, который обратил на себя внимание в одном из эпизодов войны за испанское наследство успешным сопротивлением авторитетному французскому маршалу Виллару. Но он принял активное участие лишь в Прутском походе и вскоре покинул Россию.
[Закрыть]. Однако славы на полях сражений и те и другие не добыли, оставшись столь же Малоизвестными, как и в годы, когда служили под иными знаменами. В итоге получилось, что наиболее удачную карьеру у Петра I сумел сделать генерал, перешедший на царскую службу еще в самый ранний и трудный период войны – осенью 1700 г.
Галларт Людвиг Николай фон (1659—1727), барон. К началу Северной войны инженер-генерал саксонской армии. В России с сентября 1700 г. в чине генерал-лейтенанта. Под Нарвой попал в плен. Обменян в 1705 г. Руководил крупными соединениями русской армии в период маневренной обороны 1708 г., в Полтавской битве, в Пруте ком походе. В 1712 г. командовал объединенной русско-датско-саксонской армией у Штральзунда. Затем вышел в отставку.
Написать беспристрастный портрет этого человека очень трудно, поскольку современники характеризуют его диаметрально противоположно. Заочный спор ведут, например, на страницах своих сочинений Эренмальм и Уитворт, которых большинство историков относят к наиболее правдивым свидетелям той эпохи. Шведский мемуарист считает инженера весьма знающим и уважаемым профессионалом. А англичанин наоборот отзывается о нем очень пренебрежительно: «…кроме генерал-лейтенанта Галларта, который прослужил некоторое время в саксонской армии, но признается человеком не особенно способным и малоопытным».
Подтвержденные перекрестными свидетельствами факты и логика в данном случае тоже не способствуют установлению истины, так как одновременно не противоречат обеим версиям. В пользу первого автора говорит то, что военный инженер оставил после себя заметное интеллектуальное наследство в виде коллекции из 800 планов различных крепостей Европы и лично написанную историю Северной войны из 218 глав. А мнение второго опирается на уверенность, что ценных солдат во время боевых действий из армии не отпускают даже в том случае, если их хочет заполучить в свои ряды войско союзника.
Галларта действительно король-курфюрст Август послал под Нарву в первую же кампанию Северной войны в ответ на просьбу царя Петра о помощи специалистами по осаде крепостей. И указаний на сколько-нибудь высокий авторитет, добытый бароном ранее под саксонским гербом, тоже нет. Но вердикт об ограниченной профпригодности представляется все-таки слишком строгим приговором. Армии немецких государств всегда являлись надежно отлаженными механизмами, не допускавшими ничтожеств на высокие посты.
Впрочем, как бы то ни было, в России, в первый период Северной войны, знания любого европейского специалиста играли роль откровений небожителя и ценились в буквальном смысле на вес золота. Поэтому, когда Галларт приехал к Нарве, царь сразу же доверил ему руководство всей инженерной частью своего войска, осаждавшего эту крепость. Барон добросовестно старался наладить работы по подготовке к штурму. Но все его усилия застряли между деталями плохо пригнанной и несмазанной боевой машины московитов. К тому же под Нарву вскоре явился и шведский король со своими полками, после чего от русской армии вообще осталось одно воспоминание. А сам генерал в компании с фельдмаршалом Кроа искал у противника спасения от кровожадной толпы, в которую превратились ученики и подчиненные.
Многие из тех, кто сдался скандинавам у Нарвы глубокой осенью 1700 г., просидели в плену практически всю войну. Галларта от подобной участи спас знаменитый петровский указ «Знатность по годности считать». Ведь не какого-либо родовитого воеводу, а никому не известного в России немецкого барона освободил московский самодержец, когда в его руки через четыре года после «превеликой конфузии» попал, наконец, первый шведский генерал. И в 1705 г. саксонец вернулся в Россию.
К тому времени для царской армии начался маневренный период войны. То есть стратегически значимых крепостей она не обороняла и не осаждала. А потому инженер-генералу важных заданий по основной специальности в ближайшей перспективе не предвиделось. Но не использовать в боевых действиях ученого европейца казалось слишком большой роскошью для страны, практически не имевшей собственных сколько-нибудь знающих военное дело людей. И Петр вручил ему командование над одним из крупных общевойсковых соединений.
Таким образом, к концу осени 1705 г. барон оказался на зимних квартирах в Гродно и затем прошел через всю эпопею неожиданного стратегического окружения, тоскливого 3-месячного ожидания неминуемой смерти или плена и счастливой авантюры весеннего бегства из ловушки, которая обещала Карлу XII окончательную победу над всеми его неприятелями. Затем шведский король вновь развернул свои главные силы на западный фронт, дав России передышку для подготовки к решающим боям.
В этот период на короткое время Галларт был назначен чрезвычайным послом Августа Сильного при российском дворе, но после отречения саксонского курфюрста от польской короны барон вернулся на русскую службу. А поскольку наступал уже 1707 г. и скандинавы готовились к последнему, как они считали, походу Северной войны, то инженер-генералу сразу же нашлась работа в соответствии «с профессиональным патентом» – укреплять расположенные на вероятном маршруте вторжения крепости Полоцк и Копыс.
В начале 1708 г. шведы приблизились к границам московского царства, и противоборство непримиримых противников в очередной раз приобрело активный характер. В этот момент барону опять поручили командование армейским соединением, состоявшим из 10 пехотных полков, которые принадлежали к наиболее боеспособным частям российской армии. Во главе их он отступал к Могилеву и пытался обороняться в сражении при Головчине. Но неудачно занятая позиция не позволила влиять на исход боя.
Без особого успеха саксонец старался сдержать Карла XII и на берегах Десны около Новгород-Северского. Однако царская немилость после поражений прошла мимо. Зимой же боевое счастье наконец начало улыбаться и Галларту. Он успешно действовал во время операции между украинскими городками Гадяч и Ромны, не позволяя скандинавам в период жестоких морозов того года отдыхать на теплых квартирах. Весной 1709 г. его полки несколько раз отличились в стычках у реки Ворсклы. А в день Полтавской битвы, видимо, также не испортили общей картины, поскольку генерал за вклад в столь триумфальное событие получил высшую награду Российской империи – орден святого Андрея Первозванного.
Кстати, на победном послеполтавском пире, за столы которого Петр усадил и наиболее высокопоставленных пленников, с бароном связан эпизод, позволяющий судить о его характере. Про этот случай упоминают многие шведские мемуаристы. Суммировавший их воспоминания историк Петер Энглунд описывает его следующим образом: «…шведы и русские вели учтивые беседы, вкушали яства и обменивались комплиментами. За ломившимся от блюд столом царила атмосфера любезности и предупредительности. На фоне всеобщей галантности выделялся лишь Галларт: он напился и начал оскорблять Пипера. Хмельной генерал-лейтенант, обиженный на жестокое обращение, которому он подвергался в шведском плену, стал злобно обвинять королевского премьер-министра в том, что он игнорировал его письменные прошения. Обстановка накалялась, но ее дипломатично разрядил Меншиков; вмешавшись, он попросил шведа не обращать внимания на тирады Галларта: генерал, дескать, просто выпил лишнего…»
Впрочем, Александр Данилович к тому времени начал внимательно следить за саксонцем не только во время попоек. Фаворит не любил делить благорасположение царя с кем бы то ни было, и старался немедленно принимать контрмеры против особ, которые на этом поприще начинали добиваться заметных успехов. А барон в числе таких конкурентов к началу второй половины Северной войны закрепился уже прочно. О чем свидетельствует, например, тот факт, что он участвовал в военном совете 23– 24 апреля 1711 г., разрабатывавшем план войны с Турцией, где вместе с Петром I заседал лишь узкий круг наиболее облеченных доверием сановников.
Потом Галларт на пару с князем Репниным руководил переброской главных сил русской пехоты на юг. А затем играл одну из основных ролей в Прутском походе. Он, как известно, закончился полным провалом, но царь, по всей видимости, не счел, что инженер виноват в поражении больше других, поскольку никаких наказаний или взысканий в его адрес не последовало. Даже наоборот. В 1712 г. именно барона (с согласия польского и датского королей) назначили командующим союзной армией, оперировавшей в Померании у важного в стратегическом отношении города-порта Штральзунд.
Однако в том же году интриги Меншикова все-таки достигли цели. В один из осенних дней саксонца отрешили от престижной должности. И он, задетый несправедливостью до глубины души, а также, видимо, не желая переводить противостояние с всесильным фаворитом в категорию смертельной схватки, подал в отставку. Больше под русскими знаменами Галларт со шведами не дрался (но в Северной войне продолжал участвовать, служа Августу Сильному). Тем не менее, хотя бы повторить его карьеру по быстроте и высоте продвижения в петровском войске ни одному иностранному генералу не удалось.
Конечно, этот своеобразный рекорд вряд ли означает, что барон был непризнанным гением, однако портрет его до сих пор остается незавершенным. Дореволюционные русские историки по причине сформировавшегося еще на заре отечественной историографии ревнивого комплекса к иностранцам уделяли ему не слишком много внимания. А после 1917 г. фигуры таких людей вообще оказались отодвинуты за исторический горизонт (изредка упоминаясь лишь в связи с канонизированными коммунистической пропагандой идолами). Так что Галларт все еще ждет пера беспристрастного и дотошного биографа.
К вышесказанному остается добавить, что обида надолго разлучила генерала с русской армией, но не навсегда. Обаяние беспримерной личности российского императора, а также, по всей видимости, и тот факт, что Меншиков уже не имел прежней власти в Петербурге, вернули барона в 1721 г. в Россию. Саксонец командовал войсками, расположенными на Украине, и среди первых получил в 1725 г. только что учрежденный второй по значимости орден – святого Александра Невского. Вскоре после смерти Петра он вышел в отставку в звании генерал-аншефа и поселился в своем, подаренном царем, имении, где и прожил остаток отпущенных ему дней.
Их хлеб– война
В отличие от высшего командного состава, европейские офицеры младшего и среднего ранга поступали на русскую службу более охотно. Конечно, и по их адресу тоже нельзя сказать, что от волонтеров не было отбоя. Да и квалификация многих из тех, кого не пугала перспектива поездки в Россию, чаще всего оставляла желать лучшего. Но все же эти солдаты имели опыт и знания, приобретенные в различных западных армиях, чего так не хватало московским рекрутам. Поэтому почти никто из добровольцев у царских вербовщиков не встречал отказа. К тому же подобные смельчаки сразу получали более высокие чины, достаточно щедрые, по европейским меркам, для их званий подъемные и обещания хороших окладов, которые, правда, выплачивались весьма неаккуратно. Но выяснялся сей грустный факт, естественно, не сразу. В связи с чем немало энергичных людей с авантюрными жилками в характерах подписывали долгосрочные контракты, продавая свои шпаги вкупе с жизнями российскому монарху.
И что любопытно, такие сделки чаще, чем можно бы было предполагать, давали весьма интересные результаты для обеих сторон. У себя дома, где за место под солнцем требовалось преодолеть сильнейшую конкуренцию, этих ландскнехтов, скорее всего, ожидала незавидная доля заурядных вояк. А на бескрайных просторах евроазиатской равнины, заселенной еще почти не знавшими достижений цивилизации «детьми природы», перед ними, естественно, открывались заманчивые возможности. Особенно для тех, кто искал не столько денег, сколько интересных дел, приключений, драк и прочих необычных впечатлений. Отчего, вероятно, большинство иностранных генералов петровской армии и вышли именно из их среды, получив свои патенты на столь высокое звание не в чинной Европе, а из рук российского монарха.
Чтобы не быть голословным, можно вспомнить, например, подполковника Самуила де Ренцеля, который в 1703 г. был поставлен во главе одного из только что сформированных полков. Эту часть сразу же включили в состав «помощного корпуса» и отправили в Польшу, где она затем несколько лет действовала вместе с союзными силами Августа Сильного. Но в 1706 г. шведы практически уничтожили экспедиционную группу в битве при Фрауштадте.
Из всех русских офицеров, уцелевших в том сражении, Ренцель оказался самым инициативным и мужественным. Он собрал вокруг себя остатки семи солдатских, двух драгунских и двух стрелецких полков, создал из них отряд, несколько месяцев сражавшийся против скандинавов в Саксонии. А после капитуляции союзников отказался сдавать оружие и пробился через Австрию и Бранденбург в Польшу на соединение с находившимися там передовыми частями царской армии.
Петр I по достоинству оценил этот рейд, спасший много людей из казалось бы безнадежного окружения. Он немедленно произвел Ренцеля в генерал-майоры и назначил его командовать корпусом из нескольких пехотных полков. А еще через два года недавно безвестный офицер стал уже генерал-лейтенантом.
В данной связи небезынтересен и пример первого коменданта крепости Санкт-Петербург курляндского барона Карла Эвальда Ренне, достаточно громко заявившего о себе на полях сражений уже в самом начале войны. Он удачно руководил различными кавалерийскими соединениями во многих операциях, пройдя за 5 лет немалую дорогу от полковника до генерал-лейтенанта.
Кстати, ему единственному из всех петровских военачальников сопутствовала победа в неудачном Прутском походе, когда отделившемуся от главных сил конному корпусу барона внезапным ударом удалось овладеть важным в стратегическом отношении городом Браилов. Но катастрофа в Молдавии основной армии превратила эту много-обещавшую викторию в малозначительный эпизод.
Похожий путь проделал и другой представитель немецкой военной школы Гебхард Карл Пфлуг. Начав с командира драгунского полка, получившего боевое крещение еще в разгар борьбы за Ингрию, этот человек спустя всего 5—6 лет, в момент наивысшего противостояния на Украине, был уже не просто генерал-лейтенантом, а одним из лучших предводителей больших масс царской конницы. Именно его умелые действия в ночь после сражения у Лесной превратили неудачу шведов в полное поражение, лишив Левенгаупта не только драгоценного обоза, но и большого числа солдат, после чего, как известно, скандинавам и пришлось отложить на неопределенное время планы похода на Москву.
Впрочем, с судьбами этих энергичных людей связаны, конечно, не только славные эпизоды российской военной истории. Случались и весьма неприятные моменты, вызванные чаще всего обидами или обоюдным непониманием. Для московитов всех уровней – от юродивого до боярина, привыкших к холопской мысли, что выплата жалованья за царскую службу является скорее приятным сюрпризом, чем строгим правилом, казалась удивительной болезненная реакция иностранцев на такую обыденность. Но европейские профессионалы с молоком матери впитывали один из основных принципов западного мира, гласивший, что труд должен оплачиваться. В противном случае контракт и присяга в их глазах начинали терять свою силу.
Именно этими обстоятельствами объясняется случай, произошедший с бароном Фридрихом Гартвигом Ностицем. Так же, как его вышеупомянутые коллеги, этот человек из мало кому известного европейского офицера в России сразу же превратился в начальника среднего звена, получив должность командира полка. К 1710 г. он стал уже генерал-лейтенантом и руководителем отдельного корпуса, усилиями которого, в частности, была отобрана у шведов сильная польская крепость Эльбинг.
Однако барону российское правительство очень нерегулярно платило деньги, задолжав в результате за несколько лет кругленькую сумму в 50 000 экю. Первые годы он терпеливо ожидал «улучшения финансовой политики своего нового сюзерена». Но убедившись, что долг неуклонно растет, а отдавать его никто не собирается, Ностиц в конце концов резонно решил позаботиться о собственной персоне сам. Захватив Эльбинг, он обложил его от имени Москвы контрибуцией в 250 000 польских злотых (что примерно соответствовало недоплаченной ему сумме) и, забрав их себе, со спокойной душой бежал с русской службы.
Но подобные происшествия были все-таки не характерны для основной массы европейских наемников.
В целом они сражались достойно, как того и требовал статус профессиональных солдат. А уж примеры предательства в каком-либо виде, в чем по сию пору склонны подозревать «немцев» многие отечественные историки, встречались с их стороны не чаще, чем в среде природных русских.
Наибольший резонанс в данном плане получила история бригадного генерала [116]116
Звание, которое в петровской армии занимало место между полковником и генерал-майором.
[Закрыть]Мюленфельса. В январе 1708 г. он командовал 2-тысячным отрядом, охранявшим мост через реку Неман около города Гродно. Но неожиданно появившийся с 600 кавалеристами Карл XII внезапным ударом обратил русских в бегство и овладел стратегически важной переправой, выгнав заодно из крепости и ночевавшего там российского самодержца.
Петр I, узнав той же ночью, что шведский король занял Гродно с малыми силами, приказал Мюленфельсу во главе 3000 драгун отбить город. Тем не менее в новом сражении скандинавы опять оказались победителями. Тогда царь взял под стражу своего невезучего подчиненного и отдал его под суд с целью жестоко наказать для примера другим. Однако арестант сумел обмануть охрану и бежать. Вскоре он появился в неприятельском лагере, получив при Карле место советника по российской специфике, которое и занимал полтора года, до самой Полтавской битвы, когда его все-таки поймали и, не медля ни дня, казнили перед строем своих и пленных шведских солдат.
Но подобные казусы, как уже говорилось выше, были редким исключением. Во всяком случае, подавляющее большинство наемных европейских солдат уезжали лишь после окончания контракта, а многие даже оставались в России навсегда. Возвращаясь же к группе генералов-иностранцев, которой посвящена данная глава, можно резюмировать, что, в общем, деятельность этих людей, конечно, не привела к революции в области мирового военного искусства, однако и постыдных провалов за ними почти не значится. Но поскольку до высших постов они не добирались, то всех их перечислять не имеет смысла. Подробно остановимся лишь на биографии того, чья фигура чаще других оказывалась рядом с эпицентром важных событий.
Бауэр Рудольф Феликс (1667—1717). Генерал от кавалерии с 1717 г. Участвовал в Северной войне с первых ее дней, сначала на стороне шведов, а затем перешел к русским (в период первой осады Нарвы). Руководил крупными соединениями конницы Петра I во время всех основных операций в 1707—1709 гг. Позже командовал корпусом, действовавшим в Прибалтике и Померании.
Рудольф Бауэр [117]117
В изданиях, опирающихся на российские источники, чаще всего именуется с искажением Бауром (или Боуэром, или Боу– ром) Родионом Христиановичем.
[Закрыть]происходил из нижней Померании и являлся сыном ротмистра. В ту эпоху семьи младших офицеров в Европе (если они, конечно, не относились к элите общества) не имели больших доходов. А потому и их дети с раннего возраста сами начинали изыскивать способы заработать на жизнь. Не минула доля сия и будущего царского генерала, заставив в очень молодые годы поступить на шведскую службу в качестве рядового солдата рейтарского полка.
Полученные от природы живой ум и хорошие физические данные помогли ему не затеряться в общей безликой массе нижних чинов, позволив достаточно быстро вскарабкаться по ступеням армейской иерархии. К тридцати годам Бауэр достиг отцовского чина и командовал ротой в одном из наемных полков Карла XII (вербовка в который производилась главным образом среди немцев).
Германские ландскнехты ценились по всей Европе за традиционно высокий уровень дисциплины, образцовую выучку и стойкость в сражениях. Но основа шведской армии, как в смысле количества, так и качества воинов, формировалась из природных скандинавов. Поэтому иностранец на высокой должности там мог утвердиться лишь в исключительных случаях. А если он к тому же еще и не являлся представителем какой-либо знатной фамилии, то возможности его роста выше офицера среднего звена вообще равнялись нулю.
В вооруженных силах Петра I, наоборот, любой европеец с командирским опытом при условии искреннего служебного рвения обретал просто сказочные перспективы. Именно этот соблазн, помноженный на сиюминутную, но сильную обиду со стороны начальства и стал причиной того, в высшей степени рискованного шага, посредством которого честолюбивый померанец отважился сыграть с судьбой в своеобразный вариант «русской рулетки».
Через 7 месяцев после начала Северной войны в середине осени 1700 г. полк Бауэра находился в Ливонии. Обстановка на театрах боевых действий, выглядевшая для шведов в первые недели конфликта очень тревожно, к тому времени уже стремительно улучшалась. Карл XII принудил к капитуляции датчан и перебрасывал наиболее боеспособные полки в Прибалтику, чтобы как можно быстрее помочь малочисленным частям, противостоявшим саксонцам и русским у Риги и Нарвы. Именно в этот момент ротмистр и сделал свой главный жизненный выбор, выглядевший сначала безрассудной глупостью, но вскоре обернувшийся по-шальному крупным выигрышем.
С отчаянной решимостью он одним махом сломал собственную судьбу – безжалостно перечеркнул все итоги прежней 20-летней службы и, словно в прорубь головой, бросился в неведомое будущее. Дезертировал из шведской армии и явился в царскую ставку с предложением своих услуг военного профессионала. Конечно, немецкий офицер, получивший погоны не по праву рождения, а добывший их на полях сражений, всегда встречал у Петра I восторженный прием. Однако в данном случае перед ним предстал человек только что плюнувший на прежнюю присягу. А предатели, как известно, во все времена не пользовались уважением по обе стороны фронта.
Но, видимо, звезды на небе имели для Бауэра в тот день счастливую конфигурацию. Или российский самодержец просто пребывал в хорошем настроении. Как бы то ни было, но встретил он перебежчика весьма ласково, произведя его из ротмистров сразу же в полковники. А через несколько месяцев уже назначил руководить капитальной реконструкцией оборонительных сооружений в Новгороде, что после катастрофы под Нарвой являлось одной из главных задач момента. Впрочем, количество по-европейски обученных специалистов в 1701 г. у Петра I было столь мало, что практически каждый из них получал возможность испытать свои способности на каком-либо более или менее высоком посту.
Бауэр воспользовался вырванным им у судьбы шансом по максимуму. Новгородские фортификационные работы прошли успешно, преобразив старую крепость, после чего бывший ротмистр вернулся в кавалерию и, возглавив один из первых русских драгунских полков, все лето 1702 г. в составе армии фельдмаршала Шереметева воевал в Прибалтике. Ему удалось сыграть видную роль в победном сражении у Гуммельсгофе. А затем разорить несколько небольших укреплений (старых ливонских мыз), выгодно выделившись на фоне большинства русских по крови и мало чего умевших командиров.
Как следствие, со следующей кампании померанец имел в подчинении уже несколько конных частей, которыми он, на взгляд царя, руководил, видимо, столь же успешно, так как к весеннему оживлению боевых действий 1705 г. специальным указом Бауэру присвоили звание генерал-майора. А спустя всего два года он опять получил повышение в чине, став генерал-лейтенантом. И сразу же провел первую крупную самостоятельную операцию. Это случилось, когда литовский гетман перешел на сторону противника, захватив к тому же 40 000 рублей, перевозимых из Москвы в армию. Ясновельможный пан засел в хорошо укрепленной крепости Быхов, имевшей 3-тысячный гарнизон с сотней пушек.
Во главе быстро собранного Петром I карательного корпуса (в состав которого вошло примерно 10 000 солдат) поставили Бауэра. Он сразу же выступил в поход и через четыре недели наказал отступников – осадил и взял цитадель, полонив весь ее гарнизон вместе с главными зачинщиками. Пушки и прочее содержимое арсенала отправил в качестве трофеев в Россию, а город вернул польским союзникам.
Осенью того же года Карл XII начал свой роковой поход на Москву. Петр I долго не мог определить направление главного удара неприятеля и потому разделил армию на несколько частей, расположив их таким образом, чтобы прикрыть все основные дороги. Бауэр принят командование над самым крупным 16-тысячным корпусом, занявшим позицию между Псковом и Дерптом. Но когда выяснилась истинная цель шведского короля, генерал получил приказ оставить на всякий случай пехоту в Прибалтике, а самому вместе с кавалеристами спешить на основную арену борьбы.
Дальнейшие действия выходца из Померании в «Военной энциклопедии» Сытина [118]118
Считающейся одним из авторитетнейших отечественных информационно-справочных изданий начала XX в. в области историографии. К сожалению, из 23-х запланированных томов вышло в 1911—1915 гг. лишь 18. 1-я мировая война и последовавшие за ней революционные потрясения помешали завершить проект.
[Закрыть], описываются следующим образом: «1708 год является наиболее выдающимся в боевой деятельности Баура, который, командуя 10-тысячным драгунским отрядом, активно следил за левым флангом шведской армии, непрестанно тревожа ее и опустошая район «для оголожения неприятеля». 9 сентября он атаковал на марше Карла XII и едва не захватил в плен короля. Баур неотступно следовал и висел над тылом шведской армии, а когда Петр предпринял операцию против Левенгаупта, то Баур особенно отличился 28 сентября в сражении при деревне Лесной, довершив победу своим быстрым и своевременным прибытием» [119]119
Даты в цитате приведены в том виде, как они указаны в тексте энциклопедии, то есть по так называемому «старому» (юлианскому) стилю.
[Закрыть].
Здесь необходимо уточнить, что Бауэр не довершил разгром противника у Лесной, а внес в битву решающий перелом, склонив результат в пользу царских войск. Весь день упорного боя не выявил победителей, и сражение фактически уже затухло, но появление вечером на поле брани драгунских полков генерал-лейтенанта довело численный перевес русских до значительного. Что, естественно, и придало новый импульс битве.