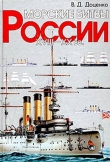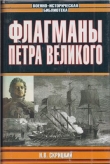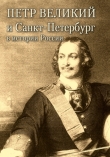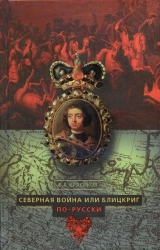
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Таким образом, в датском плену оказались последние реальные козыри Стокгольма, еще позволявшие испытывать некоторую надежду на перелом в ходе войны – самые лучшие на то время войска скандинавов, собранные в экспедиционную армию, и наиболее талантливый фельдмаршал, возглавлявший ее. Сами шведы, кстати, считают, что он был способнее и Реншёльда и Левенгаупта, но высоких постов достиг уже тогда, когда ситуация, в отличие от начала войны, предоставляла несравнимо меньше шансов для побед и славы.
Кстати, неординарная натура Стенбока заявила о себе даже в плену. Датчане держали его в копенгагенской цитадели под крепкой охраной, но несмотря на это, фельдмаршал при первой возможности попытался бежать. Однако удача к тому времени, видимо, уже совсем отвернулась от графа, и его последняя военная операция закончилась столь же плачевно, как и предыдущая. После чего он до самого конца жизни подвергался крайне жестокому обращению.
Словно подтверждая поговорку о том, что боги забирают к себе раньше других тех, кого любят и награждают талантами, Стенбок ушел в мир иной самым первым и самым младшим из тройки лучших и наиболее известных военачальников Карла XII, на пятьдесят третьем году жизни, проведя в плену около четырех лет.
III. НЕ ОПРАВДАВШИЕ ДОВЕРИЯ
Проходя сквозь череду военных лет, насыщенных походами и сражениями, вооруженные силы любой страны стремятся отторгнуть лишних людей или плац-парадные порядки (которыми они обычно обрастают в мирные годы) и вместе с тем пытаются синтезировать то лучшее, что попало в зону их притяжения. Правда, итоги этого процесса у всех получаются различными. Причин такого непостоянства имеется великое множество. Поэтому детально анализировать их мы здесь не будем. Заметим лишь, что упомянутый синтез самым непосредственным образом отражается на судьбах полководцев, превращаясь в настоящий естественный отбор.
В случае, если сценарием очередного витка военной истории управлял особенно способный и удачливый режиссер, то под сенью знамен его армии собиралась блестящая плеяда маршалов. Примерами тому могут служить эпохи Людовика XIV и Наполеона. Но величина реальных ресурсов и даже гипотетических возможностей Швеции времен Карла XII, конечно же, никогда не шла ни в какое сравнение с Францией любого века. А потому король скандинавов мог только мечтать о подобной славной когорте.
Элитный клуб его военачальников был невелик, вобрав в себя за годы Северной войны только трех человек – Реншёльда, Левенгаупта и Стенбока. Но и они по большому счету до звезд европейской величины явно недотягивали. Время – самый беспристрастный арбитр, и прошедшие столетия расставили фигуры по своим местам. В этом смысле весьма показателен тот факт, что в современной интеллектуальной среде трудно найти человека не слышавшего, например, о Мюрате, а вопрос о Стенбоке может поставить в тупик даже специалистов-историков уровня школьного учителя.
Тем не менее, шведская армия сумела продержаться в борьбе с огромной, по сравнению с ее силами, коалицией свыше двадцати лет. Причем в первую половину войны победа скандинавов вообще представлялась более вероятным исходом, чем конечный успех их противников. Объяснить это лишь относительной слабостью или отсталостью членов Северного союза нельзя. Без достаточно высокого среднего уровня профессионализма вооруженные силы Карла XII оказались бы очень быстро раздавленными колоссальным численным превосходством неприятелей. Поэтому в рассказе о шведских военачальниках не обойтись без хотя бы краткого обзора генералитета, так сказать, второго плана.
От этих людей, порой даже в большей степени, чем от высшего командования, зависела боевая подготовка солдат и офицеров, а также ход мелких стычек, из которых и складывались крупные операции. В России самым известным командиром противника такого масштаба, без сомнения, стал генерал Шлиппенбах.
Шлиппенбах Вольмар Антон фон (1658—1739), барон, генерал-майор с 1701 г. Участвовал в Северной войне с 1700 по 1709 гг. Командовал шведскими силами в Лифляндии и Эстляндии в 1701—1703 гг. Эстляндский вице-губернатор с 1704 г. Руководил шведами в сражениях с русскими войсками при Эрестфере (1702 г.) и Гуммельсгофе (1702 г.). Попал в плен под Полтавой. В 1713 г. вступил в русскую армию, где дослужился до чина генерал-лейтенанта.
Любопытно, что Шлиппенбах в российском варианте историографии Северной войны, наряду с Карлом XII и Левенгауптом, по сей день входит в тройку самых знаменитых неприятельских фигур. Даже в 8-томной Советской военной энциклопедии, изданной в 1976—1980 гг. (где практически отсутствует информация о фельдмаршалах Реншёльде и Стенбоке), он удостоился отдельной статьи.
Объясняется этот казус, конечно же, не какими-либо феноменальными, но почему-то не признанными в других странах талантами генерала. В этом плане Шлиппенбах, как раз ничем особенным на фоне сослуживцев не выделялся. Просто именно над его полками русской армии удалось одержать первые свои скромные победы. Столь приятные события, естественно, упоминаются в любой отечественной книге, затрагивающей тему Северной войны. Отсюда и поразительная известность врага, имевшего относительно малый чин, и отсутствие крупных успехов на ратном поприще [102]102
Интересно, что Пушкин в поэме «Полтава» наделил его весьма своеобразным и прямо скажем – двусмысленным для военачальника эпитетом – «пылкий Шлиппенбах».
[Закрыть].
Происходил Шлиппенбах из знатного рода лифляндских дворян. После перехода Прибалтики под власть Стокгольма они в большинстве своем верой и правдой служили шведской короне. В данной связи, кстати, достоин упоминания и старший брат будущего эстляндского вице-губернатора (Шлиппенбах Густав Вильгельм фон), который в чине подполковника занимал должность коменданта крепости Нотеборг, запиравшей дорогу из Ладожского озера в реку Неву. В 1702 г. он доблестно оборонял ее до последней возможности, нанеся при этом русской армии просто фантастические потери – втрое превышавшие численность его собственного гарнизона.
Однако Вольмар Антон в движении по карьерной лестнице оказался удачливее родственника. К началу Северной войны он уже имел звание полковника королевской армии и командовал одним из драгунских полков, расквартированным на его родине – в Лифляндии. Правда, здесь необходимо вспомнить, что шведские войска были очень неравнозначны по составу. Элитные полки формировались из природных шведов, а второсортные – из наемников и жителей завоеванных провинций – немцев, финнов, эстляндцев, лифляндцев. Именно из последних и состоял кадровый костяк подразделения, доверенного Шлиппенбаху.
Во главе его он участвовал в битве под Нарвой, где маленькая армия Карла XII разгромила большое, но, по сути, еще отсталое старомосковское войско Петра I. После сражения шведы расположились на зимние квартиры неподалеку от западного побережья Чудского озера, и король приказал готовиться к ответному вторжению в пределы русского государства. Много лет спустя Шлиппенбах вспоминал, что в ту зиму на аудиенции у монарха видел карту с нанесенным на нее подробным планом похода на Москву, однако Карла отговорили генералы. Мол, какая слава бить московитские орды, да и поживиться в нищей России нечем. Поэтому с началом лета было приказано развернуться на запад и двигаться к Курляндии.
Но пока войска зимовали, скандинавы решили провести несколько отвлекающих рейдов по русской территории. В один из таких набегов отправили и Шлиппенбаха. Во главе нескольких сотен драгун он вторгся в псковские земли, разграбил и сжег десяток деревень, а затем осадил Печерский монастырь. Но вскоре выяснилось, что монахи вместе с заблаговременно введенным туда гарнизоном намерены всерьез защищать обитель (стены и валы которой по приказу царя недавно обновили). Без артиллерии штурмовать эти укрепления было невозможно, и полковнику пришлось уводить драгун обратно, удовлетворившись убогой добычей, собранной по крестьянским избам.
В конце весны, готовясь к походу в Европу, Карл XII оставил в Эстляндии и Лифляндии для охраны границы с Россией несколько третьеразрядных полков, набранных из местных жителей, которые вместе с гарнизонами ливонских крепостей составили юго-восточную группировку численностью 6—8 тысяч солдат. Командование ею неожиданно для многих было поручено малоизвестному до тех пор в Стокгольме полковнику Шлиппенбаху.
То, что данное решение юного монарха стало его первой серьезной ошибкой, выяснилось позднее. А в 1701 г. Карл, видимо, предельно низко оценивал боеспособность войск Петра I и не особенно задумывался над проблемой обороны Прибалтики. Иначе трудно объяснить, почему у него не нашлось хотя бы одного генерала для этого направления.
Нельзя сказать, что Шлиппенбах оказался уж очень плохим профессионалом. Уровень его квалификации вполне удовлетворял критериям западных армий, предъявляемых к обычным командирам полков. Но для руководства группировкой, размещенной на большой территории, да еще при крайнем дефиците сил, ему явно не хватало знаний. А врожденными способностями, которые могли компенсировать недостаток опыта, природа полковника не наделила.
Вместо того чтобы держать войска в мобильном кулаке, он рассредоточил их по всем укреплениям Ливонии. Конечно, города тоже требовали защиты, но русские в ту пору еще не умели быстро брать крепости. И в случае нападения на какую-нибудь из них, даже малый гарнизон был способен выдержать осаду, пока маневренный корпус не пришел бы ему на помощь. Эта группировка за счет своего преимущества в организации и мобильности вполне могла лишить еще рыхлого и медлительного врага его главного и единственного козыря – численного превосходства.
Правда, первые полгода Шлиппенбах справлялся с задачей, отбивая еще робкие нападения русских. В начале осени 1701 г. несколько сотен его солдат даже одержали победу в сражении у мызы Рыуге, которую пытался атаковать 4-тысячный отряд царских войск. Это дело король отметил указом, присвоив лифляндцу звание генерал-майора.
Однако на сем успехи барона исчерпались. Петр I, увидев, что Карл XII ушел достаточно далеко от Ливонии, сразу же оценил, какой шанс для перехвата инициативы у него появился. И погнал к Прибалтике войска, сосредоточив там к концу осени 42 000 человек. Тем не менее, по европейским понятиям они еще мало походили на армию. В лучшем случае являлись слабо обученным ополчением – простой вооруженной толпой, которая впечатляла разве лишь количественно.
Весь опыт столкновений Запада и Востока свидетельствует, что при умелом руководстве 6—8-тысячный корпус, который мог собрать Шлиппенбах, на 2-й или 3-й год Северной войны еще имел возможность «обломать» противника и тем окончательно психологически добить его. Другого разгрома, аналогичного Нарве, не уверенные в себе и привыкшие к поражениям от европейцев русские, скорее всего, просто не выдержали бы – опустили руки и запросили мира, как это уже не один раз бывало прежде.
Окажись на месте барона, например, Левенгаупт или Стенбок, подобный ход событий был бы весьма вероятен. Однако, как уже говорилось выше, Шлиппенбах раскидал солдат по всей Прибалтике, и когда русские начали крупномасштабные вторжения в Лифляндию, сумел противопоставить им только часть находившихся в его распоряжении сил. Главным образом по этой причине он и проиграл Шереметеву в течение 1702 г. оба сражения – у Эрестфере и при Гуммельсгофе.
А после поражений и понесенных в ходе их потерь Шлиппенбах окончательно растерялся и спрятал оставшиеся у него войска за стенами основных крепостей Ливонии. Оставив, таким образом, всю сельскую местность Прибалтики на разграбление русским. Шереметев не преминул воспользоваться подарком и уже осенью 1702 г. опустошил Лифляндию. В следующем году ее судьбу разделила и Эстляндия.
Только после этого Карл XII осознал свой промах и отправил командовать юго-восточным направлением генерала Левенгаупта, понизив Шлиппенбаха до символического поста вице-губернатора Эстляндии, от которой к тому моменту фактически остался лишь один Ревель. Но потерянного времени-то не вернешь! Первые небольшие победы русских, конечно, не шли ни в какое сравнение с Нарвским разгромом. Однако для армии Петра I они сыграли бесценную роль морального катализатора, вдохновив на дальнейшую борьбу.
К тому же воспрянувший духом царь за эти годы преуспел с проведением военной реформы и обстрелял множество полков. Его новое войско начало превращаться в настоящую армию, для победы над которой требовалось уже значительно большее количество солдат, чем прежде. Поэтому вполне реальный шанс быстро ликвидировать восточный фронт от скандинавов ускользнул.
Дальнейшая карьера Шлиппенбаха в вооруженных силах Карла XII откровенно скучна и потому малоинтересна. По большому счету данное обстоятельство справедливо. Фортуна не любит тех, кто не может озарить свою жизнь вспышкой «звездного часа». В последующие кампании барон служил под началом Левенгаупта. До 1708 г. все так же без особых успехов воевал в Прибалтике, участвуя в различных мелких операциях. А с началом «Русского» похода Карла XII сопровождал злополучный обоз рижского губернатора. Уцелел в несчастном для шведов бою у Лесной. И, прибыв к королевской армии, затерялся среди прочих генералов его величества.
В Полтавском сражении фельдмаршал Реншёльд доверил под командование Шлиппенбаху отряд численностью всего лишь в полсотни (!) кавалеристов. Он выполнял обязанности разведывательного авангарда во время выдвижения шведской армии на исходные позиции, однако обнаружил себя раньше намеченного срока, чем серьезно осложнил королевским войскам дебют битвы.
Поскольку Шлиппенбах, как и большинство скандинавских генералов, не знал общего замысла операции, то во время боя и неразберихи у сторожевых русских редутов его отряд потерял свое место в строю армии. А затем и вообще отстал от главных сил. Пытаясь их отыскать, он какое-то время метался по лесу, пока не натолкнулся на крупное подразделение русских. В короткой стычке часть шведов перебили. Остальные во главе с генералом сдались.
В российском плену путь Шлиппенбаха разошелся с дорогой большинства генералов Карла XII. Так как он был не природным скандинавом, алифляндцем, то Петр I, после того как официально объявил о включении Прибалтики в состав России, даровал барону свободу. Произошло это в 1713 г., после чего бывший вице-губернатор Эстляндии поступил на царскую службу и со шпагой в руках принял участие в боевых действиях против своих недавних товарищей по оружию.
В частности, в 1714 г. он, командуя Рязанским пехотным полком, погруженным на галеры Петра I в качестве десанта, прорывался у Гангута мимо шведских кораблей эскадры Ватранга. В последний период Северной войны Шлиппенбах занимался организационными вопросами русской армии – сначала стал членом Военной коллегии, а в 1718 г. был введен в состав Верховного суда. Но сколько-нибудь заметной памяти о себе в виде достойных подражания деяний на этой стезе опять-таки не оставил.
В первый период боевых действий, когда основные силы Карла XII находились в Польше и Саксонии, русский театр для шведской армии делился на два самостоятельных участка. Юго-восточный – Лифляндию и Эстляндию. А также северо-восточный – Ингрию и Финляндию. Обе эти большие по европейским меркам территории фактически изолировались друг от друга Финским заливом и Чудским озером, поскольку сообщались между собой только по принадлежавшей шведам узкой полосе побережья вышеуказанных водоемов. Поэтому для их обороны скандинавам приходилось держать два отдельных, как их тогда именовали, обсервационных корпуса.
Командовать юго-восточным направлением король оставил полковника Шлиппенбаха. А на северо-востоке задача по королевскому разумению, видимо, представлялась в чем-то сложней, поскольку там руководить защитой района поручалось более опытному военачальнику – генералу Кронхьёрду.
Кронхьёрд Абрахам (1635—1703), барон, генерал-майор с 1700 г. Участвовал в Северной войне с 1700 по 1703 гг., командуя отдельной группировкой, оставленной Карлом XII оборонять провинцию Ингрия. Предводительствовал шведскими войсками в боях с русской армией у реки Ижоры (1702 г.) и у реки Сестры (1703 г.).
Как и все остальные генералы Карла XII, Кронхьёрд был профессиональным солдатом. Родился он в Лифляндии в богатой и знатной семье, а на военную службу поступил в 14 лет – в часть, которой командовал его отец. К концу XVII в. барон хотел завершить свою карьеру и уйти в отставку. Но с началом Северной войны вновь встал под знамена королевской армии.
Карл XII не только лично знал Кронхьёрда, но и испытывал к нему расположение – считал лифляндца опытным военачальником, способным решать серьезные самостоятельные задачи. Поэтому, когда пришло известие, что московский царь присоединился к неприятельской коалиции и тем самым открыл новый отдельный театр боевых действий, король сразу же принял решение назначить барона командующим северо-западным направлением восточного фронта.
Эта территория, прилегающая к Финскому заливу и Ладожскому озеру, в прежние войны чаще всего подвергалась нападениям новгородских, а затем и московских войск. Из-за чего традиционно рассматривалась в Стокгольме как наиболее ответственный участок шведско-русской границы. На сей раз царь снова намеревался двинуть полки знакомой дорогой. Однако по просьбе союзника – саксонского курфюрста Августа перенес направление главного удара в Ливонию.
После впечатляющей победы под Нарвой, Карл XII посчитал, что русская военная мощь на ближайшие годы подорвана и увел свои главные силы с восточного театра на западный. Но царская армия, вопреки ожиданиям, быстро оправилась от разгрома и со второй половины 1701 г. снова активизировалась. Впрочем, ареной приложения ее усилий сначала по-прежнему оставалась только Ливония. Поэтому участие в боевых действиях для корпуса Кронхьёрда довольно долго сводилось лишь к мелким пограничным стычкам с разведывательными отрядами противника.
В любую войну почти у каждого генерала бывают ситуации, которые как лакмусовой бумажкой выявляют степень его полководческих дарований. В столь важный отрезок времени для лифляндца превратились месяцы с осени 1701 г. по лето 1702 г., когда барон мог попытаться помочь изнемогавшей в неравной борьбе группировке Шлиппенбаха, ударив в тыл русским – на Псков или Новгород. Конечно, такая операция с точки зрения абстрактной военной науки являлась чистейшей воды авантюрой, поскольку войск у него под руками находилось не больше, чем у несчастного соседа. Однако в реальности эта атака не выходила за пределы обычного риска, который всегда присутствует на войне.
Именно за счет подобных действий европейцы малым числом солдат часто громили огромные полчища восточных владык. А армия Петра I еще мало чем отличалась от обыкновенной азиатской орды и не умела быстро реагировать на неожиданные изменения ситуации. Но, видимо, недаром более проницательные современники, чем юный шведский король, характеризовали лифляндца как «храброго солдата, но осторожного генерала». Кронхьёрд не рискнул и тем самым обрек себя на поражение.
Вообще внезапность и творческая нестандартная агрессивность были единственными шансами шведов в борьбе с Москвой, что весьма убедительно доказал Карл XII под Нарвой. А пассивная оборона неизменно приводила к гибели. Огромные массы царского войска, если им отдавалась инициатива, в конце концов сминали небольшие отряды скандинавов. Первыми в этом убедились оба обсервационных корпуса на русских границах.
Шлиппенбах сумел продержаться только до середины лета 1702 г., после чего возможность координированного взаимодействия группировок была окончательно утрачена. И настала очередь Кронхьёрда. По приказу Петра I значительная часть армии Шереметева отправилась из Ливонии к южному берегу Ладожского озера, а осенью туда прибыл и сам царь с гвардией, начав энергичную подготовку к вторжению в Ингрию.
Авангард русских войск активизировался несколькими неделями раньше. Отдельный корпус Петра Апраксина провел разведку боем, совершив рейд по направлению от озера к заливу. Этот выпад Кронхьёрд отбил довольно легко, преградив противнику дорогу на берегах реки Ижоры.
После сражения Апраксин отошел обратно к границе, но вскоре к нему присоединились главные силы Петра, образовав 35-тысячную армию, которая вновь перешла в наступление, двинувшись к крепости Нотеборг, служившей главной опорой шведской обороны в Ингрии.
Кронхьёрд, также как и его южный сосед, имел в распоряжении всего несколько тысяч солдат регулярной армии и небольшое количество добровольцев-ополченцев. Однако, в отличие от Шлиппенбаха, он не стал распылять их по гарнизонам или бросать по частям в бой. Барон надеялся, что до зимы крепость сумеет удержаться. А затем морозы заставят русских убраться восвояси. К весне же, возможно, прибудут подкрепления от короля и обстановка изменится.
Эти расчеты могли оправдаться, если бы на театре боевых действий не присутствовал Петр I. Предприимчивый характер царя, столь отличающийся от ментальности большинства его подданных, сыграл решающую роль. С удивительной энергией он организовал осаду и несмотря на огромные жертвы, овладел Нотеборгом, создав плацдарм для дальнейшего наступления.
Оно возобновилось весной, когда настал черед капитулировать следующему бастиону шведской обороны – городку Ниеншанц. Кронхьёрд в течение зимы подкреплений так и не получил. И предпочел отступить по Карельскому перешейку к северу, где занял рубеж на реке Сестре. Оттуда он обозначил попытку помешать возведению русской новостройки в устье Невы. Однако в середине лета 1703 г. сам царь во главе своих отборных полков оттеснил солдат барона к Выборгу.
На этом карьера военачальника для лифляндца закончилась. Его формально-правильная тактика и настойчивое желание полностью исключить риск при планировании операций начали раздражать короля. Но до официальной отставки дело не дошло. В конце 1703 г. генерала вызвали в Гельсингфорс. И там он неожиданно скоропостижно умер. После чего шведам пришлось срочно подыскивать нового командующего для северного фланга восточного фронта. Им стал генерал-лейтенант Майдель.
Майдель Георг Юхан (1648—1709), генерал-лейтенант. Участвовал в Северной войне. В 1704—1707 гг. командовал шведской группировкой, находившейся в юго-восточной Финляндии. В кампаниях 1704, 1705, 1706 гг., пытаясь взаимодействовать с флотом, безуспешно наступал на Петербург. С 1707 г. в отставке.
Кроме нескольких мимолетных упоминаний, какая-либо информация об этом человеке в отечественной историографии практически отсутствует. Такое пренебрежение к личности противника косвенным образом характеризует и ту степень опасности, которая исходила от него в ходе боевых действий, а значит, позволяет судить об уровне полководческих талантов генерала.
Здесь еще раз повторим, что речь идет не о профессиональной непригодности. В целом офицерский корпус и генералитет Карла XII состояли из квалифицированных специалистов. Но для того чтобы решить все задачи, которые ставила перед ними Северная война, требовались не только знания, а «искра божья» – способности, получаемые в дар от природы при рождении.
Судя по ходу событий, подобных задатков Майделю досталось не много. Хотя поиск выхода из сложившейся к тому времени отчаянной ситуации он повел в правильном направлении, начав первым делом налаживать взаимодействие с Шлиппенбахом. Но Эстляндия с Финляндией уже не имели сухопутного сообщения, а шведская эскадра, присланная Стокгольмом в Финский залив, была слишком мала, чтобы создать полноценную коммуникацию и предоставить возможность наземным группировкам быстро оказывать помощь друг другу. И, самое главное, генерал все-таки не нашел каких-либо оригинальных и неожиданных ходов, подготавливая свои наступления на Петербург.
В 1704 г. он пробился к месту слияния Невы и Охты, однако взаимодействия с моряками организовать не сумел. Оставшись без поддержки с приморского фланга, Майдель не рискнул бросить свои немноголюдные подразделения на штурм хорошо укрепленных русских позиций в невском устье и отошел обратно к Выборгу.
На следующий год генерал предпринял еще одну попытку комбинированным ударом с моря и суши овладеть Петербургом. Он получил кое-какие пополнения и возможность сотрудничать с более сильной эскадрой. Но Петр I уже успел хорошо укрепить дельту Невы со стороны залива. Да и сами шведские моряки не проявили особой изобретательности при планировании атак. Поэтому все их наскоки неприятель отразил. И Майделю опять пришлось рассчитывать только на свои сухопутные силы. А это означало, что подавляющее количественное превосходство оставалось за противником.
К тому же организация наступления хотя и соответствовала канонам тактики тех лет, но вновь выглядела бесхитростно и прямолинейно. Как и в минувший год, шведы пробились к самому Петербургу. Даже форсировали Большую Невку и заняли Каменный остров. Но штурмовать сильные укрепления других островов невской дельты не рискнули. А выходить в чистое поле для сражения русские не пожелали.
Тогда Майдель решил поискать счастья у Шлиссельбурга, но и там неприятеля врасплох не застал. Для долгих осад он не имел ни сил, ни времени и в конечном итоге, так и не добившись решительного успеха, принужден был отвести солдат назад в Финляндию.
В 1706 г. выборгская группировка подкреплений не получила, поэтому замыслы серьезного наступления на Петербург пришлось отложить и ограничиться отвлекающим рейдом. Начался он в июле. Скандинавам опять удалось выйти к Неве и даже форсировать ее в среднем течении. Разорив южный берег реки до самого залива, Майдель к концу августа спокойно вернулся обратно. Однако большого вреда противнику его экспедиция не нанесла. Русские все еще опасались ввязываться в серьезные полевые сражения, предпочитая отсиживаться за крепостными стенами.
Этой кампанией самостоятельное командование на столь большом театре боевых действий для Майделя закончилось. Отсутствие успехов в любой армии мира чревато отставкой, тем более что Карл XII наконец-то расправился со всеми противниками на западном фронте и приступил к планированию похода на Москву. Из Финляндии королевскую армию должен был поддержать отдельный усиленный корпус, руководство над которым скандинавский монарх решил вручить генералу Любеккеру.
Любеккер Георг (1650—1718), барон, генерал-лейтенант с 1710 г. Участвовал в Северной войне с 1700 по 1713 гг. Командовал шведской группировкой в юго-восточной Финляндии в 1707—1710 и 1712—1713 гг. Руководил наступлением на Ингрию в 1708 г. и обороной северного побережья Финского залива в 1712—1713 гг.
Любеккер был классический командир-служака. Он относился к тем офицерам, кто делал свою карьеру на поле боя, а не на дворцовом паркете. Впрочем, кабинетных вояк в армии Карла XII насчитывалось не много, поскольку сам король после достижения совершеннолетия все время находился при войсках в походах и сражениях. К Любеккеру он благоволил, и когда настала пора готовить вторжение в Россию, именно его выбрал на должность командующего самым северным участком предстоящего театра боевых действий.
Из Финляндии предполагалось нанести вспомогательный удар по Ингрии и районам, прилегающим к Новгороду и Пскову. Зная, как царь дорожит этими территориями, а также строящимся на Балтике флотом, король рассчитывал такого рода демонстрацией отвлечь к Петербургу с главного московского направления крупные соединения русской армии и попутно нанести неприятелю максимально возможный ущерб.
К 1708 г. финляндская группировка шведов наконец-то получила ощутимые подкрепления. Численность ее солдат превысила 12 000 человек. По масштабам Северной войны это была солидная сила, способная при условии наличия соответствующих технических средств и разумном использовании добиться значительных результатов. К сожалению для шведов, на этот раз им не хватило именно средств.
Легче всего решить вышеупомянутую задачу можно было путем возвращения крепостей, потерянных несколькими годами ранее. Однако для этого требовалось большое количество крупнокалиберной артиллерии, не говоря уж о прочем снаряжении и о времени, необходимом для правильных осад. Всем вышеперечисленным Любеккер не обладал. Поэтому его приоритетные цели в свете требований военной науки XVIII в. смещались с основных армейских и морских баз на центры кораблестроения Петра I. Верфи, кроме петербургской, имели не столь сильные фортификационные сооружения, как крепости. А значит, представляли собой более легкую, но столь же ценную добычу.
Однако русские кораблестроительные предприятия располагались на огромной площади от Онежского до Чудского озер. Для создания им реальной угрозы представлялось необходимым организовать несколько озерных и речных флотилий, способных быстро перекидывать войска из одного удаленного места в другое. Но в реальности Любеккеру послали эскадру морских кораблей для действий в Финском заливе. Проникнуть в водоемы Ингрии она не могла. Да и вообще воевать на реках и озерах удобней гребными судами. Однако для их постройки генерал не имел средств. Перенапряженная экономика Швеции стремилась избежать расходов при обеспечении вспомогательных операций. В результате пришлось планировать обыкновенный рейд с целью разорения территории противника.
В принципе это нормальная цепочка рассуждений полководца европейской школы, где владения государств сравнительно невелики, а сами страны существуют лишь за счет рационально отлаженного сложного хозяйства. Угроза опустошения для них подобна смертоносному дамоклову мечу, и задача обороны своих земель всегда являлась основной для любой западной армии. Но российская жизнь и логика мышления основываются на совершенно иных иррациональных принципах, что неоднократно ставило в тупик не только Любеккера, но и других, несравнимо более талантливых и знаменитых персонажей мировой истории. Нечто подобное случилось и на сей раз.
В ожидании шведского вторжения Петр I приказал превратить в выжженную пустыню все приграничные провинции. В их число, естественно, попала и Ингрия. Царский указ исполнили очень добросовестно, угнав на восток почти всех жителей и уничтожив все, что невозможно было увезти.
Таким образом, цель рейда Любеккера была воплощена в жизнь самим неприятелем, и чтобы выполнить задачу, поставленную королем, ему требовалось придумать что-то новое и оригинальное. Однако любой более дерзкий замысел подразумевал и большие размеры операции. Следовательно, повышались степень сложности и риск неудачи. Подобную ответственность генерал на себя брать не стал, предпочтя следовать уже утвержденному плану.