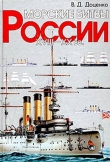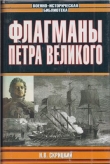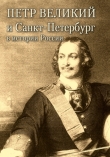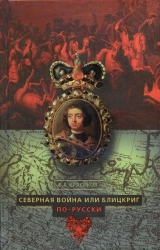
Текст книги "Северная война или блицкриг по-русски"
Автор книги: Вячеслав Красиков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Александр Арчилович узнал об этом, наблюдая за дальнейшим ходом войны только как пленник. Вызволять его из неволи царь не спешил [110]110
Хотя сохранял за ним до самой смерти чин генерал-фельдцейхмейстера и высылал в соответствие с правилами половинный должностной оклад – 720 рублей в год – немалую по тем временам сумму.
[Закрыть]. По всей видимости, он в значительной степени разочаровался после Нарвы в способностях приятеля юности. Поэтому переговоры о его обмене затянулись до 1711 г., когда соглашение наконец было достигнуто.
Но капризная судьба самый жестокий удар для Имеретинского припасла напоследок. Она не дала ему не только еще раз взглянуть на горы полузабытой Грузии, но даже не позволила добраться до российской границы. В момент отъезда из Стокгольма он неожиданно заболел и скоропостижно умер.
Но столь печальный эпилог потомка Багратидов для оказавшихся в плену российских генералов стал единственным исключением. Другие нарвские неудачники благополучно вернулись домой. Однако даже первому «не немцу» пришлось ждать этого момента целых десять лет.
Бутурлин Иван Иванович (1661—1738), генерал-аншеф с 1721 г. Участвовал в Северной войне с первого и до последнего дня, кроме 1701—1710 гг., когда находился в плену. Использовался как командир тактических соединений. Крупных самостоятельных операций не проводил. С 1719 г. член Военной коллегии.
Иван Бутурлин происходил из старинного русского дворянского рода, считавшего своих предков от «мужа честна» Ратши, который перебрался на службу к новгородцам в конце XII в. «из немец». За последующие столетия эта фамилия среди московских воевод стала одной из наиболее распространенных, но будущий генерал-аншеф начал свою карьеру с далекой от ратных дел должности спальника, которая, впрочем, считалась весьма престижным местом для молодого выходца из известного старомосковского клана. Вскоре его повысили до звания комнатного стольника при царевиче Петре, что и предопределило близость этих двух людей на предстоящие десятилетия.
Вопреки солидной разнице в возрасте Бутурлин быстро и прочно вошел в компанию самых лучших друзей юного царя (где, между прочим, получил несколько загадочную и грубоватую кличку, которую в солидных исследованиях воспроизводить неприлично). Он добросовестно участвовал во всех его военных играх, поэтому когда был организован первый петровский «потешный» полк, то потомка «немчина Ратши» сразу же возвели в чин премьер-майора нового подразделения.
В 1689 г. он подтвердил свою верность монарху в реальном деле, став одним из самых активных его помощников в борьбе против царевны Софьи. После чего Иван Иванович уже не сходил с традиционной дороги предков, полностью посвятив себя воинской службе. В первой половине 90-х гг. он часто командовал одной из армий в учебных сражениях, а затем был среди главных руководителей, возглавлявших русские соединения во время обоих азовских осад.
Вместе с тем этот человек оказался не способным подняться над той средой, из которой вышел. Несмотря на близость к царю-реформатору, он не сумел стать его сознательным помощником, а остался в лучшем случае цепным государевым псом, преданным, но не понимающим смысла хозяйской жизни. До самой смерти он сохранил верность старомосковскому образу мысли и стереотипу поведения, что было очевидно даже его современникам. Так, например, в записках одного из первых по европейски образованных россиян – князя Куракина – Бутурлин характеризуется, как человек никудышный – «злорадный и пьяный и мздоимливый».
Но в период подготовки нападения на Швецию Иван Иванович еще продолжал оставаться в числе основных действующих лиц российской армии и одним из первых получил генеральское звание. После официального объявления войны он принял командование над авангардом петровского войска, выступившего из Москвы на театр боевых действий 4 сентября 1700 г. В составе его отряда находились гвардейские полки, и большую часть дороги до Нарвы вместе с ним двигался сам царь.
К стенам шведской крепости бутурлинский корпус добрался ровно через месяц, а затем всю осень пытался сдавить ее тисками осады. Однако все усилия оказались напрасными. Цитадель устояла, дождавшись помощи Карла XII. Сражение с ним оказалось для петровской армии той последней каплей, груза которой она выдержать уже не могла.
Среди общего хаоса паники и повального бегства устояла лишь царская гвардия. Но заслуга этого подвига принадлежит не Бутурлину. Просто преображенцы и семеновцы были уже хорошо обучены иностранными офицерами. Впрочем, гвардию тоже в конечном итоге заставили прекратить сопротивление, после чего Ивану Ивановичу почти на десять лет пришлось отдать свою шпагу противнику.
Только после Полтавской битвы (и к тому же не в последнюю очередь благодаря джентльменскому поведению шведского генерал-майора Мейерфельта, сдержавшего обещание добиться в ответ на свое освобождение «вольной» для Бутурлина) гвардейцу-боярину удалось вернуться домой.
А поскольку Северная война тогда еще всего лишь подходила к своему экватору, и в русских вооруженных силах по-прежнему ощущался дефицит опытных военачальников, то царь сразу же ввел Бутурлина в состав действующей армии. Ее основная масса зимой 1710—1711 гг. перебрасывалась на юг для борьбы с турками, где недавнему пленнику отводилась роль командующего отдельным корпусом из восьми полков, который предстояло развернуть на северных подступах к Крыму.
Пока он этим занимался, Прутский поход Петра I закончился неожиданным быстрым и полным фиаско. Поэтому с турками Ивану Ивановичу повоевать не пришлось. Но вскоре его бросили на подавление очередной «бузы» запорожских казаков, не имевшей, впрочем, опасных размеров. После чего он опять вернулся в Прибалтику и в 1712 г. руководил войсками, располагавшимися в Курляндии.
Однако уровень его полководческих способностей уже не удовлетворял возросших требований российского монарха. Поэтому в последней трети Северной войны Петр не доверял Бутурлину самостоятельного командования над крупными армейскими соединениями. Старого гвардейца постепенно обогнали молодые генералы, под руководством которых он и участвовал в заключительных битвах со шведами.
Правда, в политическом плане царь, как и прежде, полагался на своего испытанного подручного. В 1718 г. он ввел его в трибунал, судивший царевича Алексея. А через несколько месяцев включил в состав Военной коллегии. Кроме того, именно Бутурлин в последние годы правления Петра Великого командовал гвардией, что доверялось лишь исключительно преданным людям.
В дни празднования подписания Ништадтского мира Иван Иванович в награду за верную службу получил чин генерал-аншефа, но вскоре после смерти первого российского императора его карьера завершилась самым печальным образом. Причиной этого краха стала давняя вражда с Меншиковым, который путем интриг и прочих закулисных происков в 1727 г. все-таки сумел выиграть затянувшуюся борьбу. Бутурлина лишили всех наград, чинов, имений и сослали в глухую деревню Владимирской губернии, где он прожил всеми забытый и покинутый еще 11 лет.
Этот человек стал единственным российским, не иностранным, генералом Северной войны, который после долгого плена сумел вернуться в строй действующей армии и внести посильную лепту в окончательную победу над шведами. Но все-таки наиболее интересной личностью из бывших невольных скандинавских сидельцев был другой его товарищ по несчастью.
Долгорукий Яков Федорович (1639—1720), князь, боярин, генерал-пленепотенциар-кригс-комиссар с 1711 г. Принимал непосредственное участие только в первой кампании Северной войны, так как попал в плен под Нарвой. В 1711 г. сумел бежать на родину.
Семья Долгоруких относилась к наиболее родовитой российской знати, восходя по генеалогическому древу к самому основателю древнего варяжско-русского государства князю Рюрику. Предки Якова Федоровича с незапамятных пор считали себя потомками той ветви рюриковичей [111]111
Состоявшей из двадцати восьми родов, в число коих входили столь известные фамилии, как Одоевские, Оболенские, Барятинские и т. д.
[Закрыть], которая произошла от жившего в XII в. черниговского князя Михаила, возведенного позднее православной церковью в ранг святых.
В Московии середины XVII столетия эти детали генеалогии играли очень важную роль, во многом определяя биографию их носителя. Пользуясь современной терминологией, можно написать, что Якову Долгорукому в том обществе, где он появился, открывались самые престижные дороги. А для успешного продвижения по ним ему было достаточно даже скромного уровня интеллекта и минимального количества энергетических затрат.
Но князю повезло втройне, поскольку природа наделила его умной головой, и в детстве, кроме всего прочего, он воспитывался ученым наставником из поляков. Таким образом, мальчик получил редчайшее для России того времени, почти европейское образование. Достаточно сказать, что он свободно владел латинским языком. Поэтому его судьба и путь будущего царя-реформатора, несмотря на более чем 30-летнюю разницу в возрасте, просто не могли не переплестись после того, как у венценосного подростка прорезался интерес к окружающему миру.
Влияние потомка черниговских Рюриковичей на юного Петра оказалось столь очевидным, что правительница Софья начала опасаться плодов этого процесса и поспешила отправить в 1687 г. Якова Федоровича послом во Францию и Испанию. Оттуда, кстати, князь и привез знаменитую астролябию, упоминающуюся практически в каждой книге о Петре I, поскольку данный инструмент, вкупе с не менее известным английским парусным ботиком, стал своеобразным символом тяги царя к европейской цивилизации.
Само же посольство оказалось неудачным. Главная цель – склонить французов к союзу против турок – была совершенно нереальна и раскрывала абсолютное невежество московитов в элементарной политике. Поэтому русские дипломаты не только не выполнили своей задачи, но и в очередной раз опозорились, представ неразумными дикарями на посмешище перед Западом. Однако тогда, кроме самого Долгорукого, это мало кто понял. Спустя год князь вернулся в Россию и утешился долгими беседами с повзрослевшим Петром, жадно слушавшим рассказы о европейских «чудесах».
В последовавшем вскоре противостоянии с Софьей Долгорукий, не раздумывая, принял сторону молодого царя. Он одним из первых приехал в Троице-Сергиев монастырь, где нашел укрытие будущий самодержец. Наградой за верность стал пост начальника Московского судного приказа. Но встретить на этой спокойной должности приближающуюся старость Якову Федоровичу не удалось, так как в скором времени ему пришлось осваивать и военное дело.
Любую науку, а тем более «марсову потеху», когда человеку идет шестой десяток, изучать поздновато. Тем не менее Долгорукий участвовал в обоих азовских походах, после чего Петр, перед отъездом в заграничное путешествие, возложил на него руководство охраной всех южных границ. Удивительно, но уже в том же 1697 г. князь удачно отразил нападение татар на Украину, за что был «пожалован боярином и воеводой», став в ряду последних русских людей, получивших подобные звания.
К началу XVIII в. вал кардинальных петровских реформ уже в полную силу ударил в прогнившую обитель «Святой Руси», потряся все ее здание до самого основания. В первую очередь азиатские устои Московии расшатывались ради создания новой армии – старательного подражания европейской вооруженной силе, в которой авторитетному боярину также нашлось достойное место. В 1700 г. он был назначен генерал-комиссаром с обязанностью руководить всеми комиссарскими и провиантскими частями.
Спустя несколько месяцев Россия ввязалась в Северную войну, и Долгорукий вместе с львиной частью царского войска оказался под Нарвой. Там он разделил судьбу большинства своих соратников, попав в плен к противнику. Именно на него, как на наиболее родовитого и старшего по возрасту русского генерала, легла горькая ноша руководить последним военным советом, собранным прямо в грязном окопе. А после решения о капитуляции возглавлять скорбную делегацию к шведскому королю, до дна испив унизительную чашу побежденного военачальника.
Весной 1701 г. князя переправили на Скандинавский полуостров, где ему и пришлось прожить следующий десяток лет своей уже давно начавшей клониться к закату жизни. Сначала он содержался в Стокгольме, затем в Якобштадте, а летом 1711 г. Якова Федоровича опять задумали переместить – в город Умео, расположенный на западном побережье Ботнического залива. Путешествие туда Долгорукий совершал на шхуне в обществе других русских пленных в количестве 44 человек. Охраняли их 20 шведов.
В этот момент судьба и послала старому Рюриковичу самое звездное мгновение в его жизни. Воспользовавшись беспечностью экипажа, генерал поднял своих товарищей по несчастью на бунт, завершившийся триумфальным успехом. Противника обезоружили, корабль захватили, а шкипера принудили изменить курс на Ревель, перешедший уже к тому времени в русские руки.
Петр, обрадованный появлением нежданных беглецов, устроил им восторженную встречу. Князя сразу же ввели в состав недавно учрежденного сената и вновь поставили во главе комиссариатского ведомства с единственным в своем роде званием-титулом «генерал-пленипотенциар-кригс-комиссар». Впрочем, способности военачальника все-таки не входили в число главных достоинств Долгорукого. И поэтому в боевых действия он больше уже не участвовал. А вот на административном поприще не раз доказывал свою полезность, демонстрируя и глубокий ум, и яркую индивидуальность характера.
Американский историк Роберт Масси, желая подчеркнуть незаурядную роль Якова Федоровича в петровском правительстве, сравнивает его со знаменитым римским консулом Катоном Старшим. Этот автор в своем исследовании вообще уделяет князю немало внимания и дает ему следующую характеристику: «…На портрете Долгорукий предстает перед нами мужчиной могучего телосложения, с двойным подбородком и пышными усами. Он не выглядит придворным щеголем, зато производит впечатление человека проницательного, хотя и отличающегося горячим нравом. Так оно и было, к тому же Долгорукий был смел, упрям, своеволен и любил настоять на своем. Когда у него не хватало доводов, чтобы убедить противника в своей правоте, он попросту брал горлом. Один только Меншиков, пользовавшийся особым покровительством государя, не боялся перечить вспыльчивому старику…»
К сему можно добавить, что князь, не смущаясь перед гневом Петра, часто вступал с ним в споры по различным вопросам государственного управления и неоднократно выходил из этих «диспутов» победителем. Во время длительного шведского плена он хорошо изучил административное устройство скандинавов, что оказалось чрезвычайно полезным в период работы над организацией знаменитых петровских коллегий. В 1717 г. Долгорукий возглавил, пожалуй, самую актуальную из них для России всех времен – Ревизионную. До конца своих дней он продолжал тянуть воз главного управленца, за что официально именовался «первоприсутствующим» сенатором. К сожалению, князь не увидел победного завершения Северной войны, не дожив всего года до заключения Ништадтского мира.
На боярине-западнике Якове Федоровиче и завершается список русских генералов, ставших главными неудачниками «нарвской конфузии». И хотя мы бросили на них только беглый взгляд, даже такое «шапочное» знакомство не оставляет сомнений в том, что тяга к познанию военного искусства, а тем более полководческие способности явно не входили в число тех достоинств, которыми эти люди были одарены от природы.
Их «командирский образ» оказывается столь блеклым, что за минувшие три века отечественная историография, традиционно склонная к «надуванию щек» в вопросах «воинского величия России», при всем желании так и не смогла найти в среде петровских военачальников первого призыва персонажа, хотя бы мало-мальски пригодного для «поднятия на щит» в качестве противовеса по отношению к доминирующей роли европейцев в деле создания русской полководческой школы. Отчего и имена этих генералов в нашей стране сейчас знает далеко не каждый специалист-историк, не говоря уж о широкой читательской аудитории.
Глава 3.
«РУССКИЕ НЕМЦЫ»
Наказанный мавзолеемТочной статистики количества иностранных наемников, служивших в годы Северной войны под царскими знаменами, нет. С уверенностью можно лишь сказать, что таковых было несколько тысяч, и в том числе более полусотни генералов. Некоторые из них погибли в боях (например, генерал-майор Швейден убит в сражении у Головчина, а генерал-майор Видеман – при штурме Браилова), значительная часть по окончании контрактов вернулась в Европу, а меньшая половина прижилась в России. Но независимо от своей дальнейшей судьбы именно иностранцы стали той точкой опоры, опираясь на которую Петр Великий сумел развернуть свою страну с тупикового азиатского пути на перспективную дорогу, ведущую к западной цивилизации.
Даже краткий рассказ обо всех интересных личностях из числа европейских ландскнехтов в России того времени составит многотомный труд, поэтому автору пришлось ограничиться только теми людьми, карьера которых получилась наиболее эффектной. Начиная главу о них, хочется обратить внимание читателей на важнейшее достижение русского царя-реформатора. Историки почему-то упорно оставляют его за рамками своих исследований. А между тем Петр стал первым из восточных владык, кто сумел наиболее творчески воспользоваться старым, как мир, институтом военного наемничества. Ведь со времен Фермопил и Марафона, когда экспансию огромной Персии остановила крошечная Греция, ленивые умом азиатские деспоты постоянно покупали услуги представителей европейского военного искусства, но ни разу не аккумулировали их опыт и не создали собственную «продвинутую» армейскую машину.
Главной проблемой «новоманирных» полков, которые Петр Великий начал формировать для войны со Швецией, являлось полное отсутствие отечественных специалистов, имевших хотя бы приблизительное понятие о том, что вообще собой представляет регулярная армия Запада их эпохи. Поэтому в первое десятилетие противоборства с Карлом XII Петр прилагал титанические усилия, стараясь нанять в Европе умелых военных профессионалов.
Но ситуация осложнялась тем, что услуги квалифицированных офицеров стоили недешево, а возможности русской казны в этом плане были весьма невелики. Вдобавок одновременно с Северной войной разразилась так называемая война за испанское наследство. Она втянула в себя все крупные передовые государства, что еще более повысило стоимость бывалых вояк, которые к тому же совсем не горели желанием ехать в далекую и неведомую Россию.
Особенно тяжело оказалось найти генералов для верховного командования. Что, в общем-то, и понятно. Чем солидней человек, тем меньше у него резонов пускаться в авантюры – спешить куда-то за пределы цивилизованного мира, дабы там возглавить каких-то неведомых московитов для войны с уважаемым всей мировой общественностью того времени королевством.
Кандидатов на роль главнокомандующего царь начал подбирать еще в период «Великого посольства» 1696—1698 гг. Однако все переговоры на данный счет закончились неудачно, и в первый поход Северной войны русские, войска вынужден был вести лично Петр I, сам еще очень слабо представлявший, как это делается. Но когда авангард его полков прошел уже большую часть дороги по направлению к намеченной цели, совершенно неожиданно в Новгороде он встретил, как ему показалось, одного из тех, кого столько времени искал. Этого человека царю и удалось уговорить принять на себя бремя первого главнокомандующего.
* * *
Кроа-де-Крои Карл-Евгений фон (1651—1702), герцог Франции, князь Священной Римской империи. Фельдмаршал австрийской и саксонской армий. На русскую службу принят в 1700 г. в том же чине. Участвовал в Северной войне в качестве командующего русской армией. В сражении у Нарвы попал в плен, где и умер.
Фельдмаршал Кроа происходил из очень знатной фамилии, восходившей к венгерскому королевскому роду династии Арпадов. В XII веке один из его мадьярских предков переселился во Францию и женился на Екатерине де Крои, владевшей большими поместьями вдоль реки Соммы. Потомки от этого брака в XVI столетии получили от императора Священной Римской империи Максимилиана княжеское достоинство, а от французского короля Генриха IV герцогский титул.
Сам Карлевгений родился в Испанских Нидерландах. Общественное положение семьи открывало перед ним много заманчивых дорог, но он выбрал судьбу солдата. В течение своей жизни Кроа служил четырем европейским дворам и был активным участником нескольких вооруженных конфликтов. Аристократическое происхождение в ту эпоху значило очень многое, ощутимо облегчая карьеру. И в 25 лет герцог имел уже звание генерал-майора. Начальный полководческий опыт он приобрел во время Сконской войны 1675—1679 гг. в составе датской армии, где ему пришлось впервые скрестить оружие со шведами.
«Первый блин», вопреки обыкновению, видимо, вышел «не комом», поскольку потомок венгерских монархов вскоре получил от короля Кристиана V звание генерал-лейтенанта. Затем он перебрался в Вену под знамена императора Леопольда I, войска которого в 1683 г. в очередной раз вступили в противоборство с Турцией. В австрийской армии герцог сражался бок о бок со многими недавними противниками-скандинавами, не подозревая, что потом судьба их вновь разведет по враждебным лагерям.
Впрочем, во времена просвещенного абсолютизма в Европе это считалось обычным явлением. Профессиональные военные в большинстве своем честно отрабатывали зарплату и вместе с тем легко меняли мундир одного государства на другой. Что, кстати говоря, и помогло русскому царю, в конце концов, набрать столь необходимых ему специалистов. А одной из «первых ласточек» стал именно Кроа.
Отслеживая его карьеру в войсках Леопольда, большинство зарубежных аналитиков считают, что по совокупности своих достижений в период войны «Священной лиги» с турками герцог, хотя и получил звание фельдмаршала, но не оправдал тех авансов перспективного военачальника, что выдали ему в молодые годы. Он участвовал во многих победных битвах, руководя соединениями австрийской армии, однако когда в 1693 г. его назначили главнокомандующим, то вышел конфуз. Не сумел герцог правильно организовать осаду Белграда и отступил от его стен с большим уроном.
Кроме неудач на высоком посту, он прославился и неумеренным образом жизни – пьянством, а также крупной игрой в карты. Поэтому в Вене отношение к Кроа становилось все прохладнее. И вскоре должность командующего ему пришлось уступить Евгению Савойскому, который в короткий срок полностью разгромил турецкие полчища, заставив султана отдать императору обширные территории Венгрии, Хорватии, Словении и Трансильвании.
Это и стало главной причиной ухода Карла-Евгения с престижной австрийской службы. Но Леопольд I все же снабдил фельдмаршала рекомендательным письмом к русскому царю, где представлял Кроа как «храброго, опытного генерала» и просил «дозволить ему снискать новую славу под знаменами русскими».
Петр I в это время находился в Европе в составе «Великого посольства» и, видимо, уже знал о подпорченной репутации герцога в период последней войны с османами. Но поскольку других более или менее известных кандидатур на вакансию командующего будущей русской армией найти в западных странах московским дипломатам не удалось, то после нескольких месяцев раздумья царь согласился принять Кроа к себе на службу.
Смена блестящего венского двора на забытую богом Московию (ехать куда соглашались даже далеко не все откровенные неудачники без роду и племени) для человека того общественно-социального слоя, который представлял герцог, выглядела разновидностью личной катастрофы. Поэтому он не слишком торопился со сборами в Россию и, как оказалось, не прогадал. Его персоной заинтересовался молодой саксонский курфюрст Август Сильный, получивший в скором времени еще и польскую корону.
Хозяин Дрездена и Варшавы имел на ближайшее будущее амбициозные планы и старался укрепить свои войска опытными военачальниками. Но заполучить звезд первой величины ему не удалось. Что в конечном счете и трансформировалось в удачу для Кроа. Правда, мундир саксонской армии после австрийского тоже не сильно впечатлял, но все же это было уважаемое соседями европейское государство. И герцог отдал свою шпагу в распоряжение Августа, с облегчением отказавшись от перспективы сомнительных удовольствий роли главного военспеца экзотического московского царства.
Однако перехитрить судьбу фельдмаршал не сумел. Беспощадный рок упрямо тащил его навстречу трагическому финалу в Россию. Через два года саксонцы в союзе с датчанами выступили против Швеции, развязав, таким образом, долгий и тяжелейший для обеих сторон 20-летний конфликт. Через несколько месяцев к союзникам присоединились и русские, отправившие многочисленную «рать» в поход на принадлежавшие скандинавам ливонские земли.
Война, как известно, всегда являлась разновидностью узаконенного разбоя, сопровождаясь разорением тех территорий, где проходили боевые действия. Не стала исключением из правил в этом смысле и первая кампания петровской армии. Ее части, перейдя границу противника, сразу же принялись грабить и жечь попадавшиеся им на пути деревни. Но Ливония, по предварительному договору между союзниками, после предполагавшейся победы предназначалась Августу. Поэтому король-курфюрст, узнав об опустошении будущих владений, не на шутку встревожился. И решил срочно отправить к Петру I авторитетного посланника с просьбой максимально ограничить масштабы мародерства. А в качестве компенсации за ущерб выпросить у царя 20-тысячный вспомогательный корпус.
Таким образом, в конце лета 1700 г. фельдмаршалу все же пришлось отправиться в Россию. В сентябре он добрался до Новгорода, где встретился с московским монархом. Петр пообещал учесть, насколько возможно, просьбы Августа. И в то же время с первой же беседы принялся уговаривать Кроа возглавить русскую армию, главные силы которой уже выдвигались к крепости Нарва.
Герцог был достаточно искушенным солдатом, прекрасно понимавшим, что собой представляют наскоро собранные царские полки. Руководя ими, в противоборстве с серьезным противником надеяться на победные лавры не приходилось. Скорее в такой ситуации светила перспектива потерять остатки авторитета. И Кроа под различными предлогами отклонял предложения Петра I. Однако тот продолжал настойчиво уговаривать фельдмаршала, задержав его около себя в качестве советника-консультанта. В итоге под Нарву они отправились вместе.
В течение всей осени Карлевгений находился рядом с царем, участвуя в рекогносцировках, помогая планировать и воплощать в жизнь мероприятия по осаде шведской крепости. Все они оказались напрасными. Но доля вины фельдмаршала в неудачах не слишком велика. Реальной властью в эти недели он не обладал. Даже наоборот – продолжал всячески уклоняться от любой официальной должности в русских войсках. До того момента, когда Петр узнал, что к Нарве со своими главными силами стремительно приближается Карл XII. Понимая, что шансов на победу в предстоящем сражении почти нет и, видимо, растерявшись, царь решил покинуть армию, а вместо себя оставить герцога, чье реноме, хотя и не очень удачливого, но все же по-европейски ученого полководца, оставляло призрачные надежды на не самый худший исход.
Вызвав фельдмаршала, российский монарх вновь предложил ему должность главнокомандующего. Кроа опять было принялся отговариваться. Однако настроение и тон Петра I на сей раз не располагали к дискуссии. И герцог не рискнул усугублять привычным набором отказных аргументов несчастное душевное состояние «его величества». А тот, вырвав у гостя согласие, сейчас же уехал.
Минутная слабость обернулась для фельдмаршала мрачной метаморфозой, которая привела бы в ужас и более уверенного в себе генерала. Врученная ему огромная власть азиатского владыки [112]112
О чем недвусмысленно указывалось в спешно составленной инструкции: «…все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой во всем, яко самому его царскому величеству, под тем же артикулом…»
[Закрыть]на поле боя была бесполезна. Она не могла превратить почти необученных мужиков-новобранцев в солдат-профессионалов. К тому же, не зная русского языка, он не имел возможности полноценно отдавать приказы и контролировать их исполнение. В довершение всего оказалось, что никакой достоверной информацией о противнике его новые подчиненные не обладали, поскольку разведку никто не организовывал.
Русские полки располагались в виде большой тонкой подковы, окружавшей шведские бастионы на западной стороне реки Наровы и упиравшейся концами в ее берега. Подобная дислокация предоставляла шведам редкий вариант очень легко нейтрализовать единственный козырь петровских войск – многократное численное превосходство. Собрав силы в кулак и ударив по любому участку хрупкой подковы, скандинавы наверняка «резали» боевой порядок противника, а затем также свободно сминали растянутые в стороны фланги. Быстро отступить и перестроиться русским не позволяла протекавшая в ближнем тылу широкая река. О постройке переправ через нее в течение всей осени никто не подумал. Поэтому достичь правого берега можно было только по единственному мосту, находившемуся на северном фланге позиции.
Однако вконец расстроенный герцог не стал передвигать полки и пытаться хотя бы отчасти устранять недостатки. Вместо этого он поспешил запастись протоколом коллективной безответственности – собрал военный совет. Мнение генералов оказалось почти единодушным – ничего не менять, а, спрятавшись за укреплениями, ждать атак неприятеля. Русские исходили из богатого горького опыта прежних полевых боев со шведами. А иностранцы обоснованно опасались, что спешная перегруппировка необученных частей окончится всеобщей неразберихой.
Конечно, в подобных аргументах содержалась большая доля истины. Но, заведомо отдавая инициативу врагу, армия вообще лишала себя даже теоретических шансов на то, чтобы избежать разгрома, чем не преминул воспользоваться подошедший 30 ноября Карл XII. Он мгновенно оценил все те выгоды, которые столь любезно создали ему сами русские. И блестяще разыграл сражение по напрашивавшемуся сценарию.
Первый же стремительный бросок королевских батальонов решил исход битвы. Они прорвали центр обороны неприятеля и обратили в бегство располагавшиеся там подразделения. Паника мгновенно перекинулась на большинство полков русской армии, превратив их в охваченную ужасом толпу, бросившуюся к единственному мосту, который под напором лавины людей и лошадей рухнул в ледяную воду. Вплавь перебраться на восточный берег удалось лишь некоторой части кавалеристов. Все остальные попали в ловушку.
Фельдмаршал Кроа, увидев, как дрогнули вверенные ему царем войска, попытался восстановить порядок. Но все его усилия пропали даром. Солдаты, обезумев от страха, уже меньше всего думали о продолжении боя. Воспитанные в традициях православной ксенофобии, они, заметив, что именно офицеры-иностранцы – протестанты и католики – мешают им спасаться бегством, привычно обратили на них всю ярость отчаяния. И вскоре многие из тех специалистов, кого с таким трудом Петру I удалось заманить в Россию, были зверски убиты.